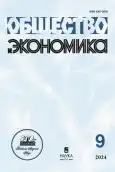Healthcare financing in core countries of BRICS: developing a mixed system
- Авторлар: Chubarova T.1, Shestakova Y.1
-
Мекемелер:
- Institute of Economics (RAS)
- Шығарылым: № 9 (2024)
- Беттер: 5-26
- Бөлім: SOCIAL ISSUES
- URL: https://medbiosci.ru/0207-3676/article/view/270807
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624090017
- EDN: https://elibrary.ru/ANDDJO
- ID: 270807
Толық мәтін
Аннотация
The article examines healthcare financing in the core countries of BRICS in the current multi-faceted crisis, touching upon two aspects, namely the total volume of financing and the organizational framework in which it is carried out. It is shown that in the countries under consideration, despite the differences in the socio-economic situation, the government attaches great importance to the development of healthcare systems, and with a combination of public and private financing, the general trend is to strengthen state participation. This should help to overcome fragmentation of healthcare, considering the need to ensure universal access of the population to medical care. At the same time, the combinations of financing mechanisms used differ by country; the prevailing trend is the widespread use of social health insurance while in the private financing sector the share of “out of pocket” payments is decreasing. The active reforms of healthcare systems in the core countries of BRICS are at various stages of implementation and many of the tasks set are still far from being completed.
Толық мәтін
Введение. Современное мировое хозяйство переживает сложный этап постоянного многоаспектного кризиса, затрагивающего все основные сферы жизнедеятельности общества и связанного с наложением глобальных рисков. Пандемия и ее последствия показали не только недостатки используемых моделей организации и финансирования здравоохранения, но и слабость координации усилий государств в области охраны здоровья населения.
Особый интерес в плане развития сотрудничества в укреплении национальных систем здравоохранения и совместного решения глобальных проблем охраны здоровья представляют государства ядра БРИКС, куда входят РФ, Бразилия, КНР, Индия и ЮАР. На территории рассматриваемых стран проживает 40% населения Земли, а их доля в мировом ВВП достигает 1/3.
Развитие национальных систем здравоохранения в рассматриваемых странах в глобальном контексте сталкивается с рядом схожих проблем, связанных с необходимостью:
- обеспечения приоритета здравоохранения при формировании стратегий социально-экономического развития общества;
- преодоления существенных территориальных и социальных диспропорций и достижения сочетания экономической эффективности и социальной справедливости в сфере здравоохранения;
- снижения заболеваемости как неинфекционными, так и такими инфекционными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит.
Во многом эти задачи определяются общемировыми процессами, в том числе целями устойчивого развития, выдвигаемыми ООН. Одной из магистральных тенденций является усиление роли здравоохранения в обеспечении конкурентоспособности стран, в том числе – на основе понимания инвестиций в здоровье как важнейшего детерминанта успешного развития экономики.
Вместе с тем страны ядра БРИКС различаются между собой по параметрам социально-экономического развития, что безусловно отражается на развитии национальных систем здравоохранения, их способности отвечать на глобальные и национальные вызовы. Государства данной группы имеют разный эпидемиологический профиль, влияющий на заболеваемость и смертность, в них по-разному идут процессы реформирования систем охраны здоровья населения и др.
В данной статье рассматриваются вопросы финансирования здравоохранения в странах ядра БРИКС. Исходя из общих подходов к проблеме, поставлена задача: с одной стороны, проанализировать основные макроэкономические параметры финансирования здравоохранения в этих странах, а с другой – рассмотреть организационные рамки, в которых такое финансирование осуществляется. Это позволит понять те проблемы, которые предстоит решить данным государствам на пути финансового обеспечения нужд системы охраны здоровья населения.
Здравоохранение стран ядра БРИКС: постановка проблемы. В последнее время возрос интерес исследователей к проблематике БРИКС, причем как в России, так и в зарубежных странах. При этом эксперты исходят из понимания того, что обеспечение охраны здоровья населения является одной из важнейших функций современного государства.
Специалисты рассматривают разные аспекты данной проблемы; существует немало работ, посвященных финансово-экономическим и организационным аспектам развития систем здравоохранения отдельно по странам, входящим в ядро БРИКС, анализу их опыта в обеспечении здоровья населения [9, 11, 14, 18, 19]. В этих работах рассматриваются основные вопросы – такие как общий уровень финансирования, механизмы сбора и распределения средств на здравоохранение, роль медицинского страхования и государственных финансов в ресурсном обеспечении здравоохранения [17, 22, 24, 26]. Важной проблематикой исследований является анализ связи уровня финансирования и результатов систем здравоохранения, что все чаще рассматривается в контексте детерминантов (факторов) здоровья населения [27, 28, 30]. Ряд исследований посвящен проблемам сотрудничества стран БРИКС, позиция рассматриваемых стран на мировой арене анализируется в контексте глобализации [1, 5]. Исследователи обращают внимание на растущую роль стран БРИКС на мировой арене в области сбережения здоровья в других государствах [2, 4, 7, 8].
В период пандемии повысилась актуальность проблем, связанных с развитием фармацевтической отрасли, в том числе производством и распределением вакцин [3, 23]. Почти все отмечают важную роль в этом процессе стран ядра БРИКС с точки зрения как лидерства в разработке вакцин, так и усилий по обеспечению равного доступа к ним во всем мире [21]. Вместе с тем отмечается, что сегодня рассматриваемые государства скорее действуют как отдельные страны, а не как объединение [6]. Поэтому есть потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.
С момента образования БРИКС стали активно развиваться сравнительные исследования систем здравоохранения стран-участниц [14]. В этой области ситуация сложная, но когда речь идет об организации и финансировании здравоохранения, то Россия, Китай и Бразилия в основном упоминаются как передовики, тогда как Индия и ЮАР – как отстающие. Следует отметить, что чаще всего сравниваются показатели финансирования, хотя исследователи отмечают, что только финансами нельзя объяснить сходства и различия между странами, важную роль играют и другие факторы [29]. Несмотря на многообразие проблем и вызовов, стоящих перед рассматриваемыми государствами, они в целом смогли существенно увеличить инвестиции в здравоохранение [25].
Важным аспектом исследований стало определение общих проблем, которые стоят на глобальной повестке развития здравоохранения, в этом плане страны ядра БРИКС мало отличаются. Прежде всего следует отметить недостаточное финансирование, дефицит кадров и ограниченные возможности государства в условиях многоаспектного кризиса. Сходным для рассматриваемых стран является использование смешанной государственной и частной ответственности и финансирования, хотя в каждой из них действуют разные комбинации конкретных механизмов [15].
В данной статье будут подробно рассмотрены два вопроса, а именно:
- общий уровень финансирования здравоохранения в разрезе государственного и частного секторов;
- механизмы финансирования, с акцентом на формирование государственно-частных систем финансирования здравоохранения и роли государства.
Авторами использован подход, основанный на традиционном разделении источников финансирования здравоохранения на две группы, а именно: общественные (бюджет и социальное медицинское страхование) и частные (добровольное медицинское страхование (ДМС) и плата «из кармана», «у источника», т. е. в момент получения медицинской помощи). Довольно часто в российских исследованиях общественное финансирование отождествляется с государственным, что в целом допустимо, хотя при этом следует учитывать экономические различия налогов и взносов на социальное медицинское страхование.
Важность рассмотрения вопросов финансирования для развития систем здравоохранения определяется получившим эмпирическое подтверждение положением о наличии положительной связи между, с одной стороны, объемом ресурсов, выделяемых на охрану здоровья, и, с другой стороны, показателями здоровья, прежде всего – продолжительностью жизни населения.
В качества основных эмпирических данных была использована специальная база данных ВОЗ – The Global Health Expenditure Database (GHED), которая дает сравнительные данные по финансовым аспектам здравоохранения более чем 190 стран–членов ВОЗ, начиная с 2000 г. Она определила выбор показателей и временного периода для настоящего исследования.
Расходы на здравоохранение в странах ядра БРИКС: сочетание государственного и частного финансирования. Общий уровень финансирования является одной из основополагающих характеристик системы здравоохранения. Как показано на рис. 1, хотя в целом за 2000–2021 гг. уровень финансирования в рассматриваемых странах был различен, наиболее высоким он был у Бразилии (10% ВВП), к 2021 г. отмечается некоторый рост общих расходов во всех странах, кроме Индии, где они несколько снизились.
Рис. 1. Расходы на здравоохранение в странах ядра БРИКС, % ВВП
Источник: WHО The GlobalHealth Expenditure Database (GHED) (дата обращения 01.08.2024).
Анализ соотношения в общих расходах государственного (вместе с социальным страхованием) и частного финансирования в целом позволяет выявить тенденцию к увеличению роли государства в финансировании здравоохранения стран ядра БРИКС, особенно в период пандемии (рис. 2). Вместе с тем, если в России доля государственных расходов на здравоохранение наиболее высока и достигла в 2021 г. 71% общих текущих расходов на здравоохранение, то в Индии она самая низкая, хотя и увеличилась за период 2000–2021 гг. с 21 до 34%. В Китае наблюдался наибольший рост рассматриваемого показателя по странам ядра БРИКС, который достиг 54% к 2021 г., т.е. увеличился более чем в 2 раза с 2000 г. Рост наблюдался в целом и в ЮАР – с 34% в 2000 г. до 60% в 2021 г. В Бразилии доля государственных расходов на здравоохранение за рассматриваемый период была достаточно стабильной и колебалась в диапазоне 41–46%. Показательно в этом плане сравнение с группой развитых стран, где в целом уровень государственного вмешательства при оказании медицинских услуг достаточно высок, достигает например, в среднем по ОЭСР более 70% общего объема финансирования.
Рис. 2. Государственные расходы на здравоохранение (% от общих государственных расходов)
Источник: WHО The GlobalHealth Expenditure Database (дата обращения 01.08. 2024).
При этом интересно изменение доли обязательного, или социального, медицинского страхования. Она осталась почти на нуле в ЮАР и Бразилии, колебалась в небольшом диапазоне в Индии (с 2% до максимум 6%, в настоящее время вернулась к 2%). Иные уровни и динамика фиксировались в РФ и КНР: в России доля обязательного медицинского страхования росла с 24 до 37% в 2019 г. и снизилась до 28% в 2021 г., в Китае она стабильно растет, увеличившись за рассматриваемый период с 10 до 37%.
Важным показателем, свидетельствующим о приоритетности здравоохранения, является его доля в общих государственных расходах (рис. 3). Здесь на первое место выходит ЮАР, где в среднем она составляла 10–15%, причем это довольно высокий показатель по мировым меркам, а не только для стран БРИКС. К этому уровню приближаются Бразилия (здесь доля здравоохранения достигла 11% государственных расходов в 2021 г.) и Китай, где она стабильно держится на уровне 9%. На другом полюсе расположилась Индия: в стране данный показатель довольно низкий и в течение рассматриваемого периода составлял всего 3–4%. В России здравоохранение также устойчиво занимало 9–10% госрасходов, хотя его доля выросла до 14–15% в период пандемии в 2020–2021 гг. ( рис.4).
Рис. 3. Государственные расходы на здравоохранение, % от текущих расходов на здравоохранение
Источник: WHО The GlobalHealth Expenditure Database (дата обращения 01.08.2024).
Рис. 4. Государственные и частные расходы в текущих расходах на здравоохранение, %
Источник: WHО The GlobalHealth Expenditure Database (дата обращения 01.08.2024).
Противоположная тенденция проявляется в отношении динамики частных расходов, что можно увидеть на рис. 5. Отмечается прежде всего устойчивое снижение доли расходов «из кармана» в текущих расходах на здравоохранение: в ЮАР – более чем в 2 раза (с 14 до 6%), в Китае – тоже почти в 2 раза (с 60 до 34%), в Индии – с 72 до 50%; в Бразилии – с 37 до 23%, в России доля прямой оплаты пациентами услуг до пандемии выросла с 30 до 40%, но в годы пандемии резко сократилась до 27% (в 2021 г.).
Рис. 5. Изменение доли частных расходов в общих расходах на здравоохранение, %
Источник: WHО The GlobalHealth Expenditure Database.
Доля ДМС, другого важного источника частных расходов, довольно существенно различается по странам. Например, в ЮАР она составляет 43% от текущих расходов, правда, это свидетельствует не о широком охвате добровольным страхованием основной массы населения, а скорее о значительной дифференциации расходов в государственном и частном секторах здравоохранения страны. Растет доля частного медицинского страхования в Бразилии (его доля увеличилась с 20 до 28% текущих расходов), а также в Индии и КНР (почти с нуля до 8 и 9% соответственно). А вот в России она незначительна и даже уменьшилась за рассматриваемый период с 3 до 1%.
В итоге наиболее резкий скачок доли государственного финансирования здравоохранения произошел в КНР, в то время как в других странах она тоже росла, но более плавно. Самые низкие показатели государственного финансирования здравоохранения из всех стран ядра БРИКС сохраняются в Индии, хотя они тоже увеличиваются, но с гораздо более скромной базы.
В целом, рост общественного финансирования (государственного и обязательного страхования) позитивно отражается на результатах функционирования систем здравоохранения, при этом необходимо учитывать, что само по себе финансирование не способно решить всех проблем (табл. 1). Среди позитивных тенденций – повышение продолжительности жизни, в том числе и здоровой жизни, рост охвата населения услугами системы здравоохранения. По оценкам ВОЗ, Бразилия и КНР по многим показателям здравоохранения, включая вакцинации населения, охват базовыми медицинскими услугами, лечение ВИЧ и туберкулеза, санитарно-эпидемиологические условия, вошли в группу стран с наиболее высокими показателями. В то же время в ЮАР при высоких расходах на здравоохранение ситуация с медицинским обслуживанием пока существенно не улучшилась, хотя среди рассматриваемых стран у нее была самая низкая база.
Таблица 1
Отдельные показатели здравоохранения стран ядра БРИКС
Страна | Индекс универсального охвата (от 1 до 100) | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет | |||
2000 | 2019 | 2000 | 2019 | 2000 | 2019 | |
Бразилия | 68 | 80 | 71,5 | 75,9 | 61,7 | 65,4 |
Россия | 54 | 79 | 65,3 | 73,2 | 57,3 | 64,2 |
КНР | 47 | 81 | 71,6 | 77,4 | 63,7 | 68,5 |
ЮАР | 43 | 71 | 55,8 | 65,3 | 48,5 | 56,2 |
Индия | 33 | 63 | 62,1 | 70,8 | 52,9 | 60,3 |
Источник: WHО Global Health Observatory.
Организационные аспекты финансирования здравоохранения в странах ядра БРИКС. Для лучшего понимания ситуации рассмотрим более детально, как организовано финансирование в странах ядра БРИКС.
В КНР до середины 2000-х годов, в условиях сохранения курса на экономический рост и финансовую либерализацию, доля государства в финансировании здравоохранения снижалась, что привело к обострению проблем с доступностью медицинской помощи. Если в середине 1980-х годов она составляла 40%, то к 2000 г. снизилась до 15% от общих расходов на здравоохранение [28]. С началом реформ 2009 г. был принят курс на обеспечение безопасного, эффективного и доступного здравоохранения, а главной целью стало предоставление базового пакета услуг всем гражданам вне зависимости от доходов, места проживания и других характеристик [18]. В последующий период существенно увеличились абсолютные и относительные показатели государственного финансирования медицины. Среднегодовые темпы роста государственных расходов с 2008 по 2020 г. составили 16,3% (см. рис. 2). В стране начался процесс активного формирования и укрепления инфраструктуры и обеспечения кадрами первичного звена – сельских медицинских пунктов, городских и поселковых медицинских центров, небольших стационаров (до 100 коек). Это привело к резкому сокращению доли личных расходов населения в финансировании здравоохранения и к снижению относительной численности пациентов, которые не могли получить необходимого лечения по финансовым причинам 1. Руководством страны поставлена задача к 2030 г. снизить долю выплат «из кармана» в общих медицинских расходах до 25%.
В рассматриваемый период значительный импульс получила система медицинского социального страхования. После введения в 2016 г. Новой медицинской корпоративной сельской страховой схемы и Страховой медицинской схемы для горожан и их последующего объединения в Программу медицинского страхования городских и сельских жителей (Resident’s Basic Medical System) уровень охвата населения страны медицинским страхованием увеличился до 95%, а доля социального страхования в общих медицинских расходах выросла до 37%.
В то же время, в силу существенных природных и социально-экономических различий между отдельными регионами страны, дифференциации доходов и образа жизни населения, сохраняется различие в структуре финансирования и объемах предоставляемых медицинских услуг. Базовая схема медицинского страхования наемных работников (Employees’ Basic Medical Insurance System) финансируется в основном за счет взносов социальных партнеров (6% заработной платы выплачивает работодатель, 2% на персональный счет вносит работник). При этом региональные власти наделены правом вводить дополнительные страховые платежи. Расходы второй схемы – для занятых в сельском хозяйстве и для городских жителей (Resident’s Basic Medical System) в основном покрываются из государственных средств и в меньшей степени – за счет фиксированных взносов застрахованных (50–500 юаней в зависимости от доходов участников). Самозанятые могут присоединяться к одной или другой системе, но в первом случае должны делать общий взнос за работодателя и работника. Объем средств, поступающих в фонды медицинского страхования из бюджетных источников, существенно отличается по провинциям: в бедных регионах он достигает 80% от расчетной величины подушевого финансирования базового пакета медицинских услуг. Объем базового пакета и нормы финансирования ежегодно определяется центральным правительством страны [33. Р. 14].
Соплатежи и прямые выплаты из собственных средств значительно выше для лиц, включенных в программу страхования городских и сельских жителей, теоретически покрывающую до 70% в основном стационарных расходов, чем в схему для наемных работников. Средства фондов базового медицинского страхования наемных работников используются прежде всего для покрытия расходов на стационарное и дорогостоящее поликлиническое лечение, а поступления за счет средств самого работника на персональные медицинские счета – на соплатежи и покупку лекарств. Действующая система скидок и доплат за услуги зависит от категории медицинского учреждения. Однако в среднем базовая страховая схема для наемных работников обеспечивает покрытие до 80% общих расходов на основные услуги государственных или заключивших с государством договоры на обслуживание граждан частных стационаров и поликлиник [26. Р. 4].
Начиная с 2016 г. быстрыми темпами развивается поддерживаемое государством ДМС. В результате его доля в общей структуре расходов увеличилась до более чем 9% в 2021 г. [28. P. 13].
Несмотря на безусловный прогресс, особенно в плане формирования всеобщей системы медицинского страхования, перед здравоохранением КНР стоит ряд серьезных задач, в том числе и в области финансового обеспечения и регулирования. Основными зонами внимания государства на современном этапе становятся цены на медицинские услуги и лекарства, структура доходов больниц и специалистов, диспропорции финансирования по каналам медицинского страхования. При существенном повышении значения общественных источников финансирования медицинских услуг и относительном снижении доли личных расходов граждан, в абсолютном выражении последние с середины 2000-х годов росли темпами 10,8% в год. В результате доля расходов домашних хозяйств на медицинские услуги и лекарства увеличилась за этот период с 6,9 до 8,8%. По разным оценкам, 12–16% граждан сталкиваются с так называемыми «катастрофическими» 2 расходами на медицинские услуги при возникновении серьезных проблем со здоровьем, из них только небольшая часть (2,5% населения, или около 35 млн человек) получает помощь для покрытия медицинских расходов (около 12% от средних расходов на госпитализацию) [10. Р. 16].
С началом реформ в КНР проводится политика использования нулевых наценок на основные лекарственные средства, что способствует снижению расходов населения на лекарства, но одновременно повышаются расценки на диагностику и лечение, особенно с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования в крупных стационарах и в целом расходы населения не сокращаются. В зависимости от категории и местоположения медицинского учреждения стоимость услуг обеспечивает 40–90% получаемых им доходов, а государственные субсидии – 10–50% [32. P. 22]. Кроме управляемых и финансируемых из бюджетных средств больниц, предоставляющих основной объем стационарной медицинской помощи, растет сеть некоммерческих и коммерческих медицинских учреждений разного профиля, часть из которых заключает договоры с государственными структурами на оказание медицинских услуг для отдельных льготных категорий граждан. Есть успешные примеры передачи под частное управление государственных стационаров. Кроме того, врачи и средний медицинский персонал государственных медучреждений имеют право осуществлять свою профессиональную деятельность одновременно в разных медицинских учреждениях, включая частные.
Сохраняется существенный дисбаланс в спросе и предложении медицинских услуг, влияющий на их стоимость и темпы роста медицинских расходов. Центральным звеном системы медицинского обеспечения в КНР остаются стационары, которые берут на себя весь спектр задач от амбулаторных консультаций специалистов до госпитализации и реабилитации, тогда как пункты и центры первичной медицинской помощи нередко недоукомплектованы и далеко не всегда пользуются доверием населения [30]. Исторически больницы в стране финансируются не только на основе государственных субсидий, но и через оплату услуг и продажу лекарств, что стимулирует сохранение практики, при которой врачи стационаров выписывают большое количество рецептов на продаваемые с наценкой лекарства и госпитализируют пациентов, даже когда в этом нет необходимости (число госпитализаций в КНР 182 на 1 тыс. населения значительно выше среднемировых показателей) [10. Р. 16]. По-прежнему среди населения и даже медицинского сообщества пользуются спросом услуги организаций и врачей традиционной китайской медицины.
Реформирование системы стационарного обслуживания в стране является одной из наиболее сложных задач, так как требует обеспечения необходимого баланса учета интересов всех заинтересованных сторон. Несмотря на существенное укрепление роли государства в системе здравоохранения, в условиях повышения уровня жизни и роста спроса населения на качественные и разнообразные медицинские услуги сохраняется и механизм конкуренции, расширяется спектр медицинских организаций.
Относительно меньше достижений и иной подход к финансированию здравоохранения в другой крупнейшей стране мира и ядра БРИКС – Индии, которая находится на этапе кардинальных трансформаций в экономической, демографической и эпидемиологической сферах. Среднегодовые темпы роста ВВП в расчете на душу населения в течение последних 30 лет составляют 5%, страна перешла в нижний сегмент государств со средним уровнем социально-экономического развития. В отличие от быстро стареющей КНР Индия еще долго будет находиться в условиях так называемого «демографического дивиденда» роста численности и доли населения трудоспособного возраста. Относительно невысокие показатели результатов деятельности общественного здравоохранения соседствуют в Индии с прогрессивными формами медико-инновационной деятельности, лидирующей позицией в мире в разработке и производстве лекарственных средств.
В Индии действует смешанная система предоставления медицинской помощи, включающая большой спектр различных государственных и коммерческих поставщиков и организаций «традиционной» (альтернативной) медицины (аюрведа, йога, гомеопатия, натуропатия). Лечение в основном осуществляется частными врачами и в негосударственных (некоммерческих и коммерческих) медицинских учреждениях с очень разными показателями качества и стоимости предоставляемых услуг 3. По данным национального обследования положения домашних хозяйств в 2017–2018 гг., доля услуг, получаемых у частнопрактикующих специалистов или в негосударственных стационарах, составляла 70% от общего числа визитов в поликлинические учреждения и к семейным врачам и 58% случаев лечения в стационарах [13. P. 49].
Действующая модель финансирования характеризуется высокой степенью фрагментации и низким уровнем объединения рисков, что не соответствует современному уровню экономического развития страны. Основным источником финансирования здравоохранения выступают прямые выплаты домашних хозяйств, доля которых составляет половину общих расходов на здравоохранение, или более 58% частных расходов. При этом 2/3 расходов из собственных средств граждан идут на медикаменты и анализы из-за выписки большого числа рецептов и тестов.
Если сравнивать, например, структуру медицинских расходов в КНР и Индии, то в Китае 78% общих расходов идет на лечение и реабилитацию, 8% – на медицинские товары, а в Индии на лечение и реабилитацию поступает только 55% средств, на медицинские товары и вспомогательные услуги (анализы и тесты) – 28%, причем в стране существенно выше и административные расходы в секторе медицины: 6–7% [12. P. 132].
Следует отметить, что 2/3 государственного финансирования приходится на средства штатов, которые, согласно Конституции страны, несут основную ответственность за организацию медицинского обслуживания на своих территориях. Возникает дисбаланс средств и полномочий: центральное правительство страны располагает более значимой базой для получения налоговых доходов, чем штаты, которые несут основную ответственность по многим социальным направлениям, включая и здравоохранение. Каждые пять лет государственная Финансовая комиссия (Finance Commission) выступает с рекомендациями по распределению между центром и штатами налоговых поступлений и по размерам трансфертов из федерального бюджета штатам, которые они могут использовать в соответствии с определенными приоритетами (15-я Финансовая комиссия сохранила на период 2021–2026 гг. ранее действовавший уровень трансфертов для штатов).
Кроме того, центральное правительство выделяет средства штатам на национальные программы в сфере здравоохранения, в том числе на такие как Национальная миссия в области здравоохранения (National Health Mission) и Национальная миссия сельского здравоохранения (National Rural Health Mission). Первая программа, нацеленная на формирование инфраструктуры первичных медицинских услуг и, в теории, на предоставление базового пакета медицинской помощи самым широким слоям населения, финансируется на 60% из средств федерального бюджета и на 40% – из бюджетов штатов. Число государственных медицинских учреждений, включенных в программу, и объем предоставляемых ими услуг существенно различаются по штатам. Приоритетом второй программы являются вопросы репродуктивного здоровья женщин и детей, а также предупреждение и лечение опасных инфекционных заболеваний. В ее рамках с 2005 г. на селе формируется трехуровневая система организации первичной медико-санитарной помощи, включающая медицинские пункты, общественные пункты здоровья, региональные центры оказания акушерско-гинекологической помощи и ухода за новорожденными, а также оказания экстренной медицинской помощи.
Система социального медицинского страхования в стране исторически ограничивалась относительно небольшими сегментами формально занятых наемных работников частного и государственного секторов экономики и госслужащими. Действующая программа для наемных работников (Employee’s State Insurance Act, ESIS) финансируется за счет средств работодателей (3,25% заработной платы) и работников (0,75% заработка, причем наемные работники, зарабатывающие менее 137 рупий в день, освобождены от уплаты своей доли взносов, за них это делает штат), государство, в свою очередь, покрывает 1/8 годовых медицинских расходов данной схемы (до установленного лимита 1500 рупий на участника в год). Программа обеспечивает страхование расходов на стационарное и поликлиническое лечение, включая рождение детей и профессиональные заболевания, для 132 млн наемных работников и их иждивенцев. Застрахованные по программе могут пользоваться широкой сетью государственных и частных медицинских учреждений. В страховую программу для федеральных госслужащих (Central Government Health Scheme, CGHS) основной объем взносов поступает от работодателя-государства из федерального бюджета, работники выплачивают фиксированные суммы (от 50 до 500 рупий в месяц) в зависимости от получаемого дохода. Число участников данной программы по национальным меркам небольшое и составляет 3,4 млн действующих работников Центрального государственного аппарата, членов их семей и вышедших на пенсию работников, которые пользуются наиболее широким набором различных медицинских услуг. Специальные страховые схемы и своя медицинская инфраструктура обслуживают военных, работников портов и железных дорог. Доля взносов на добровольное (коллективное и индивидуальное) медицинское страхование в покрытии общих расходов составляет около 2%.
В последние годы в стране взят курс на введение общенациональных страховых схем с государственным участием для бедного и малообеспеченного населения, занятого в неформальном секторе экономики. С 2018 г. в ряде штатов вступила в действие интегральная схема медицинского страхования Pradhan Mantri Jan Aarogua Yojana (PM-JAY), предусматривающая предоставление застрахованным пакета услуг на сумму 500 тыс. рупий на домохозяйство в год, которая, по предварительным оценкам, должна охватить около 500 млн человек. Данная программа касается прежде всего стационарного обслуживания, и пока сложно оценить, насколько ее введение способствовало снижению собственных расходов населения на медицинское обслуживание, особенно если учитывать, что до 70% расходов «из кармана» населения идет на оплату услуг частных врачей в поликлиниках. Свои собственные программы социального медицинского страхования, направленные исключительно на наиболее уязвимые слои населения, действуют и в ряде штатов. Есть и многочисленные примеры создания своеобразных обществ взаимного страхования (страховых кооперативов соседских общин, с низкими, даже по национальным меркам, размерами страховых премий 10–200 рупий в год), защищающих небольшие группы людей, например страховые кооперативы самозанятых женщин и их семей в штате Гуджарат.
На страховом рынке Индии работает 28 страховых компаний, предлагающих широкий спектр страховых продуктов по линии как государственного, так и частного (коллективного и индивидуального) страхования, хотя большинство договоров касается только стационарного лечения. Премии в размере до 25 тыс. рупий на индивидуальное медицинское страхование вычитаются из налогооблагаемой базы при расчете налогов на доходы, предусмотрены и льготы для работодателей, заключающих договоры коллективного страхования сотрудников. Однако пока среди городского населения частные медицинские страховки имеет 3,8%, сельского – 0,2%, даже среди наиболее обеспеченных горожан (20% с наиболее высокими доходами) доля застрахованных находится на уровне 12%, среди сельских жителей с высокими доходами этот показатель составляет только 0,8%. Средний размер индивидуальной страховой премии для гражданина в возрасте 25–40 лет составляет 5 тыс. рупий при страховом покрытии 500 тыс. рупий. Для семьи из 4 человек (2 взрослых и 2 детей) размер премии при том же покрытии увеличивается до 25–30 тыс. рупий. Для сравнения: премия с аналогичным покрытием по государственной программе PM-JAI для такой же семьи, в зависимости от размеров ее дохода, будет находиться в пределах 450–1500 рупий [13. Р. 112].
В Бразилии, в соответствии с принятой в 1988 г. Конституцией страны, действует Единая система здравоохранения (ЕСЗ, Systema Unico de Sande, SUS), формально предоставляющая всему населению одинаковый объем услуг и финансовую защиту от высоких личных расходов при возникновении потребности в получении медицинских услуг. Основными провозглашенными принципами деятельности ЕСЗ являются: 1) всеобщее право на медицинское обслуживание всех уровней (а не только первичного); 2) распределение ответственности за организацию и финансирование системы между 3 уровнями управления (федеративным, штатами и муниципалитетами); 3) участие общественности и социальных партнеров в формировании и реализации политики в сфере здравоохранения через советы по здоровью и медицинские конференции, состоящие на 50% из представителей местных сообществ, на 25% из поставщиков медицинских товаров и услуг и на 25% – из руководителей системы управления здравоохранением в регионах.
В рамках ЕСЗ финансируется широкий круг как государственных, так и частных медицинских организаций, имеющих договоры с муниципалитетами и штатами. Частные медицинские организации могут получать статус «некоммерческих» и пользоваться значительными льготами по налогообложению, если 60% своей деятельности они осуществляют в отношении пациентов ЕСЗ. При этом государство является единственным донором как для организаций первичного медицинского обслуживания, так и для структур, осуществляющих наиболее дорогостоящие виды услуг: трансплантацию, лечение онкологии и ВИЧ, дорогостоящее лекарственное сопровождение. Государство предоставляет гражданам широкий комплекс медицинских услуг, включая наиболее сложные и высокотехнологичные, без установления обязательных соплатежей. Однако допускаются определенные выплаты из собственных средств пациентов за выписку рецептов и получение ряда товаров и услуг, не включенных в основной пакет или приобретаемых вне сети ЕСЗ. Формирование общенациональной системы медицинского обеспечения, прежде всего успешное внедрение системы многопрофильных медицинских бригад в отдаленных районах, способствовало увеличению охвата медицинским обслуживанием наиболее бедных слоев населения и повышению основных показателей общественного здравоохранения. Схемы государственного финансирования покрывают 47% расходов на стационарное лечение населения страны, 58% расходов на услуги врачей в поликлиниках, более 33% – на стоматологическую помощь и протезирование и 9% расходов на медикаменты [24. P. 68].
Ключевым элементом государственной поддержки выступает система первичной медицинской помощи, состоящая из более чем 43 тыс. многофункциональных медико-социальных команд, обслуживающих районы с численностью населения около 4 тыс. человек. Формирование данной системы началось в стране с 1994 г. после утверждения Стратегии семейного здоровья (Family Health Strategy). Данное звено медицинского обслуживания страны финансируется в основном из средств муниципалитетов (более 60%) и федерального правительства (около 33%). Согласно оценкам специалистов, благодаря реализации данной программы были достигнуты значительные успехи в снижении детской смертности и в сокращении показателей стандартной госпитализации в расчете на 10 тыс. человек населения (на 45% за 2001–2016 гг.) за счет оказания первичной помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом и др. [27. P. 14].
Среди наиболее обсуждаемых нерешенных вопросов бразильского здравоохранения – нехватка врачей-специалистов, особенно в наиболее бедных северных штатах страны. В небольших муниципальных районах с числом жителей менее 5 тыс. обеспеченность врачами составляет в среднем 0,3 на 1 тыс. человек, а в крупных, с численностью более 500 тыс. – 4,3 на 1 тыс. жителей. Еще одна сложность – «двойная практика»: врачи делят свое время между пациентами государственных и частных структур. Почти 50% медиков страны имеют двойные договоры, лишь около 22% работают только в государственной системе (в основном, это либо молодые специалисты без опыта работы, либо лица пенсионного возраста), что может создавать пациентам государственных организаций проблемы с доступом к услугам, если деятельность врачей соответствующим образом не контролируется и не регулируется [20].
На эффективность всей системы медицинской помощи существенно влияет нехватка персонала и нестабильное качество услуг, приводящие к возникновению такой проблемы непосредственно первичного звена, как ограниченный круг населения, пользующегося услугами многопрофильных команд семейной медицины – 65% населения (большая доля населения страны традиционно обходит первичный уровень и напрямую обращаются в медучреждения более высокого уровня). С 2020 г. для изменения данной ситуации реализуется новая модель финансирования первичного обслуживания (Previne Brasil), основанная на подушевом финансировании с учетом социально-экономического положения регионов, стимулирующая увеличение зарегистрированных участников системы.
Бразильское законодательство дает штатам, и особенно муниципалитетам , большой объем прав в планировании и управлении услугами ЕСЗ. Изначально, согласно Конституции, на здравоохранение должно идти не менее 30% социального бюджета страны. В соответствии с поправками, внесенными в основной документ страны, для повышения стабильности функционирования ЕСЗ были определены минимальные размеры участия штатов (12% от их доходов) и муниципалитетов (15% доходов) в финансировании государственной системы. В реальности муниципалитеты в среднем направляют на финансирование государственного медицинского обслуживания 22,5% своих доходов, и за период с середины 90-х годов ХХ в. до 2020 г. их доля в общем государственном финансировании увеличилась с 16 до 31%, штатов – с 21 до 26%, а доля федеральных средств сократилась с 63 до 43% [24. P. 67]. В то же время в силу децентрализации управления ЕСЗ 2/3 федеральных расходов на медицину идут непосредственно штатам и муниципалитетам. Основные блоки федерального финансирования ЕСЗ: первичное обслуживание, услуги среднего и высокого уровней сложности в государственных стационарах, поликлиническое обслуживание, мониторинг общественного здоровья, лекарственное обеспечение, инвестиции в инфраструктуру.
Особенностью бразильской модели финансирования является высокий уровень участия населения в системе добровольного медицинского страхования, соответствующий из рассматриваемых стран уровню ЮАР. ДМС может рассматриваться как дублирующее, так как оно охватывает практически все те же виды услуг, которые предоставляет ЕСЗ. Полисами ДМС в стране располагает чуть более 24% населения, из которых основная масса (до 70%) получает их по месту работы [16]. Застрахованные имеют возможность пользоваться услугами как специальных частных медицинских учреждений, так и аккредитованных государственных организаций. В среднем на пациента ЕСЗ приходится две консультации врача (2019 г.), что является относительно невысоким уровнем потребления услуг, а в системе частного страхования – 6 медицинских консультаций [24. P. 51]. На страховом рынке страны, который существовал до формирования ЕСЗ, работает огромное число страховых компаний, некоммерческих медицинских кооперативов, специальных структур сетей медицинских поставщиков и благотворительных организаций, предоставляющих широкий спектр страховых продуктов от полного комплекса амбулаторных и поликлинических услуг до финансирования только определенных видов лечения и стоматологической помощи.
Государство поддерживает данную систему через льготное налогообложение, предоставляя вычет из налогооблагаемой базы страховых взносов и медицинских расходов, причем без установки верхних лимитов (даже на дорогостоящие пластические операции), что является одним из факторов, объясняющих, почему частное страхование очень распространено у наиболее обеспеченной части населения. Среди населения более экономически развитых и богатых штатов юго-востока страны в различных схемах частного страхования участвует 35% населения, в наиболее отсталых Северных провинциях – 11%, и во всех регионах прослеживается значительная разница между потреблением услуг частных медицинских учреждений и участием в коммерческом страховании, между населением городов и сельской местности.
Можно выделить несколько причин не только сохранения, но и некоторого увеличения за рассматриваемый период доли лиц, участвующих в ДМС, несмотря на введение ЕСЗ, и высокого уровня участия в нем представителей среднего класса и наиболее обеспеченных слоев (среди представителей высшей по доходам квинтильной группы в систему частного страхования включено не менее 65%, нижней – 5,5%) [24. P. 77]. Во-первых, это – невысокий уровень качества обслуживания, нехватка специалистов и длительные сроки ожидания приема в определенной части государственных медицинских учреждений; во-вторых – действенность традиций потребления медицинских услуг частных врачей и медицинских организаций; и наконец, наличие существенных налоговых льгот на частное медицинское страхование.
Рынок частного страхования в Бразилии серьезно отличается от рынков других государств с универсальными системами здравоохранения, в которых также популярно дублирующее частное страхование – например в Великобритании, Австралии или Испании. В этих странах сектор частного страхования ограничен выбором определенных поставщиков и не играет существенной роли в финансировании общих медицинских расходов (доля частного страхования в общих расходах составляет, например, в Австралии – 14%, в Испании – 7%, в Великобритании – 2,5%). В Бразилии дублирующее частное страхование формально выступает в роли замещающей его разновидности, когда ¼ населения страны не использует своего конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание. Частные поставщики играют важную роль в обеспечении доступа пациентов ЕСЗ к медицинскому обслуживанию, особенно стационарному. Набирает популярность и передача под частное управление ряда государственных медицинских организаций, что позволяет повысить гибкость при найме персонала. Конкуренция государственных и частных структур за кадры далеко не всегда положительно сказывается на качестве и доступности услуг для пациентов. Нет однозначного ответа на вопрос о том, способствует ли увеличение объема частных медицинских расходов повышению эффективности системы в целом или, наоборот, ведет к избыточному потреблению ресурсов (например, число использования процедур МРТ на 1 тыс. населения (179) в 2,3 раза превышает соответствующий средний показатель ОЭСР).
Прямые выплаты на медицинскую помощь в большей степени затрагивают наиболее бедные слои населения, причем их большая часть идет на покупку лекарств. Расходы домашних хозяйств на медицинские услуги и медикаменты составляют около 13% общих расходов домохозяйств (их относительная величина несущественно отличается по доходным группам: в верхних по доходам 10% населения – 14%, в нижних 10% населения – 12%). Медицина формирует четвертую по величине группу расходов бразильских семей после жилья и коммунальных услуг (36,6%), транспорта (18,1%) и питания (17,5%) [9. Р. 87].
Для контроля за деятельностью частных медицинских учреждений и производства медицинских товаров в Бразилии образованы два квазиавтономных агентства: Национальное агентство по дополнительному медицинскому обеспечению, основной задачей которого является защита интересов граждан, получающих услуги через систему частного медицинского страхования, и Национальное агентство в сфере медицины, занимающееся мониторингом производства медицинских услуг и товаров, включая лекарства. Сложная децентрализованная система управления ЕСЗ и большая роль частного сектора в медицинском обслуживании влекут за собой существенное увеличение доли административных расходов – до 6% от общих расходов на здравоохранение в стране.
Система здравоохранения ЮАР находится в процессе кардинальной трансформации, результаты которой пока сложно оценить. Вместо двух не связанных между собой, параллельно действующих государственной и частных схем финансирования и организации медицинского обслуживания поставлена задача создания единой страховой системы медицинского обеспечения. Действующие власти страны и ведущие профсоюзы полагают, что высокая загруженность и низкая эффективность работы государственного сектора здравоохранения делают необходимым его реформирование. Конституция ЮАР гарантирует доступ к медицинскому обслуживанию всем жителям, включая мигрантов и беженцев. При этом государственное здравоохранение сталкивается с комплексом серьезных проблем: острой хронической нехваткой кадров, особенно среднего звена, недостаточным техническим оснащением медицинских учреждений и качеством лечения, наличием больших очередей на фоне высокого уровня заболеваемости, фактически эпидемиями ВИЧ/СПИДа (18% населения), бактериальной диареи, брюшного тифа, туберкулеза (468 случаев на 100 тыс. населения), гепатита А и В, высокими уровнями детской заболеваемости, насилия и травматизма.
Государственными медицинскими учреждениями (поликлиниками, стационарами, скорой помощью и пунктами первичной медицинской помощи) постоянно пользуются более 80% населения, но в них работают только 1/5 от общей численности медицинского персонала страны и расходуется около 40% от общего объема средств, идущих на медицинское обслуживание [29]. Доля собственных расходов пациентов на медицинские услуги, получаемые в государственной системе, составляет 7% от общего объема медицинских расходов 4. Размер доплат пациентов за медицинское обслуживание в государственных учреждениях зависит от их доходов, демографической нагрузки и установленных общенациональных тарифов на услуги (Uniform national fee schedule, UNFS). Выделяются, по меньшей мере, три основные группы пациентов: а) полностью оплачивающие стоимость услуг (например иностранцы, пользующиеся государственной системой здравоохранения); б) частично покрывающие стоимость услуг; в) освобожденные от доплат. К последней категории относятся беременные женщины, дети до 6 лет, пациенты с низкими доходами, попавшие в стационары через систему первичной медицинской помощи, и некоторые другие категории.
В настоящее время организация первичной медицинской помощи (3,5 тыс. медицинских пунктов и небольших поликлиник и стационары) находится в ведении местных органов власти, служба скорой помощи и высокоспециализированные больницы управляются органами исполнительной власти провинций, которые имеют широкую автономию в принятии решений о распределении поступающих из центра средств между отдельными сферами социальной деятельности. При обследованных в 2021 г. государственным Управлением по контролю за качеством обслуживания (Office of Health Standards Compliance) 780 структур первичной медицинской помощи прошли проверку на соответствие национальным нормативам качества услуг только 65%, в значительной части оставшихся были выявлены проблемы с инфекционным и санитарным контролем, отношением персонала, обеспечением лекарствами и медикаментами, безопасностью медиков и пациентов 5.
В ЮАР развито добровольное частное медицинское страхование, которое охватывает около 16–17% наиболее обеспеченного населения страны. В частном секторе занято около 79% медицинских специалистов и на него приходится, по разным оценкам, от 1/2 до почти 60% общих расходов на медицинское обслуживание. В стране действует более 100 медицинских программ с разным набором услуг и льгот для участников, никак не связанных с государственной системой медицинской помощи.
Ключевыми направлениями реформирования финансирования системы здравоохранения страны на ближайшую перспективу являются формирование общего фонда финансирования здравоохранения, интеграция в общую систему частных страховых схем, а также создание единого стратегического покупателя, находящегося в государственной собственности и управляемого государством, который будет приобретать медицинские услуги для населения у аккредитованных государственных и частных поставщиков [19]. Однако реализация данного проекта может столкнуться с серьезными препятствиями. Высокие уровни безработицы и бедности ограничивают возможности широких слоев населения участвовать в финансировании здравоохранения, выплачивая налоги и страховые взносы. Далеко не преодолено и наследие апартеида – расовая и гендерная дискриминация, огромное неравенство в доходах, а также нестабильность политических институтов, коррупция и часто некомпетентное руководство, низкий уровень доверия более обеспеченного населения к государственным институтам.
После длительного периода обсуждений и проведения пилотных исследований в 11 провинциях в 2023 г. в стране был принят закон «О национальном медицинском страховании», предусматривающий организацию Национального страхового фонда для оплаты лечения всего населения у аккредитованных поставщиков услуг по установленным государством тарифам. Источниками средств Национального страхового фонда должны стать страховые взносы социальных партнеров на заработную плату работников, государственные субсидии, часть налогов на доходы физических лиц, перераспределение средств за счет рационализации налоговых льгот и др. Основные цели данной масштабной перестройки – привлечь дополнительные ресурсы в систему здравоохранения, отладить механизмы объединения рисков и перекрестного субсидирования, обеспечить предоставление всем гражданам качественных медицинских услуг и постепенно повысить результаты функционирования общественного здравоохранения. Частные страховщики теоретически смогут продолжить финансировать получение услуг, не входящих в базовый пакет национального страхования. Однако, поскольку реформа еще только стартовала, в настоящее время оценить ее результаты пока не представляется возможным.
Заключение. В силу существенных различий исторических, социально-
экономических, политических и демографических условий развития в странах ядра БРИКС сформировались различные национальные модели организации и финансирования здравоохранения. Общим для рассматриваемых государств является то, что при сочетании государственного и частного финансирования единой тенденцией является усиление за рассматриваемый период государственного участия. Последнее направлено на решение проблемы фрагментарности здравоохранения, когда различные условия оказания медицинской помощи для разных категорий граждан ведут к формированию прямой связи между доступностью и доходами, когда действуют плюралистические схемы, в которых оказываются высокотехнологические услуги относительно немногочисленному среднему классу и медицинским туристам, а большинство населения имеет ограниченный доступ к качественному медицинскому обслуживанию и сохраняются ареалы крайне неблагоприятной среды обитания.
Опыт стран ядра БРИКС показывает, что сам по себе экономический рост не гарантирует достижения уровня здравоохранения, позволяющего удовлетворять потребности населения. Высокая степень коммерциализации медицинского обслуживания и низкие государственные расходы ведут к росту прямых платежей населения, углублению неравенства в доступе к медицинским услугам и состоянии здоровья различных групп населения. Возникают и серьезные диспропорции в кадровом и материальном обеспечении государственного и частного сегментов здравоохранения. Особенно важна роль государства в секторах здравоохранения, требующих больших инвестиций: в создании сети общедоступных лечебно-профилактических медицинских центров первичной медицинской помощи, в финансировании крупных проектов по борьбе с наиболее опасными инфекционными заболеваниями, вакцинации населения.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются системы здравоохранения стран ядра БРИКС в области финансирования, схожи. Это прежде всего высокие собственные расходы населения на медицину «из кармана»; низкий уровень объединения ресурсов и, соответственно, распределения рисков, на который накладывается социальное разделение город/село, что в результате оборачивается ограниченным охватом сельского населения страховыми схемами, и даже его фактическим отсутствием; низкая доля государства в финансировании медицинских расходов.
Во всех рассмотренных странах государство активно занимается вопросами здравоохранения. Они проводят реформы в поисках оптимальных путей финансового обеспечения здравоохранения с учетом национальной специфики и глобальных угроз. За счет расширения охвата медицинским страхованием и повышения устойчивости финансирования общественного здравоохранения значительных успехов в этом направлении добилась КНР. Реализация масштабных программ обязательного медицинского страхования с участием работодателей в разных штатах меняет, хотя и не очень быстро, сценарий финансирования здравоохранения в Индии. В Бразилии приоритет отдается прямому бюджетному финансированию основных секторов здравоохранения. В ЮАР намечена кардинальная трансформация системы финансирования здравоохранения: формирование Национального страхового фонда, который будет отвечать за приобретение и оплату всех медицинских услуг в стране, входящих в национальную страховую программу.
Однако в связи с усилением роли государства в финансовом обеспечении здравоохранения возникает и ряд проблем, связанных с особенностями функционирования и регулирования государственного сектора. Прежде всего здравоохранение конкурирует за бюджетные средства с другими направлениями государственных расходов, в том числе с такими приоритетными на современном этапе, как образование, экология и др. Встает вопрос об эффективности использования государственных ресурсов, что может повлечь за собой институциональные изменения в организации медицинского обслуживания населения.
1 В период 2008–2013 гг., по данным социологических опросов, доля лиц, нуждающихся в стационарном лечении, которые не могли себе этого позволить, сократилась с 17,6 до 7,4%, а не получивших (по причине высокой стоимости) консультаций у специалистов и амбулаторного лечения – с 27 до 16%.
2 Катастрофическими в КНР считаются расходы, которые составляют 40% и более от нетто доходов домашнего хозяйства, после осуществления основных расходов.
3 Действующая система регулирования частного сектора в сфере медицины существенно отличается по штатам. Большинство штатов находятся только в процессе внедрения положений Закона о клинических учреждениях (Clinical Establishments Act) 2010 г., который предусматривает использование минимальных стандартов качества при осуществлении диагностики и лечения в частных медицинских учреждениях.
4 URL: https: //Health topics/WHO/Regional office for Africa.
5 URL: https://www.blomberg.com/news/articles/2023–12/08/why-south-africa’s-plan-for-Universal-Health-Care-Stirs-Opposition.
Авторлар туралы
Tatiana Chubarova
Institute of Economics (RAS)
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: t_chubarova@mail.ru
Grand Ph.D. in Economics, Leading Researcher
Ресей, MoscowYelena Shestakova
Institute of Economics (RAS)
Email: eeshestakowa@gmail.com
Ph.D. in Economics, Leading Researcher
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Политика стран БРИКС в сфере здравоохранения: поворот к новым концептуальным основам и практическим действиям // В сборнике Многосторонние институты и диалоговые форматы. Материалы IX Конвента РАМИ (Москва, 27–28 октября 2015 г.) /Под. ред. А.В. Мальгина. МГИМО-Университет. Москва, 2016. C. 29–39.
- Конохова В. Развитие системы здравоохранения в странах БРИКС// Гуманитарный акцент. 2019. № 1. С. 55–61.
- Костин К.Б. Перспективы развития фармацевтического рынка в странах БРИКС // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 4 (118). Специальный выпуск по итогам Петербургского международного экономического форума – 2019. С. 32–39.
- Ларионова М.В., Рахмангулов М.Р., Сахаров А. Г., Шелепов А.В. Формирование повестки дня БРИКС в сфере здравоохранения // Вестник международных организаций. 2014. Т. 9. № 4. С. 102–125.
- Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России: доклад к XXI Апр. международной науч. конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / М. Л. Баталина, Т. В. Бордачев, М. С. Бочкова и др.; под науч. ред. Т. А. Мешковой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 194 с.
- Чубарова Т.В. Развитие сотрудничества стран ядра БРИКС в условиях мультиаспектного кризиса: пример здравоохранения. Доклад на XXII Международных Лихачевских научных чтениях «БРИКС как новое пространство диалога культур и цивилизаций». СПб, 2024. URL: https://www.lihachev.ru/chten/2024/sec3/Chubarova_TV_2024.pdf
- Чугунков П.И. Международное сотрудничество в сфере здравоохранения в странах БРИКС: правовые аспекты // Молодой ученый. 2015. № 17 (97).
- Яковлевич М., Эккерт Н.В., Микерова М.С., Решетников В.А. Растущее влияние стран БРИКС на глобальный сектор здравоохранения // Вестник МГИМО-Университета. 2019. Т. 12. № 6. С.150–166.
- Aranjo E.C., Lobo M.S., Medici A.C. Efficiency and sustainability of public health spending in Brazil // J. Bras. Econ. Saude. 2022. Vol. 4. N.1. P. 86–95. URL: http://doi.org/10.21115/JBES14n1.(supp.1):86-95
- Fung H. Enhancing financial protection under China’s social health insurance to achieve universal health coverage // BMJ. 2019. 365:12278. P. 16–18. URL: http://doi.org/101136/bmj12378
- Gupta I. Financing for a resilient health system in India: lessons from the COVID Pandemic // In Pachauri S. and Pachauri A (eds.) Health dimensions of COVID-19 in India and beyond. Springer 2022. P. 245–259. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7385-6
- Health at a glance Asia/Pacific. Measuring progress towards universal health coverage. 2022. Paris: OECD Publishing. URL: https://doi.org/10.1787/c7467f62-en
- India Health System Review // A. Mahal (ed.) Health Systems in Transition WHO. 2022. Vol 11. № 1.
- Jakovljevic M., Milovanovic O. Growing burden of non-communicable diseases in the emerging health markets: the case of BRICS // Front Public Health. 2015. № 3. P.65.
- Jakovljevic M., Potapchik E., Popovich L., Barik D., Getzen T. Evolving health expenditure landscape of the BRICS nations and projections to 2025 // Health Econ. 2017. № 26. Р. 844–852.
- Massuda A. (2020) Brazil- international health care system profiles. Commonwealth fund URL: http://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/brazil
- Mathauer I., Torres L.V., Kutzin J., Jakabo M., Hansond K. Poling financial resources for universal health coverage. Options for reform // Bulletin of the World Health Organization. 2020. P. 132–139.
- Meng Q. What can we learn from China’s health system reform? // BMJ. 2019. Vol. 365. Issue 12349. P. 2–6. URL: https://doi.org/101136/bmj12349
- Michel J., Tediosi F., Egger M., Barnighausen T., Mclntyre D., Tanner M., Evans D. Universal health coverage financing in South Africa: wishes vs reality // Journal of global health reports. 2020. № 4. URL: https://doi.org/10.29392/001c.13509
- Miotto B. Physician ‘s sociodemographic profile and distribution across public and private health care: an insight into physicians’ dual practice in Brazil // BMC Health Services Research. 2018. Vol. 18/299. URL: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3076-z
- Moore C. BRICS and global health diplomacy in the COVID-19 pandemic: situating BRICS’ diplomacy within the prevailing global health governance context // Rev. Bras. Polít. Int. 2023. Vol. 65. P. e022.
- Nair K.S., Pasha S.A. Unregulated private health sector: India’s challenges in realizing universal health coverage. //Public Policy Administration Research. 2020. Vol. 10. N. 3. P. 51–60.
- On the Momentum Toward Vaccine Self-Sufficiency in the BRICS: // An Integrative Review of the Role of Pharmaceutical Entrepreneurship and Innovation. Frontiers in Public Health. 2023. October 9. Дата обращения: 20.06.2024.
- OECD Reviews of health systems: Brazil. 2021. P. 51. URL: http://doi.org/10.1787/146d0dea-en
- Petrie D, Ki Tang K. Relative health performance in BRICS over the past 20 years: the winners and losers // Bull. World Health Organ. 2014. Vol. 92. Р. 396–404. URL: https://doi:org/10.2471/BLT.13.132480
- Poverty, vulnerability and fiscal sustainability in the People’s Republic of China. 2021 Manila: Asian Development Bank.URL: http://doi.org/10.22617/TCS10217-2
- Primary health care in Brazil. Paris: OECD Publishing. 2021. URL: https://doi.org/10.1787/120e170e-en
- Qian J. Health reform in China: recent developments // EAI Background Brief. 2022. № 1646.
- Romaniuk P., Poznanska A., Brukalo K., Holecki T. Health system outcomes in BRICS counties and their association with the economic context // Fronters in public health 2020. Vol 8. URL: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00080. URL: http://www.FAIBB-N-1646-Chinas-health-system_resent-devts-2.pdf
- Sadani P.R., Nair K.S., Agarwal K. Health system financing: a comparative analysis of India and Saudi Arabia // Journal of health management. 2023.Vol. 25, Issue 1. URL: https://doi.org/10.1177/09720634231153210
- Wu D., Lam T., Lam K., Zhou X., Sun K. Challenges to healthcare reform in China: profit -oriented medical practices, patients’ choice of care and guanxi culture in Zhejiang province // Health policy and planning. 2017. Vol. 32. P. 1241–1247.
- Хu J. Reforming public hospital financing in China: progress and challenges // BMJ. 2019. Vol. 365:14015.
- Yuan В. Strengthening public health services to achieve universal health coverage in China // BMJ. 2019. Vol. 365:12378. URL: http://doi.org/101136/bmj12358