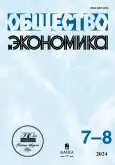Towards a new ontology of economics
- Авторлар: Knyazev Y.1
-
Мекемелер:
- Institute of Economics (RAS)
- Шығарылым: № 7-8 (2024)
- Беттер: 5-20
- Бөлім: THEORETICAL ECONOMICS
- URL: https://medbiosci.ru/0207-3676/article/view/268592
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624070012
- EDN: https://elibrary.ru/basmxk
- ID: 268592
Толық мәтін
Аннотация
The article attempts to look at the ontology of economic science from the standpoint of the dual nature of the human personality, which combines two principles – individualism and collectivism. The purpose of this study is to identify the true nature of man, who is not a one-dimensional individualist, but also has features of collectivism, i.e. the desire and ability to live in society. The author puts forward and seeks to prove the following hypothesis: individualism and collectivism are simultaneously inherent in the human personality and inevitably manifest themselves in its vital interests, including economic ones. The research methodology, based on taking into account the objective and subjective factors of economic life, allows us to identify the genesis of public interests as a continuation of the collectivist principle in man himself, as well as to characterize and typologize public goods in their combination with private goods. Based on the analysis, the one-sidedness of methodological individualism is shown, which takes into account only the egoistic nature of man and not his collectivist principle. The overwhelming majority of society, with the help of the state, forces the disobedient minority to obey the rules of community life, without which social life is impossible. As a result of the study, the main conclusion is made about the need to replace methodological individualism with the principle of methodological dualism, postulating a dialectical combination of individualistic and collectivist inclinations of people.
Толық мәтін
Введение. Классическая и неоклассическая экономические теории основаны на исходном методологическом принципе индивидуализма человеческой личности. Однако в наше время этот принцип все больше подвергается сомнению. В противовес ему чаше всего выдвигается принцип методологического коллективизма, являющийся его прямым антиподом. По словам Дж. Коммонса, «наука политическая экономия колеблется между экстремальным индивидуализмом и экстремальным коллективизмом…» [23. Р. 108]. У. Сэмюелс уточняет: “Методологический индивидуализм” подразумевает такую точку зрения, что наиболее адекватные и эффективные знания в области общественных наук могут быть получены путем изучения отдельно взятых индивидов; под “методологическим коллективизмом” – такая точка зрения, согласно которой такие знания являются результатом изучения групповых процессов или явлений» [19. C. 681].
В обеих цитатах речь идет о двух противоположных подходах к методологии познания экономики. Б. Уорд считает их «разными типами мышления» [25. Р. 4]. Как можно понять, разницу между этими двумя методологическими принципами указанные авторы видят исключительно в субъективных подходах ученых.
На самом же деле плодотворная методология научного познания должна строиться с учетом объективных оснований, содержащихся в изучаемом объекте. Это значит, что она должна вытекать из онтологических основ самой экономики и соотноситься с ними, несмотря на неизбежные личные пристрастия исследователей. Кроме того, экономическая теория может отставать от меняющейся действительности: будучи даже вполне адекватной определенному этапу развития экономики, она перестает быть таковой в новых условиях, нуждающихся в иной научной интерпретации.
В настоящее время экономическая теория все сильнее испытывает потребность в новых исследовательских подходах, ибо в хозяйственной практике накапливаются новшества, нуждающиеся в научном осознании и объяснении. Начавшийся в 2007 г. мировой финансово-экономический кризис поставил под сомнение многие постулаты экономической науки, не сумевшей не только предотвратить, но даже предсказать наступление кризисной ситуации [6]. В обширном аналитическом материале «Финансовый кризис и провалы современной экономической науки» группа всемирно известных экономистов и математиков выражает неудовлетворенность состоянием исследовательской мысли: «Фактически в современной теоретической макроэкономике и финансовой литературе понятие “системный кризис” выступает неким потусторонним явлением, отсутствующим в экономических моделях. В большинстве из них намеренно не указывается, как именно относиться к этому повторяющемуся явлению, как справляться с ним. В час самой острой необходимости обществу предстоит блуждать впотьмах без какой бы то ни было теоретической основы. И это мы считаем системной неудачей современной экономической теории» [22. С. 11].
Однако и независимо от мирового кризиса современная глобализирующаяся и одновременно социализирующаяся экономика остро нуждается в новых теоретических подходах, способных адекватно объяснить современные реалии и послужить руководством к действию для многочисленных и разнородных экономических субъектов [7. С. 176].
Обращает на себя внимание следующий очевидный факт: нынешняя экономическая теория, в особенности ее так называемое главное направление («mainstream»), занимается в основном проблемами рынка в традиционном понимании, когда в центре исследования находятся только рыночные отношения, а получившая огромные масштабы государственная активность все еще относится к разряду «экстерналий» – этих досадных для чистой науки внешних воздействий, которыми следует просто пренебречь. В то же время в любом учебнике «economics» вы обязательно найдете обширные разделы о макроэкономике, общественных институтах, деятельности государственных органов в хозяйственной и социальной сферах, так как без этого невозможно получить полной картины современной экономики как объекта научного исследования [16]. Однако весь этот материал, а также констатация наличия публичных благ и общественных интересов и все возрастающей роли государства, через бюджеты которого распределяется в развитых странах от трети до половины произведенного ВВП, как бы повисают в воздухе, ибо не находят вразумительного объяснения с позиций пресловутого методологического индивидуализма, все еще считающегося краеугольным камнем экономической теории. Этот основополагающий принцип касается не только методологии, но и исходных, онтологических основ экономической науки, к которым нам приходится обратиться ради проверки его научной достоверности.
Возникшая как целостная теоретическая конструкция, экономическая наука давно уже перестала быть гомогенной системой. Если в начальный период ее существования новые научные школы, вносившие существенные изменения в теорию, как бы продолжали общую нить исследования (неоклассика при всей ее оригинальности считалась, тем не менее, продолжением классической теории), то впоследствии появлялось множество направлений развития теоретической мысли, претендующих на уникальность и самодостаточность. Когда речь идет об исследованиях новых явлений в экономической жизни или оригинальных подходах к прежним научным представлениям, то вполне приемлемы претензии авторов на создание собственных «локальных» теорий, ставших составными частями общей экономической науки [4, 5]. Однако не совсем оправданным представляется присвоение себе отдельными научными течениями «общеэкономического статуса», когда появляется широкий набор «экономик» на любой вкус: постиндустриальная, сервисная, информационная, институциональная, эволюционная, сетевая, интеллектуальная и другие ее виды, подробное изложение которых можно найти в одноименных монографиях и учебниках.
Плодотворность того или иного онтологического подхода зависит прежде всего от правильного понимания человека как экономического субъекта. Предлагаемый в данной статье подход основывается на выявлении подлинной природы человеческой личности и предполагает доказательство следующей главной гипотезы: индивидуализм и коллективизм одновременно присущи человеческой личности и неизбежно проявляются в ее жизненных интересах, в том числе и экономических.
Если удастся доказать правильность этой гипотезы, то она поставит под сомнение сам принцип всеобъемлющего и безраздельного индивидуализма, который с этих позиций представляется методологически ошибочным. Порочность методологического индивидуализма состоит в том, что во внимание принимается и абсолютизируется лишь одна, эгоистическая, сторона человеческой сущности, но совсем не учитывается ее вторая сторона – присущий человеку коллективизм, то есть желание и умение жить в социуме [8].
Цель настоящей статьи состоит в выявлении подлинной природы человека, а также генезиса общественных интересов и публичных благ исходя из признания того, что человеческая личность представляет собой не одномерного индивидуалиста, а в ней сосуществуют и борются два начала – индивидуализм и коллективизм.
Для достижения этой цели будет показано, почему и как утверждается коллективизм в человеческой личности, каким образом возникают и укрепляются вытекающие из коллективистского (социального) начала индивидов общественные интересы и публичные блага как выражение этих интересов.
Адекватное понимание онтологии экономической науки. Каждая наука имеет свою онтологию – изначальные представления об объекте своего изучения, отличающие ее от других научных дисциплин. Естественные науки занимаются исследованием неживой природы, а также населяющего планету растительного и животного мира. Там стихийные законы природы действуют сами по себе, то есть объективно, без участия людей, действия которых, напротив, являются осознанными, волевыми и самостоятельными, то есть субъективными (человек выступает субъектом по отношению к другим материальным объектам). Последнее определяет иной характер объективных законов, действующих в человеческом обществе.
В своей жизни человек поступает самостоятельно, по велению собственного разума и по своей воле. Однако в действиях всей массы людей проявляются некоторые общие тенденции, которые становятся очевидными постфактум, то есть как конечный результат совокупной человеческой деятельности. Эти тенденции являются отражением объективных (не зависимых от поведения отдельных субъектов) законов, регулирующих развитие всего общества, как бы приводя к общему знаменателю хаотичные действия индивидов. Так действуют, например, законы ценообразования на свободном рынке.
Следует солидаризироваться с О.И. Ананьиным, различающим онтологию от собственно теории: «Теоретическое исследование призвано открывать новые факты и закономерности, онтологический анализ – выявлять скрытые предпосылки, лежащие в основании соответствующих теорий…» [2. С. 6–7].
Теоретическую и объективную реальности предлагает различать и И.А. Болдырев: «Теоретическая реальность, структура которой изучается в ЭО (экономической онтологии. – Ю.К.), не тождественна теории, а представляет собой ту реальность, на фоне которой и исходя из которой разворачивается теоретическая аргументация (то есть само содержание теории)» [3. С. 48].
Научную теорию можно рассматривать только как приближение к некой абсолютной истине. Теория, следовательно, является не точным слепком с объективной реальности, а всего лишь представлением о ней данного автора, то есть субъективным знанием о реальных объектах и процессах. Субъективность теории выражается, во-первых, в том, что она несет на себе печать индивидуального подхода автора, а во-вторых, в том, что она отражает объективную реальность не в полном объеме.
Очевидно, что онтология любой науки не может не отражать особенности объекта ее исследования. В отличие от естественных наук, имеющих дело с окружающей человека природой, общественные науки, как следует из самого их названия, занимаются человеческим обществом, состоящим из разумных существ (homo sapiens).
Объектом экономической науки служит хозяйственная сфера жизни общества, предназначенная для самообеспечения людей средствами существования (пищей, одеждой и обувью, жилищем, средствами передвижения, услугами быта, досуговыми и культурными благами). Поскольку этим экзистенциальным делом вынуждены заниматься сами люди, то именно они являются субъектами экономической деятельности. Объектами их деятельности служат материальные и духовные ценности, которыми они оперируют по отдельности или сообща в процессе удовлетворения своих потребностей. Для этого они вступают во взаимоотношения друг с другом по поводу производства, обмена и распределения этих ценностей и руководствуются при этом общепринятыми принципами и правилами.
Эти очевидные истины создают изначальное представление любого исследователя об экономике и лежат в основе онтологии экономической науки. Научная онтология дает исходную характеристику
1) экономическим субъектам (агентам, акторам, осуществляющим хозяйственную деятельность или в ней участвующим в разных ипостасях – предпринимателям и наемным работникам, коммерсантам и покупателям-потребителям, инвесторам и реципиентам социальной помощи);
2) объектам их экономической деятельности (продуктам и прочим потребительским благам, земле и недвижимости, денежным накоплениям и инвестициям, банковским и страховым продуктам, всевозможным услугам);
3) отношениям между субъектами по поводу объектов (производственным и рыночным связям, отношениям собственности, финансовым трансакциям) и
4) общим принципам хозяйствования, которыми руководствуются субъекты и которые заложены в институциональных и иных условиях осуществления их деятельности.
В разных человеческих цивилизациях, на разных этапах их развития, включая известные нам общественно-экономические формации европейской цивилизации, вышеперечисленные четыре главные составляющие онтологии содержательно различаются, формируя собственную экономическую среду, требующую для своего изучения особую теоретическую парадигму. Такая парадигма складывалась и в процессе исследования нынешнего капиталистического общества, на разных этапах его развития отражая с разной степенью достоверности реально протекавшие процессы.
Представления авторов отдельных теорий об этих четырех составляющих онтологии экономической науки могут быть разными, но сами теории имеют тем большую научную ценность, чем полнее и точнее они отражают реальную действительность. Каждая экономическая теория имеет собственную онтологию, отражающую исходные представления ее авторов как о предмете исследования в целом, так и о сущностной характеристике экономических субъектов, объектов, отношений между субъектами по поводу объектов и принципов ведения хозяйства, которых придерживаются субъекты. Эта изначальная аксиоматика во многом определяет подходы к исследованию (его методологию) и его конечные результаты, которые могут соответствовать реальной действительности с разной степенью точности.
Центральным элементом онтологии из вышеперечисленных четырех ее составляющих является человек как действующий экономический субъект. Именно он оказывает воздействие на объекты, участвует в выработке взаимоотношений по поводу объектов и в формулировании принципов своей жизнедеятельности. Поэтому правильное понимание сущности человека является определяющим для экономической и любой другой социальной науки.
Главной чертой, отличающей человека от животного, служит его разумность, которую следует отличать от понятия рациональности в ее наиболее распространенном понимании. Ведь свой разум человек может использовать не только себе во благо, но и во вред, не говоря уже о его вполне разумных действиях в отношении других людей – действий, которые также могут быть либо доброжелательными, либо враждебными, продиктованными эгоизмом.
Пора развенчать стойкое понимание человека разумного (homo sapiens) как однозначно позитивного существа, поскольку он руководствуется разумом. Ведь разумное (сознательное) поведение вовсе не означает, что оно всегда идет на пользу самому человеку и тем более другим людям, то есть преследует всеобщее благо. Недаром, сталкиваясь с неблаговидными, и даже разрушительными, поступками, часто говорят о совершающем их человеке, что он вовсе «не сапиенс». На самом же деле подобные люди эффективно используют свой разум исключительно в эгоистических, и даже преступных, целях, то есть поступают разумно с точки зрения превратно понимаемых собственных интересов. Следовательно, человеку недостаточно быть разумным, чтобы не представлять опасности для других людей и общества в целом. Важно быть добропорядочным членом общества, гуманным и социально ответственным субъектом.
На эту проблему также обращает внимание политолог и экономист Г. Саймон. Считая поведение людей в принципе разумным, способным логически связывать ставящиеся цели и средства их достижения, ученый отмечает, что цели и ценности у разных людей разные, и поэтому одинаково разумное поведение может диаметрально различаться – быть либо эгоистичным, либо альтруистским. Поэтому для определения фокуса (направленности) социального действия людей важно иметь максимально полную информацию об их умах, убеждениях и желаниях (24. Р. 60).
Применяемый в экономической науке термин «рациональность» отличается от обычной разумности тем, что он имплицитно относится только к порядочным людям, не наносящим сознательного ущерба ни себе, ни другим. Имеется в виду рациональность в достижении меркантильных целей, преследующих материальную выгоду. Именно на этом строятся все поведенческие теории, включая теорию общественного выбора, и все математические модели. Однако мотивы действий людей определяются не только сугубо материальными интересами и стремлением к получению выгоды, но и исповедуемыми ими ценностями, будь то религиозные верования и догматы или этические нормы и просто эмоции. Поэтому понятие «рациональности» в отличие от просто разумности должно включать моральный и чувственный аспекты, что означает самоограничение человека этическими соображениями порядочности и сострадания по отношению к другим людям. Требование не делать другому того, чего не желаешь получить от него в свой адрес, имплицитно присутствует в понятии homo eoconomicus как в классической теории Адама Смита, так и в протестантской этике Макса Вебера [17]. Вся теория рыночной экономики исходит, по умолчанию, из того, что продавцы и покупатели на рынке относятся друг к другу честно, обязуясь не обвешивать, не обсчитывать, не укрывать товары, соблюдать равноценность обмена. Без этого просто невозможна цивилизованная торговля.
Односторонность методологического индивидуализма, не позволяющая исследовать социальную тематику. С самого начала своего возникновения экономическая наука исходила из методологического постулирования индивидуализма как сущностной характеристики человеческой личности, определяющей ее поведение прежде всего в сфере экономики. Хотя сама экономика претерпела очевидную трансформацию в процессе исторического развития в направлении усиления регулирующей роли государства, в теории остаются незыблемыми прежние исходные постулаты о рациональном индивидууме как экономическом субъекте, действующем только на свободном рынке и испытывающем на себе определяющее воздействие рыночных отношений.
Такое понимание соответствовало эпохе становления и утверждения рынка свободной конкуренции, когда торжествовал рациональный эгоизм товаропроизводителей и потребителей, не приводивший к серьезным сбоям в общем экономическом развитии. Однако по мере появления и усиления недостатков («провалов») свободного рынка, для устранения и предупреждения которых потребовалось вмешательство государства, стала выявляться односторонность методологического индивидуализма [13]. Этот принцип начал терять свою первоначальную универсальность, так как с его позиций нельзя было правильно понимать усложнившуюся реальность.
Наряду с индивидуальными интересами все большее значение стали приобретать интересы всего общества, существование которых экономическая наука была уже не в состоянии игнорировать. Спор шел лишь о том, что собой представляют эти общественные интересы, откуда они возникают и как соотносятся с исходными индивидуальными устремлениями и предпочтениями [12].
В самом деле, если продолжать исходить из понимания экономического человека как эгоистического индивидуалиста, то нельзя объяснить, откуда берутся общественные интересы и публичные блага и защищающая их государственная надстройка. Неуклонно утверждающаяся социальная реальность явно противоречит сущности человека-индивидуалиста и нуждается в ином его истолковании на научной основе, если не считать ее продуктом Божьего промысла или порождением космических сил [9].
Изначальным пороком методологического индивидуализма было неверное онтологическое понимание человека, а именно признание лишь одной – индивидуально-эгоистичной его сущности при игнорировании другого человеческого начала (как «общественного животного»), которое приобретается от неизбежного пребывания в обществе себе подобных, в коллективе сознательных личностей. Если бы человек не обладал коллективистским началом, не имел желания и умения жить в социуме, человеческое общество не могло бы существовать. Следовательно, коллективизм (социальность) – это неотъемлемое составляющее человеческой природы, одно из двух его начал наряду с индивидуализмом.
Индивидуализм востребован в большей мере в рыночной среде, где определяющими являются корыстные интересы. Именно поэтому принцип методологического индивидуализма адекватен рынку и позволяет раскрывать его закономерности. Однако для исследования нерыночных сфер он не подходит, так как там господствуют общественные интересы, выражающие коллективистские потребности людей. Коллективизм воспитывается и царит в семейных отношениях, несвободных, конечно, и от неизбежного влияния рынка, но построенных на ведении натурального (безобменного) хозяйства. Он присущ государственной и другим общественным сферам, где целью деятельности является не обязательное извлечение прибыли, а удовлетворение совместных потребностей людей, которого не в состоянии обеспечить рынок в силу ограниченности своих критериев эффективности получением сиюминутной и только индивидуальной выгоды [9].
Однако недостаточно, на наш взгляд, лишь констатировать наличие общественных интересов без объяснения причин их возникновения и характера взаимодействия с интересами индивидуумов. Иначе общественные интересы предстают как чужеродное тело в мире индивидуального эгоизма, как нечто случайное и необязательное, в лучшем случае как исключение из господствующих правил. Если же считать их порождением самого общества, то и в этом случае непонятно, что побуждает его защищать именно общие блага вместо охраны только индивидуальных ценностей.
Неизбежность утверждения коллективизма в человеческой личности. Человек может жить и развиваться только в обществе себе подобных. Вне этого общества он утрачивает человеческие черты. Вне общества люди не могут сохранять свою человеческую сущность и, как показывают реальные жизненные примеры, быстро деградируют и начинают вести себя как животные, среди которых они волею судеб оказываются, даже начинают передвигаться на четвереньках. Постоянное пребывание в обществе себе подобных вырабатывает у людей особые качества, необходимые для совместного существования, при сохранении особенностей их биологической природы.
Ради выживания человека как индивида и как биологического рода в его природные инстинкты заложен индивидуализм – превалирование личных интересов над интересами других людей. Индивидуализм обеспечивает выживание человека, как и любого животного, среди себе подобных, с которыми он вынужден конкурировать, а иногда даже бороться за жизнь.
В человеческом обществе врожденный индивидуализм неизбежно дополняется коллективизмом. Он начинает формироваться уже в семье под влиянием позитивного примера родителей и других родственников. Ребенок учится не быть эгоистом, делится своими игрушками и сладостями, осознает неприкосновенность чужого имущества и необходимость заботиться об общем благе.
Взрослые люди, вынужденные жить в более широком, чем семья, социуме, быстро начинают осознавать потребность в защите от враждебных действий более сильных, богатых и влиятельных соплеменников. При родовом строе они доверяли заботу о своем благополучии главе рода, а в дальнейшем – избираемым блюстителям порядка. В людях постепенно крепло убеждение, что необходимо усмирять собственное своеволие и добиваться того же самого от других. Иначе наладить нормальную совместную жизнь невозможно. Так при всеобщем согласии возникает общественная система безопасности, исторически связанная с появлением государства и его ролью арбитра. При отсутствии элементов коллективизма в отдельной личности сделать это было бы невозможно.
Поскольку всем людям суждено жить вместе не только в семье, но и в более крупных социумах, то их выживание и совершенствование возможно только при условии ограждения более слабых физически и менее удачливых в жизни от посягательства сильных и напористых. Поэтому в обществе вырабатываются правила лояльного поведения, за соблюдением которых всеми его членами следят общественные структуры от семьи до государства. Это происходит, потому что сами люди хотят жить именно так, чтобы выжить и реализоваться как личности.
Как и индивидуализм, присущий разным людям не в одинаковой мере (от безудержного эгоизма до простой склонности к одиночеству), коллективизм тоже «распределен» между ними по-разному (от его зачаточного состояния до альтруизма и повышенной социальной ответственности). В каждом конкретном человеке эти два начала сочетаются в разной пропорции, но они обязательно имеются у любого индивида. И проявляется каждый из них неодинаково в разных сферах жизнедеятельности.
Касаясь экономических аспектов данной темы, необходимо аксиоматично констатировать, что всем разумным людям свойственно стремление к получению большего эффекта с меньшими затратами. Однако это стремление может приводить к разным последствиям в зависимости от настроя конкретного человека вплоть до желания обладать чем-либо без всяких вообще затрат (например, путем обмана, воровства, грабежа, и даже убийства). С другой стороны, человеческое благоразумие заставляет большинство людей вести себя лояльно по отношению друг к другу.
Конечно, это не отменяет главного – все субъекты рынка руководствуются своими собственными интересами и ни в коей мере не проявляют альтруизма. На рынке, следовательно, господствует индивидуализм, хотя и скорректированный необходимостью заниматься общим делом. Но жизнь, в том числе и экономическая, не сводится только к рыночным отношениям. Она существовала до появления рынка и продолжится после его исчезновения. В современном же обществе все большую роль играет социальная сфера, функционирующая преимущественно на коллективистских началах.
Признание двойственной природы человеческой личности, наличия у нее помимо индивидуализма также коллективистского начала требует изменения самой парадигмы общественно-экономических научных исследований. Понимание этого начинает проникать пока что в умы отдельных ученых, среди которых можно назвать Амоса Витцтума, опубликовавшего в 2019 г. книгу «Предательство либеральной экономической теории».
Ссылаясь на достижения эволюционной биологии, антропологии и сравнительной нейропсихологии, в частности на гипотезу о «социальном мозге», Витцтум выдвигает тезис о внутренне присущей человеку социальности. На его основе он описывает модель поведения человека, отличающуюся от общепринятой в теориях, основанных на превалировании воздействия на человека только рыночных сигналов и соответствующей рациональности его экономического проведения. Эта модель подрывает безусловную веру в рыночную конкуренцию как наиболее эффективный механизм распределения ресурсов и подчеркивает необходимость социальных ориентиров, о которых говорили в своих трудах А. Смит и Дж. Милль [20].
Для данного раздела нашего исследования интерес представляет аргументация Витцтумом наличия у человека социального начала, которое, по мнению автора, присуще ему как биологическому существу, но в полной мере утверждается в процессе общественной жизни. Витцтум говорит о естественном переходе от врожденного эгоизма к инстинктивной социальности, развивающейся затем в осознанную приверженность обществу: «Социальность – результат не эгоистической или корыстной мотивации, а скорее более глубокого чувства общности. На ранних стадиях социальные действия были основаны на инстинктивном чувстве (кровного) родства. Потом сознание родства приобретает более когнитивный характер, и, следовательно, действие в интересах более абстрактного понятия родства предполагает, возможно, и более широкое сообщество, которое могло бы быть объектом подобных действий, и некоторые правила поведения, не связанные напрямую с интересами субъектов и не являющиеся врожденными… но тем не менее внутренние и не функциональные в простом смысле этого слова» [26. Р. 361].
Задаваясь вопросом, как влияет внутренне присущая человеку социальность (intrinsic sociality) на его поведение в обществе и само общество, Витцтум полагает, что рациональность человеческого действия может не сводиться к единственному мотиву личной выгоды, а преследовать также общие интересы социума. По его мнению, современная теория отошла от видения классических экономистов, ставивших в центр своих исследований тоже индивида, но действующего в социальной системе координат, где этика может влиять на индивидуальные мотивы поведения. Именно этот отход Витцтум считает предательством либеральной экономической теории по отношению к классике.
Индивидуальные и общественные интересы. Два начала человеческой личности – индивидуализм и коллективизм – порождают у нее как индивидуальные, так и общественные интересы. Они генерируются самой природой человека как «общественного животного», осознаются отдельными личностями по-разному и сосуществуют в разной пропорции в зависимости от присущих им склонностей.
Индивидуальный интерес – это стремление каждого человека к получению только для себя максимума пользы и к недопущению грозящего ему вреда. Полезно для нормального человека все то, что содействует его продолжительной и высококачественной жизни, а вредно то, что этому мешает.
Индивидуальный экономический интерес состоит в обеспечении человеком необходимых условий для его жизни с помощью собственного труда и имеющихся у него ресурсов. Частные интересы индивидов реализуются в процессе их свободных взаимоотношений на конкурентной основе. В экономической сфере это происходит посредством рынка, где осуществляется эквивалентный обмен индивидуальными благами (стоимостями). Конкуренция присутствует и при стремлении людей получить более благоприятный социальный статус.
Общественный интерес любого человека состоит в стремлении извлекать пользу от пребывания в том или ином социуме и одновременно получать защиту от нанесения вреда со стороны этого социума или отдельных его членов.
Коллективистское начало в человеке – не абстрактное понятие. Оно проявляется у каждой личности в разных конкретных формах. Общественные интересы личности проявляются уже на уровне врожденных инстинктов (создание семьи, объединение в группы для защиты от внешней опасности). Однако в полной мере они выражаются в приобретенных моральных устоях (уважение прав других членов социума, ограничение ради них собственных необузданных желаний) и в готовности соблюдать законы и другие общественные нормы. Опосредованно они проявляются при участии человека в деятельности разных общественных структур, призванных защищать не только индивидуальные, но и коллективные интересы групп, социальных слоев, классов и народа в целом. Люди проявляют свои коллективистские качества, следуя нормам общественной морали, требуя выполнения законов, соблюдая чистоту и порядок на улицах, борясь за справедливость, словом, защищая общественные интересы.
Индивидуальные и общественные интересы уживаются в каждом отдельном человеке, они противоборствуют и определенным образом сочетаются, причем временами они могут даже полностью подавлять друг друга. Однако они, тем не менее, реально существуют в диалектическом единстве и выражаются в конкретных поступках и общем поведении любого индивида. Само существование, помимо законченных эгоистов, еще и альтруистов свидетельствует о наличии у последних ярко выраженных социальных интересов, которые часто преобладают и определяют личностный тип. Этот интерес заставляет таких людей задумываться об общем благе, об улучшении жизни других людей и всего социума, совершать неэгоистичные поступки, и даже посвящать всю свою жизнь служению общему делу [7].
При организации жизни в любом социуме складываются правила общежития, которые не навязываются извне, а являются выражением коллективистского начала в людях. Они сами так хотят жить, хотя некоторых из них, в ком преобладает эгоизм, приходится всем миром принуждать к соблюдению установленных правил. Стремление к общему благу в разной мере есть у каждого индивида. Поэтому у людей, оказавшихся в коллективе, начинает просыпаться или укрепляться их коллективистское начало, хотя до этого оно могло не проявляться. Если бы люди сами не организовывали совместную жизнь, то она в принципе была бы невозможной. А если она реально существует, то это значит, что дух коллективизма присутствует у большинства индивидов, заражающих им других или, по крайней мере, заставляющих их ограничивать свой эгоизм. В своем большинстве люди легко преодолевают в себе эгоизм и не страдают от того, что им приходится смирять свою необузданность. Правда, не исключается и другой вариант, когда может возобладать всеобщий эгоизм, и тогда социум распадается или деградирует.
Частные и общественные блага как экономические объекты. Понять механизм взаимодействия частных и общественных интересов можно только в их единстве, а не в противопоставлении их как взаимоисключающих категорий. Тогда более четкими становятся и представления о частных и общественных благах, которые предназначены для реализации двух разных типов интересов личности.
Частные блага создаются индивидуальными и корпоративными производителями для удовлетворения потребностей индивидов или их добровольных объединений. На свободном рынке, где обращаются такие блага в виде товаров и услуг, господствуют преимущественно индивидуальные интересы, эгоизм и корысть. Там все виды труда приводятся к общему знаменателю, каковым служит общественно необходимый труд, и выравнивается платежеспособный спрос на товары с их реальным предложением при помощи соответствующего изменения цен. На рынке нет места для альтруизма, каждый его участник следит, чтобы обмен был эквивалентным или же совершался только в свою пользу.
Общественные блага предназначены для удовлетворения общих потребностей людей. Эти блага неоднородны, отдельные их виды получили разные наименования: публичные, мериторные, опекаемые в зависимости от способов их создания и использования [14, 15].
В зависимости от способа возмещения затрат на их производство публичные блага подразделяются на платные и бесплатные. В процессе их использования складываются принципиально разные материальные взаимоотношения между государством и гражданами.
Общественные блага, предназначенные для всеобщего и в основном бесплатного потребления, производятся и используются иначе, чем частные и те публичные блага, затраты на которые частично или полностью возмещаются пользователями. Рыночные закономерности здесь действуют в определенных пределах, например, требуя соответствия издержек производства потребительным свойствам конкретных благ, что важно для экономии бюджетных средств. Аллокация же инвестиций по объектам и сферам осуществляется волевым решением властей в зависимости от их понимания общественной потребности в тех или иных публичных благах.
По способу потребления гражданами общественные блага подразделяются на два принципиально разных типа: материальные и нематериальные. Материальные (физически осязаемые) блага представляют собой конкретные объекты, создаваемые государством или обществом и используемые всеми желающими в индивидуальном порядке преимущественно бесплатно (парки, библиотеки, школы, больницы, поликлиники, бесплатные шоссе) или же за полную и льготную плату (объекты энергетической, транспортной и иной инфраструктуры). В первом случае одни индивиды могут пользоваться бесплатным благом многократно, а другие вообще отказываются от него за ненадобностью, не получая за это никакой компенсации. Во втором случае граждане пользуются благами сугубо индивидуально и оплачивают только потребленную их часть. Государство берет на себя труд создавать эти блага в тех случаях, когда частники этого не могут или не хотят делать. Здесь господствуют чисто рыночные отношения, когда индивид платит за услугу сполна, хотя государство может в социальных целях предоставлять субсидии малоимущим или льготы малому бизнесу, экспортным и социально значимым производствам.
Нематериальные общественные блага представляют собой не обычные товары и услуги, а создаваемые государством условия, обеспечивающие всеобщие интересы граждан. К ним относятся условия безопасной и упорядоченной жизни граждан, создаваемые государством независимо от их личных желаний и готовности платить за это налоги. Их можно подразделить на три группы: 1) обороноспособность страны (защита ее от внешних врагов); 2) внутренняя безопасность граждан и защита их конституционных прав; 3) управляемость страной в целом и разными сферами жизнедеятельности общества.
Нематериальные блага в отличие от материальных предоставляются сразу всем гражданам во всей их совокупности и используются в комплексе без индивидуализации их потребления. Для обеспечения таких благ создаются специальные материальные объекты (армия со всем ее оснащением, оборонно-промышленный комплекс, органы правопорядка, суды, тюрьмы, учреждения государственной власти, организации социальной и культурной сфер). Эти объекты служат общей материальной базой, необходимой для предоставления соответствующих нематериальных благ.
Ограниченные размеры статьи не позволяют, к сожалению, остановиться на взаимоотношениях людей и принципах их деятельности как важнейших составляющих онтологии экономической науки. Тем не менее хотелось бы обратить внимание на то, что вопросам взаимодействия людей уделяется все большее внимание, но главным образом как проблеме координации их деятельности, в том числе и в экономической сфере. При этом акцентируется не сущностное содержание этой деятельности по поводу экономических объектов (прав собственности и других производственных отношений), а сами процессы межличностной координации и их типология.
С.И. Паринов говорит о трех базовых формах координации – договорной (прямой, непосредственной), косвенной (опосредованной коммуникации, стигметрии с использованием имеющихся внешних знаков, меток) и следовании общепринятым правилам [10]. В повседневной практике эти формы сочетаются в разных пропорциях. В применении к экономике он выделяет рыночную, иерархическую (делегированную) и сетевую (договорную, доверительную) координацию. Распространение Париновым договорных отношений на отдельные фазы и сферы общественного воспроизводства приводит к тому, что, например, денежно-финансовая система объявляется всего лишь средством взаимообмена правами на ресурсы поддержания жизни (то есть деньгами и ценными бумагами) при игнорировании капиталистической сути кредитно-денежных отношений, состоящей в кругообороте капитала с целью максимизации прибыли, включая спекулятивные и иные негативные аспекты современной финансиализации мировой экономики. Улучшение финансовой координации может способствовать максимизации экономической выгоды, но не является главным ее источником при капитализме.
В.М. Полтерович [11] считает, что в рыночной сфере координирующую роль выполняет конкуренция, которая представляет собой соперничество агентов в их борьбе за получение приоритетной позиции, тогда как в других сферах (и даже в рыночной) все большую роль играет коллаборация субъектов хозяйственной и иной деятельности. Для нашего исследования важно, что помимо рыночной, на базе которой строится большинство экономических теорий, указанными авторами упоминаются альтернативные формы взаимодействия, а именно договорная и иерархическая, преимущественно используемые в социальной сфере и в деятельности государственной власти, координирующей производство, распределение, обмен и потребление общественных и частично индивидуальных благ. Как отмечает Е.В. Устюжанин [21], при использовании общественных благ определяющую роль играет нормативная координация, включающая стандартизацию, устанавливаемую государством. В данном случае речь идет об осознанной, субъективной деятельности людей, которая осуществляется не только как бессознательное следование объективным рыночным законам, но и на основе сознательного учета их требований, открытых наукой или выявленных на практике, причем иногда вопреки краткосрочным критериям эффективности в расчете на больший эффект в будущем.
Отмечая максимизирующий характер экономической деятельности, выражающейся в стремлении агентов получать максимальную выгоду от исполняемой работы, и учитывая неизбежность взаимодействия производителей с поставщиками сырья и сбытовыми организациями, а также со сферой распределения и потребления, А. Алчиан и Г. Демсец [1] сделали упор на договорные отношения между всеми участниками воспроизводственного процесса. При этом авторы абстрагировались от реальности капиталистической системы, при которой отношения в процессе производства строятся не на договоре равноценных субъектов, а на грубо иерархической форме взаимодействия, когда наемные работники вынуждены подчиняться навязанным работодателем условиям и его неограниченной воле.
Заключение. В ходе проделанного нами исследования были приведены аргументы, подтверждающие гипотезу о том, что в реальной действительности проявляется двойственная природа человека, и опровергается одностороннее представление о нем как об исключительно эгоистичной личности. Осознание этого факта требует новой экономической аксиоматики, которая исходит из подлинной природы человека, являющегося не просто рациональным индивидуалистом, но еще и непременным членом разных коллективов и человеческого общества в целом.
Индивидуализм и коллективизм свойственны человеку во всех проявлениях его жизнедеятельности. Однако в разных сферах может преобладать одно из этих двух сущностных свойств. В рыночных отношениях на передний план выходит индивидуалистическая сущность человека как производителя, торговца, покупателя и потребителя. При организации же общественной жизни во всех ее проявлениях первичным становится коллективизм. Общественные интересы заставляют государство вмешиваться в изначально стихийные рыночные отношения с целью защиты от негативных последствий монополизма и других неурядиц на рынке вплоть до периодических кризисов.
Поскольку предлагаемый подход допускает два антагонистических постулата в экономических исследованиях, то логично назвать его методологическим дуализмом, означающим признание диалектического сочетания индивидуализма и коллективизма (социальности) в человеческой личности. Методологический дуализм применим и для экономических, и для других общественных наук, изучающих человеческие отношения в разных сферах жизни социума. Везде проявляется двойственная природа человека, без учета которой нельзя до конца понять ни мотиваций отдельной личности в разных обстоятельствах, ни природу и особенности любых общественных институтов.
Предлагаемая аксиоматика человеческой сущности отвергает как безудержный индивидуализм, к которому нельзя свести все богатство поведения человека в повседневной жизни, так и всепоглощающий, в особенности насильственный, коллективизм, подчиняющий себе свободную личность. Реально имеет место сочетание этих двух начал на всех уровнях (в каждом человеке, в любом социуме, в государстве и обществе в целом), и задача науки состоит в исследовании разных вариантов такого сочетания в тех или иных конкретных условиях.
Авторлар туралы
Yuriy Knyazev
Institute of Economics (RAS)
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: kyuk151@rambler.ru
Grand Ph.D. in Economics, Professor, Head Researcher
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Алчиан А., Демсец Г. Производство, информационные издержки и экономическая организация // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. 2004. Вып. 5. С. 166–207.
- Ананьин О.И. Онтологические предпосылки экономических теорий. М.: ИЭ РАН. 2013.
- Болдырев И.А. Онтология экономической науки // Философские проблемы экономической науки. М.: ИЭ РАН. 2009.
- Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социодинамика. М: ИЭПресс. 2000.
- Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономика как синергетическая система. М.: ИЭ РАН. 2009.
- Князев Ю. Обновление экономической теории: от непреложного индивидуализма к коллективизму // Мир перемен. 2011. № 2.
- Князев Ю.К. Современная экономика – синтез рынка и социального регулирования. М.: Инфра–М. 2014. 176 с.
- Князев Ю. Воздействие глобального кризиса на экономическую теорию и практику // Общество и экономика. 2011. № 2.
- Князев Ю. Индивидуализм и коллективизм – противоречивые начала человеческой личности и общества // Экономист. 2008. № 6.
- Паринов С.И. Микроуровень процессов экономической координации // Вопросы экономики. 2023. № 2. С. 127–144.
- Полтерович В.М. К общей теории социально-экономического развития. Часть 1. География, институты или культура? // Вопросы экономики. 2018. № 11. C. 5–26.
- Попов А. «Методологический индивидуализм» и холизм в контексте плановых и рыночных методов хозяйствования // Экономист. 2015. № 12.
- Радыгин А., Энтов Р. «Провалы государства»: теория и политика // Вопросы экономики. 2012. № 12.
- Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага: институциональные трансформации // Вопросы экономики. 2011. № 3.
- Рубинштейн А.Я. Теория опекаемых благ. Учебник. СПб.: Алетейя. 2018.
- Самуэльсон П. Экономика. М.: НПО «Алгон» ВНИИСИ. 1992. Т. 1. 334 с.
- Сен А. Адам Смит и современность // Вопросы экономики. 2011. № 11.
- Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика. 1997.
- Современная экономическая мысль. М., 1981.
- Сущенцова М.С. Социальная экономика: что отказываются признавать экономисты? О книге М. Витцтума «Предательство либеральной экономической теории» // Вопросы экономики. 2022. № 3.
- Устюжанин Е.В. Вопросы построения теории координации хозяйственного взаимодействия // Журнал институциональных исследований. 2022. Т. 14. № 1. С. 25–35.
- Финансовый кризис и провалы современной экономической науки // Вопросы экономики. 2010. № 6.
- Commons J.R. Institutional Economics. Its Place in Political Economy. V. I. USA. 1961.
- Simon H.A. Rationality in Political Behavior // Political Psychology. 1995. Vol. 16. No 1.
- The Conservative Economic World View. N.Y. 1979.
- Witztum A. The betrayal of liberal economics. Chan: Palgrave Macmillan. 2019.