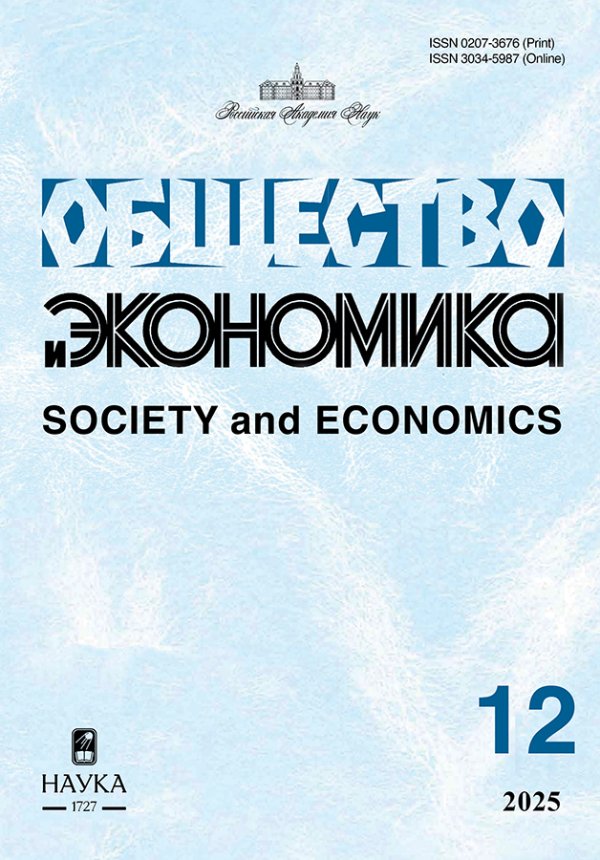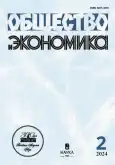Инвестиционная стратегия компании с поправкой на денежно-кредитную политику государства
- Авторы: Луценко С.1,2
-
Учреждения:
- Института экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук
- Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 84-94
- Раздел: ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
- URL: https://medbiosci.ru/0207-3676/article/view/256510
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624020067
- ID: 256510
Полный текст
Аннотация
Автор рассматривает влияние политики Банка России, информационной асимметрии и рентабельности (прибыльности) бизнеса на инвестиционную повестку российских публичных компаний. Жесткая денежно-кредитная политика государства является сдерживающим фактором в экономике и следствием сокращения корпоративных инвестиций. В условиях удорожания фондирования и внешних санкций российские компании вынуждены сфокусироваться на внутренних источниках инвестиций. С помощью анализа панельных данных автор попытался доказать, что компании действуют в русле предупредительного мотива, сберегая часть денежных средств для последующего финансирования капитальных вложений.
Осязаемость активов является индикатором или маяком при оценке компанией цены привлечения капитала. Автором была выбрана регрессионная модель с фиксированными эффектами для доказательства влияния удорожания фондирования на инвестиционные возможности компании. В ненаблюдаемый индивидуальный эффект могут входить различные показатели, в частности качество корпоративного управления, колебания на финансовых рынках. Рост акционерной стоимости связан непосредственно с рентабельностью активов. Увеличение ключевой ставки ухудшает инвестиционные перспективы компании. Сберегая денежные средства, компания может обратиться к долговому финансированию в условиях низкой информационной асимметрии. Материальные активы могут служить имущественным обеспечением, а долг – недорогим вариантом финансирования, даже в условиях финансовых ограничений. Необходимо привязать ключевую ставку Банка России к рентабельности в ключевых отраслях экономики для расширения инвестиционного спроса, в контексте основных задач Стратегии национальной безопасности РФ.
Полный текст
Введение и обзор литературы. Дж. Грэм [15; 16] отмечает, что одним из важных факторов, влияющих на инвестиции, является финансовая гибкость или долговой потенциал компании, то есть способность выполнять свои долговые обязательства и удовлетворять потребности при долговом финансировании с учетом изменяющихся внешних обстоятельств. Среди прочих важных факторов он выделяет: рентабельность (прибыльность) бизнеса и доступ компании к долговому финансированию.
Р. Корайжик и А. Леви [19] исследуют роль макроэкономических условий и финансовых ограничений при выборе структуры капитала. Финансово неограниченные компании выбирают время для эмиссии акций, чтобы оно совпадало с периодами благоприятных макроэкономических условий.
Г. Деанджело и др. [8], Д. Денис и С. МакКеон [11], П. Болтон и др. [5] рассматривают финансовую гибкость в качестве долгового потенциала в условиях финансовых ограничений. Под долговым потенциалом понимается способность хозяйствующего субъекта к погашению кредита определенной величины.
Д. Денис [10] отмечает, что долговой потенциал имеет смысл исключительно в условиях шоков, то есть колебаний на финансовых рынках, которые разумно предвидеть и на которые невозможно повлиять. При наличии шоков компаниям необходимо выбирать финансовую политику для сохранения гибкости в условиях неопределенности.
Р. Фаленбрах и др. [12] исследуют, как финансовая гибкость влияет на реакцию цен на акции в результате внешних непредвиденных обстоятельств – шоков. Они определяют финансовую гибкость как легкость, с которой компания может профинансировать дефицит денежных средств, и заключают, что организации с большей финансовой гибкостью будут меньше подвержены шоку.
Т. Лю и А. Шивдасани [20] заключают, что финансовая гибкость является существенным фактором, определяющим будущие изменения в структуре капитала. Кроме того, гибкость объясняет большую вариативность изменений структуры финансирования, чем другие известные факторы, определяющие финансовый леверидж. Финансовая гибкость позволяет организациям использовать новые инвестиционные возможности.
С. Дасгупта и др., Дж. Барри и др. [7; 4] исследуют финансовую гибкость как состояние, которое отражает способность компании реагировать на внезапные инвестиционные возможности с учетом воздействий долговых ограничений, которые могут повлиять на привлечение инвестиций. Они отмечают, что невозможность легкого доступа к финансовым рынкам может привести к тому, что фирмы, испытывающие финансовые трудности, будут в большей степени полагаться на внутренние фонды (которые являются менее дорогостоящими, чем эмиссия акций).
Вышеприведенные работы не учитывали комплексное влияние таких факторов, как денежно-кредитная политика государства, информационная асимметрия и рентабельность (прибыльность) бизнеса на инвестиционную политику хозяйствующего субъекта.
Одной из важных задач в Стратегии национальной безопасности РФ является необходимость ускорения темпов прироста инвестиций в основной капитал, доступность долгосрочного кредитования, защита и поощрение капиталовложений, стимулирование использования внутренних источников инвестиций [3].
Жесткая денежно-кредитная политика Банка России является сдерживающим фактором в отношении инвестиционной активности, поскольку удорожание кредитных ресурсов, высокий уровень процентных ставок ограничивает инвестиционный спрос1.
Хозяйствующим субъектам с невысоким уровнем рентабельности в условиях постоянного роста учетной ставки нечего сберегать2.
Внешние санкции стали также ограничителем в отношении инвестиционной активности российских публичных компаний.
Меры ограничительного характера в отношении системообразующих отраслей промышленности: металлургии, нефтегазовой отрасли и электроэнергетики – были обозначены западными государствами как инструмент давления.
Экономические санкции были введены и опубликованы в открытом доступе Регламентом Совета ЕС в 2014 г. (основной документ санкционной программы в отношении России со стороны ЕС). Документ содержит формулировку о том, что ЕС готов вводить пакеты существенных ограничительных мер, так как представляется целесообразным увеличение издержек России. Эти меры будут постоянно пересматриваться и дополняться3.
Автор использует в своем исследовании показатель информационной асимметрии, который является сигналом, позволяющим компании переключаться на альтернативный дешевый источник финансирования, действуя в логике «предупредительного», или «сберегающего», мотива (the precautionary motive).
Согласно гипотезе «предупредительного мотива» [18] хозяйствующему субъекту необходимо создать запас денежных средств, который в дальнейшем будет являться гарантией от негативных внешних колебаний на финансовых рынках (к ним можно отнести, в частности, ужесточение денежно-кредитной политики, санкционной политики Запада).
Кроме того, «сберегающий мотив» может быть связан с финансовой неустойчивостью и позволит компаниям создать необходимый денежный запас [21].
Осязаемость активов является прокси-переменной информационной асимметрии (наличие материальных активов в качестве залогового обеспечения).
Под информационной асимметрией понимается неравномерное распределение информации между инвесторами и компанией. Менеджмент обладает большей информацией, по сравнению с потенциальным инвестором. Низкая информационная асимметрия создает для компании условия привлечения менее дорогостоящего долгового капитала.
Материальные активы могут служить залоговым обеспечением при обращении компании к относительно недорогому долговому финансированию (по сравнению с эмиссией акций), при условии наличия достаточных внутренних денежных резервов и долгового потенциала [13].
Кроме того, объем материальных активов (основных средств), отраженных на балансе организации, влияет на стоимость бизнеса и определяет цену акций. Значительную роль в балансе играют именно основные средства, потеря, утрата, уменьшение объема, размера, ценности, стоимости которых повлечет уменьшение ценности всех активов, снижение стоимости акций, привлекательности, ликвидности как акций, так и самой компании4.
Наконец, прибыльность бизнеса является ключевым показателем, влияющим не только на инвестиционную политику, но и на благосостояние акционеров.
Прибыль как элемент капитала является внутренним источником финансирования инвестиций5.
Увеличение стоимости бизнеса, в том числе за счет части чистой прибыли, является связующим звеном повышения цены акции, прибыльности компании и благосостояния собственников 6.
Методология исследования и описание выборки. Была проведена выборка публичных российских компаний за 2018–2022 гг. с целью изучения влияния денежно-кредитной политики государства, информационной асимметрии и рентабельности (прибыльности бизнеса) на инвестиционную политику. В выборку включены 24 компании из 10 основных отраслей экономики с суммарным доходом более 10 млрд руб.77 и финансовой отчетностью, соответствующей международным стандартам, имеющих листинг на ПАО «Московская биржа». Представленные отрасли: сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, машиностроение, электроэнергетика, строительство, торговля, транспорт, телекоммуникации. Сведения о ключевой ставке взяты на сайте Банка России. Количество наблюдений для каждого хозяйствующего субъекта дифференцируется (для одних – период 2018–2021 гг., для других – 2019–2022 гг.). Данные являются несбалансированными, поэтому проводился панельный анализ данных для учета ненаблюдаемой разнородности между компаниями.
Описание переменных. Для оценки регрессии была использована зависимая переменная (объясняемая переменная) – инвестиционная политика, позволяющая проанализировать особенности активности компании в области привлечения капитальных вложений.
Были отобраны независимые (объясняющие) переменные: величина компании, инвестиционные затраты, общий уровень дивидендных выплат.
Независимые переменные были заимствованы из следующих исследований [7, 14, 17].
Мы дополнительно включили в нашу модель три независимые переменные:
- – ключевую ставку Банка России как индикатор денежно-кредитной политики;
- – показатель информационной асимметрии, осязаемость активов;
- – рентабельность (прибыльность) активов.
Показатель инвестиционной политики (Invest Policy) – отношение суммы приобретения основных средств и нематериальных активов к величине выручки.
Величина компании (Assets) – натуральный логарифм от совокупного значения активов. Данный показатель является индикатором оценки имущественного обеспечения организации при обращении к внешнему финансированию. Крупная компания имеет более легкий доступ к долговому рынку.
Инвестиционные затраты (Capex) – отношение затрат на создание и приобретение основных средств и нематериальных активов к совокупной величине активов.
Общий уровень дивидендных выплат (Dividend) – отношение выплаченных дивидендов к совокупным активам. Представленный показатель является определителем финансовых ограничений ввиду того, что прибыль – источник выплаты дивидендов, а также является источником финансирования инвестиций.
Ключевая ставка Банка России (Rate) (%).
Осязаемость активов (PPE/A) – отношение основных средств к общей величине активов. Данный показатель является прокси-переменной информационной асимметрии и позволяет компании выбирать источник финансирования, с учетом его стоимости. Кроме того, осязаемость активов характеризует долговой потенциал компании, то есть способность к погашению кредита определенного размера.
Рентабельность или прибыльность активов (ROA) (%) – отношение прибыли после налогообложения (чистой прибыли) к совокупной величине активов.
Все независимые переменные имеют лаг один год. Описательная статистика представлена в табл. 1.
Таблица 1
Описательная статистика
Переменная | Средняя | Стандартное отклонение | Минимальное значение | Максимальное значение |
Инвестиционная политика | 0,121 | 0,088 | 0,01 | 0,38 |
Величина компании | 12,981 | 1,675 | 9,4 | 17,1 |
Инвестиционные затраты | 0,071 | 0,039 | 0,0 | 0,2 |
Общий уровень дивидендных выплат | 0,041 | 0,049 | 0,0 | 0,22 |
Ключевая ставка Банка России | 6,477 | 1,583 | 4,25 | 8,5 |
Осязаемость активов | 0,447 | 0,240 | 0,02 | 0,89 |
Рентабельность или прибыльность активов | 7,241 | 8,933 | –18,9 | 44,1 |
Источник: расчеты автора на основе статистического пакета Stata.
На каждый рубль выручки в среднем приходится 12 коп. инвестиций. На каждый рубль совокупных активов – 7 коп. капитальных вложений, 45 коп. основных средств. Среднее значение рентабельности активов составляет 7,2%, а среднее значение ключевой ставки Банка России – 6,5%.
Средний уровень рентабельности в системообразующих отраслях экономики незначительно превышает среднюю ставку процента. Игнорирование государством, в лице Банка России, денежно-кредитной политики без учета прибыльности бизнеса не только ухудшает финансовое состояние компании, но срывает реализацию задачи в отношении обеспечения экономической безопасности, обозначенной в Стратегии национальной безопасности РФ (в частности, ограничивая инвестиционную активность).
Для создания условий инвестиционной активности необходимо корректировка ключевой ставки Банка России с учетом рентабельности компании. Среднее значение нормы прибыли должно примерно вдвое превышать среднее значение процентной ставки по причине дифференциации скорости оборота производительного и финансового капитала.
Другими словами, если среднее значение ключевой ставки – 6,5%, то рентабельность активов должна быть 13%. В нашем случае среднее значение прибыльности бизнеса составляет 7,2%, что ниже нормального уровня примерно в 1,8 раза [2].
Представляется интересной практика налоговых органов при исследовании налогового бремени компании с учетом ее рентабельности (оценка деятельности компании налоговым органом, которая проводится с использованием среднеотраслевых ежегодных показателей рентабельности на основании статистических данных)8. Подобная практика может быть использована и Банком России при оценке влияния ключевой ставки на прибыльность бизнеса.
Оценка и анализ модели. Регрессия, оценивающая влияние денежно-кредитной политики государства, информационной асимметрии, прибыльности бизнеса, а также других характеристик компании на инвестиционную политику, выглядит следующим образом:
где t – определенный для компании период времени, а0 – свободный член регрессии, а1, а2, а3, а4, а5, а6 – регрессионные коэффициенты, ε – случайная ошибка.
Была выбрана регрессионная модель с фиксированными эффектами с целью учета ненаблюдаемой разнородности между компаниями и протестирована на предмет качества и адекватности прогнозирования. Было учтено, что в ненаблюдаемый индивидуальный эффект могут входить различные показатели: способность менеджмента, связанная с доходностью инвестированного капитала, санкционная политика недружественных стран, учет колебаний (шоков) на финансовом рынке, качество корпоративного управления.
Сопоставляем сквозную регрессию с регрессией с фиксированными эффектами с использованием теста Вальда или F-теста: F(9,70) = 2,24 и Prob>F = 0,0287.
Результат теста свидетельствует в пользу выбора модели с фиксированными эффектами, поскольку полученное значение 2,87% ниже 5-процентного уровня значимости.
Значительная часть вариации данных приходится на индивидуальные различия rho = 0,34. Кроме того, имеет значение корреляция регрессоров с индивидуальными эффектами, равная –0,15.
О качестве подгонки в этой модели следует судить по R – квадрат: within = 0,40, который показывает достаточно высокое значение.
Индивидуальные эффекты российских публичных компаний связаны с выбранными независимыми переменными.
Кроме того, регрессия была протестирована на автокорреляцию остатков и на наличие линейной связи между объясняющими переменными, на мультиколлинеарность.
Тест на автокорреляцию остатков был проведен с помощью критерия Дики – Фуллера с константой. Критические оценки и тестовая статистика отклоняют нулевую гипотезу, поскольку тестовая статистика превышает критическое значение на 5-процентном уровне значимости.
Можно сделать вывод, что существует долгосрочная связь между денежно-кредитной политикой государства, информационной асимметрией, прибыльностью бизнеса и инвестиционной политикой компании.
В регрессии есть мультиколлинеарность, если для одной из независимых переменных значение коэффициента VIF > 10.
В нашем случае наибольшее значение VIF («фактора инфляции вариации») значительно ниже 10 (VIF = 1,6). Мультиколлинеарность в модели отсутствует (отклоняется гипотеза о мультиколлинеарности). Гетероскедастичность в модели отсутствует, и с помощью представленной регрессии можно сделать качественный и адекватный прогноз.
Результаты тестирования регрессии представлены в табл. 2.
Таблица 2
Модель, рассматривающая влияние денежно-кредитной политики, информационной асимметрии, прибыльности бизнеса и других характеристик на инвестиционную политику российских публичных компаний
Независимые переменные | Коэффициент | t-статистика | Уровень значимости t-статистики |
0,015 | 2,79 | 0,007 | |
0,922 | 4,55 | 0,000 | |
0,162 | 0,72 | 0,474 | |
–0,010 | –2,13 | 0,037 | |
0,108 | 2,68 | 0,009 | |
0,002 | 2,12 | 0,037 | |
Константа | –0,157 | –1,98 | 0,052 |
Примечание. Количество наблюдений – 86; R2: within:– 0,4024; corr(u_i,xb) = – 0.1538 , rho = 0,338. Значимость регрессии в целом: F(6,70) = 7,86 и Prob>F = 0,000 .
Результаты теста Вальда:F test that all u i = 0: F(9,70) = 2,24 и Prob>F = 0,0287.
Источник: расчеты автора на основе статистического пакета Stata.
Все оценки коэффициентов за исключением общего уровня дивидендных выплат являются значимыми на 5-процентном уровне значимости.
В условиях увеличения ключевой ставки российские компании прибегнут к финансированию своих инвестиций с помощью прибыли. Кроме того, увеличение ключевой ставки ухудшает инвестиционные перспективы компании (отрицательная связь между ключевой ставкой Банка России и инвестиционной политикой).
Менеджмент в условиях внешних ограничений, вероятнее всего, будет действовать в логике предупредительного мотива, сосредоточившись на внутренних резервах хозяйствующего субъекта (положительная связь между прибыльностью бизнеса и инвестиционной политикой). Подобная политика руководства российских компаний связана с возможной финансовой неустойчивостью в будущем и необходимостью создания дополнительного денежного запаса [18, 21].
Руководство российских публичных компаний влияет на стоимостное значение акции, а также активно корректирует уровень риска с учетом информационных сигналов с финансовых рынков (положительная связь между осязаемостью активов и инвестиционной политикой).
Другими словами, компании с более высоким значением основных средств имеют более низкий риск дефолта, связанного с обязательствами перед кредиторами, и благополучно могут справиться с будущими непредвиденными обстоятельствами (санкциями). Показатель осязаемости активов связан с риском неплатежей, а также определяет стоимость долгового капитала.
Управленческое решение должно приниматься прежде всего с позиции максимизации стоимости активов, с учетом того, что такие показатели, как рентабельность активов, капитальные затраты в большей или меньшей степени влияют на максимизацию стоимости активов. Поэтому любые неоправданно рискованные сделки и плохое управление связаны со стоимостью активов компании. Российские компании, выходя на рынок капитала, предоставляют полную информацию о своих материальных активах потенциальному инвестору, снижая риски, связанные с привлечением финансирования. Руководство может регулировать уровень риска при принятии финансовых решений (при привлечении капитала).
Материальные активы могут быть использованы в качестве инвестиционного ресурса (имущественным обеспечением для потенциального инвестора) при обращении хозяйствующего субъекта к долговому финансированию [1].
Материальные активы позволяют оценивать привлекаемый капитал в контексте предупредительного мотива. Другими словами, речь идет о переключении на иной, более дешевый источник финансирования, нежели эмиссия акций.
Компании с более высоким значением основных средств обладают высоким долговым потенциалом, то есть перспективой своевременного погашения своих обязательств, а также восполнения источника финансирования [6].
Активность менеджмента в отношении политики капитальных вложений оказывает положительное влияние на инвестиционные возможности (положительная связь между капитальными затратами и инвестиционной политикой).
Условия инвестиционных возможностей для хозяйствующего субъекта являются благоприятными (более легкий доступ к долговому капиталу) при наличии качественного имущественного обеспечения, деловой репутации и при значительных масштабах хозяйствующего субъекта, даже в условиях финансовых ограничений (положительная связь между осязаемостью активов, величиной компании и инвестиционной политикой).
Автор не согласен с позицией Г. Деанджело и др. [9], что наличие остатка денежного запаса является основанием для компании не прибегать к долговому финансированию. Напротив, сохраняя денежные средства, организация может прибегнуть к внешнему финансированию в условиях низкой информационной асимметрии (положительная связь между осязаемостью активов и инвестиционной политикой).
Автор частично согласен с позицией С. Дасгупта и др. [7], что компания будет инвестировать больше, создавать денежный запас и одновременно прибегать к долговому финансированию (наращивая свой долг) в условиях привлекательности инвестиционных проектов. В дальнейшем, если материализуются значительно более выгодные инвестиционные возможности, организации используют свой потенциал, выпуская менее дорогостоящие долговые обязательства в больших объемах. Однако реализация подобного успешного сценария возможна при условии учета такого фактора, как информационная асимметрия.
Заключение и выводы. В условиях жесткой денежно-кредитной политики государства и внешних финансовых ограничений материальные активы могут стать важным инструментом при активизации инвестиционной политики, поскольку основные средства могут служить имущественным обеспечением, а долг (при определенных условиях) – недорогим вариантом финансирования. При этом, во-первых, компания должна обладать необходимым долговым потенциалом – способностью к погашению кредита определенной величины. Во-вторых, хозяйствующий субъект должен иметь достаточно внутренних средств для сокращения суммы долга, к которому он решил прибегнуть. Прибыльность бизнеса и информационная асимметрия (осязаемость активов) могут иметь большее значение, чем другие препятствия при привлечении долгового финансирования. Российские публичные компании будут придерживаться гипотезы предупредительного мотива: сберегая и создавая денежный резерв для последующего финансирования своих инвестиций и погашения долга. Релевантность ключевой ставки Банка России с рентабельностью в системообразующих отраслях экономики будет способствовать оживлению инвестиционной активности, а также соответствовать задачам экономической безопасности в контексте Стратегии национальной безопасности РФ.
1 Ключевая ставка – это процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющаяся основным индикатором денежно-кредитной политики; была введена Банком России в 2013 г. как один из инструментов денежно-кредитной политики Банка России. См. Информация Банка России от 13.09.2013 г. «О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России» // Вестник Банка России. 2013. № 51.
2 Заключение Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 гг. // СПС «Консультант Плюс».
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 г. по делу № А40–279005/2022 // СПС «Консультант Плюс».
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2023 г. по делу № А40–239027/2016 // СПС «Консультант Плюс».
5 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2023 г. по делу № А57–17849/2021 // СПС «Консультант Плюс».
6 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2023 г. по делу № А40–9404/2023 // СПС «Консультант Плюс».
7 Приказ ФНС России от 16.05.2007 г. № ММ-3–06/308@ // СПС «Консультант Плюс».
8 Приказ ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3–06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» // Экономика и жизнь. 2007. № 23.
Об авторах
Сергей Луценко
Института экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук; Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне
Автор, ответственный за переписку.
Email: scorp_ante@rambler.ru
директор Центра экономического анализа права и проблем правоприменения, член Экспертного совета
Россия, Москва; МоскваСписок литературы
- Луценко С.И. Финансовая устойчивость российской публичной компании в контексте управления оборотным капиталом // Цифровая экономика. 2022. № 3. С. 70–76.
- Луценко С.И. Полемика вокруг денежно-кредитной политики Банка России // Экономические стратегии. 2023. № 2. С. 50–55.
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утвержденная Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400). Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). С. 5351.
- Barry J., Campello M., Graham J., Ma Y. Corporate flexibility in a time of crisis // Journal of Financial Economics. 2022. Vol. 144. P. 780–806.
- Bolton P., Wang N., Yang J. Leverage dynamics under costly equity issuance. NBER. Working Paper. 2021. P. 1–56.
- Chang X., Dasgupta S., Hilary G. Analyst coverage and financing decisions // Journal of Finance. 2006. Vol. 61. P. 3009–3048.
- Dasgupta S., Li E., Wu L. Balance sheet financial flexibility. Working paper. The Chinese University of Hong Kong. 2022. P. 1–52.
- DeAngelo H., DeAngelo L., Whited T. Capital structure dynamics and transitory debt // Journal of Financial Economics. 2011. Vol. 99: 235–261.
- DeAngelo H., Goncalves A., Stulz R. Leverage and cash dynamics // Review of Finance. 2022. Vol. 26. P. 1101–1144.
- Denis D. Financial flexibility and corporate liquidity // Journal of Corporate Finance. 2011. Vol. 17. P. 667–674.
- Denis D., McKeon S. (2012). Debt financing and financial flexibility evidence from proactive leverage increases // The Review of Financial Studies. 2012. Vol. 25. P. 1897–1929.
- Fahlenbrach R., K. Rageth K., Stulz R. How valuable is financial flexibility when revenue stops? Evidence from the covid-19 crisis // The Review of Financial Studies. 2021. Vol. 34. P. 5474–5521.
- Farre-Mensa J., Ljungqvist A. Do measures of financial constraints measure financial constraints? // The Review of Financial Studies. 2016. Vol. 29. P. 271–308.
- Frank M., Goyal V. Trade-off and pecking order theories of debt. Working Paper. University of Minnesota. 2007. P. 1–82.
- Graham J., Harvey C. The theory and practice of corporate finance: evidence from the field // Journal of Financial Economics. 2001. Vol. 60. P. 187–243.
- Graham J. (2022). Presidential address: Corporate finance and reality // The Journal of Finance. 2022. Vol. 77. P. 1975–2049.
- Hoberg G., Maksimovic V. Redefining financial constraints: A text-based analysis // The Review of Financial Studies. 2015. Vol. 28. P. 1312–1352.
- Keynes J. The general theory of employment, interest and money. London. MacMillan. 1936. 403 p.
- Korajczyk R., Levy A. Capital structure choice: Macroeconomic conditions and financial constraints // Journal of Financial Economics. 2003. Vol. 68. P. 75–109.
- Liu T., Shivdasani A. Do credit ratings matter? Evidence from S&P’s 2013 methodology revision. Working paper. University of Utah. 2022. P. 1–67.
- Myers S., Majluf N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have // Journal of Financial Economics. 1984. Vol. 13. P. 187–221.