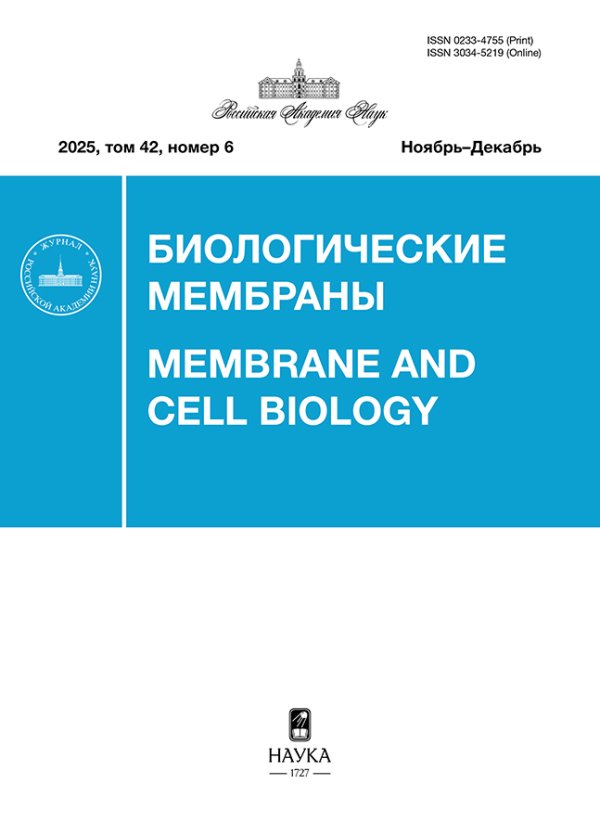Structural studies of ion channels: achievements, problems and perspectives
- Authors: Zhorov B.S.1,2, Tikhonov D.B.1
-
Affiliations:
- Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences
- McMaster University
- Issue: Vol 41, No 5-6 (2024)
- Pages: 383-399
- Section: ОБЗОРЫ
- URL: https://medbiosci.ru/0233-4755/article/view/268427
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0233475524050033
- EDN: https://elibrary.ru/cbwmyt
- ID: 268427
Cite item
Full Text
Abstract
The superfamily of membrane proteins known as P-loop channels encompasses potassium, sodium, and calcium channels, as well as TRP channels and ionotropic glutamate receptors. An increasing number of crystal and cryo-EM structures are uncovering both general and specific features of these channels. Fundamental folding principles, the arrangement of structural segments, key residues that influence ionic selectivity, gating, and binding sites for toxins and medically relevant ligands have now been firmly established. The advent of AlphaFold2 (AF2) models represents another significant step in computationally predicting protein structures. Comparison of experimental P-loop channel structures with their corresponding AF2 models shows consistent folding patterns in experimentally resolved regions. Despite this remarkable progress, many crucial structural details, particularly important for predicting the outcomes of mutations and designing new medically relevant ligands, remain unresolved. Certain methodological challenges currently hinder the direct assessment of such details. Until the next methodological breakthrough occurs, a promising approach to analyzing ion channel structures in greater depth involves integrating various experimental and theoretical methods.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Ионные каналы – это трансмембранные белки, которые образуют водные поры и позволяют ионам проходить через мембрану в соответствии с электрохимическим градиентом. Они участвуют в реализации многих физиологических функций особенно в возбудимых клетках. Перенос ионов по каналам происходит с очень высокой скоростью (более миллиона ионов в секунду). В результате они опосредуют большинство быстрых нейрофизиологических процессов, таких как установление мембранного потенциала покоя, генерация и формирование потенциалов действия, синаптическое высвобождение нейромедиаторов, постсинаптические реакции, сокращение мышц, доставка кальция и т. д. Многочисленные токсины, вырабатываемые пауками, скорпионами, змеями, рыбами, пчелами, морскими улитками и другими организмами, имеют своими мишенями ионные каналы. В медицине ионные каналы являются одними из наиболее важных мишеней для фармакологического воздействия. Многие запрещенные препараты также воздействуют на ионные каналы. Множественные наследственные (генетические) нарушения, которые называются каналопатиями, связаны с мутациями в генах ионных каналов, а также в белках (субъединицах), которые регулируют эти каналы. Дисфункции ионных каналов имеют катастрофические последствия для организма.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИОННЫХ КАНАЛОВ
Традиционно ионные каналы классифицируются по типу управляющих воздействий (потенциал-зависимые, лиганд-зависимые) или по типу проникающих ионов (натриевые, кальциевые, калиевые, хлорные). Однако некоторые каналы проводят различные ионные токи. Например, NMDA-рецепторы, являющиеся подтипом ионотропных глутаматных рецепторов, проницаемы для ионов натрия, калия и кальция. Они играют важнейшую роль в синаптической передаче и пластичности центральной нервной системы. Рецепторы P2X представляют собой лиганд-зависимые ионные каналы, которые активируются внеклеточным ATP и проницаемы для натрия, калия и кальция [1]. Каналы TRP образуют разнообразное семейство, поры которых проницаемы для различных катионов, включая кальций, натрий и магний. Они участвуют в сенсорной трансдукции и регуляции внутриклеточной кальциевой сигнализации [2]. Некоторые каналы регулируются несколькими механизмами. Так, каналы TRPV1 активируются множеством раздражителей, включая температуру (> 43оC), протоны (низкий рН) и различные эндогенные и экзогенные лиганды, такие как капсаицин [3]. Каналы семейства ASIC активируются изменениями внеклеточного рН или другими факторами, такими как механические раздражители и определенные липидные молекулы [4]. Калиевые каналы большой проводимости регулируются как изменениями мембранного потенциала, так и внутриклеточной концентрацией кальция [5].
В целом, классификации, основанные на функциональных характеристиках, обычно не коррелируют со структурной организацией и эволюцией этих белков, поскольку структурно сходные гомологичные каналы часто демонстрируют различные функциональные свойства, и наоборот, сходные свойства часто наблюдаются у структурно отличающихся каналов, например, у пентамерных никотиновых рецепторов ацетилхолина и тетрамерных ионотропных рецепторов глутамата. Никотиновые рецепторы ацетилхолина структурно схожи с ГАМКа-рецепторами, в то время как каналы глутаматных рецепторов структурно похожи на натриевые, калиевые и кальциевые каналы, управляемые потенциалом. За последние два десятилетия были достигнуты значительные успехи в структурных исследованиях ионных каналов. Однако было бы преждевременно утверждать, что наше понимание сложных взаимосвязей между структурой и функцией ионных каналов, особенно в отношении их взаимодействия с фармакологическими препаратами и токсинами, является полным.
В силу большой структурной изменчивости, наблюдаемой в различных типах ионных каналов, всесторонний обзор этой группы белков был бы не рациональным. В данной статье наше внимание сосредоточено на значительном и разнообразном подмножестве ионных каналов, известных как каналы P-loop.
ТЕТРАМЕРНЫЕ P-LOOP-КАНАЛЫ
Тетрамерные P-loop-каналы выделяются среди различных семейств ионных каналов из-за их функционального и структурного разнообразия и значимости в физиологии, патофизиологии, фармакологии и токсикологии. Эта группа включает в себя потенциал- и лиганд-управляемые калиевые каналы, потенциал-управляемые натриевые и кальциевые каналы, TRP-каналы и ионотропные рецепторы глутамата [6–13]. Каналы P-loop бывают гомо- или гетеро-тетрамерами (рецепторы глутамата, TRP и калиевые каналы), псевдотетрамерами (кальциевые и натриевые каналы эукариот) и димерами димеров (двухпоровые каналы) [14]. В псевдотетрамерных каналах крупные порообразующие субъединицы образуют однополипептидную цепь из четырех гомологичных повторов. Фундаментальной структурной особенностью, общей для всех P-loop-каналов, является порообразующий домен, который включает внутреннюю (выстилающую пору) и внешнюю трансмембранные спирали, соединенные P-петлей. Концы четырех P-спиралей сходятся к оси пор, образуя сужение селективного фильтра. Ориентация P-петель в мембране не является консервативной: P-петли в глутаматных рецепторах входят в мембрану со стороны цитоплазмы, а в других типах P-петли входят в мембрану со стороны внеклеточного пространства [15, 16]. Механизмы активации каналов P-loop значительно различаются из-за отличительных структурных и функциональных характеристик доменов, управляющих активацией порообразующего домена [17–22]. Разнообразие топологии и доменной организации среди различных членов суперсемейства P-loop, как показано на рис. 1, сочетается с консервативным характером укладки в порообразующем домене. Субъединица тетрамерных потенциал-активируемых каналов содержит чувствительный к напряжению домен, состоящий из трансмембранных сегментов S1–S4, а также сегментов S5, S6 и P-петли, составляющих четверть порообразующего домена. Последний окружает центральную пору, в то время как потенциал-чувствительные домены расположены по периферии. Такая архитектура была обнаружена задолго до того, как стали доступны кристаллические структуры. Расположение активационных ворот в цитоплазматической части поры [23], расположение селективного фильтра на поворотах P-петель [24] и расположение по часовой стрелке повторов I, II, III и IV в натриевых каналах [25] были выявлены с помощью различных экспериментальных методов, включая мутагенез, электрофизиологию и анализ воздействия специфических лигандов.
Рис. 1. Разнообразие структурной организации P-loop-каналов и консервативность их порообразующих доменов. а – Трансмембранная топология субъединицы TRP и 6-TM калиевого канала (KV) отличается от топологии субъединицы глутаматного рецептора (GluR), включая противоположную ориентацию Р-петли. б – Общая архитектура и доменная организация TRP, глутаматных рецепторов и 6-TM калиевых каналов совершенно различны. PD – порообразующий домен. в –Наложение порообразующих доменов показывает их высокое сходство. Структуры 6dm0, 6ebk и 6bcj показаны синим, красным и зеленым.
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ И КРИОЭЛЕКТРОННЫЕ СТРУКТУРЫ P-LOOP-КАНАЛОВ
Рентгеновская кристаллография произвела революцию в нашем понимании ионных каналов, поскольку до 1998 года не было данных об их структурах на атомарном уровне. Технические препятствия, в частности проблемы с кристаллизацией мембранных белков, препятствовали получению рентгеноструктурных данных. Таким образом, наши знания в значительной степени основывались на косвенных данных, таких как стехиометрия субъединиц, локализация сегментов, пронизывающих мембрану, и мутационный анализ остатков, влияющих на свойства каналов и их взаимодействия с лигандами. Компьютерные модели в доструктурную эпоху были ограниченными и спекулятивными, однако некоторые важные аспекты были успешно предсказаны [26]. Прорыв в решении проблемы нехватки структурных данных высокого разрешения произошел благодаря новаторской работе Родерика Маккиннона, который опубликовал первое рентгеноструктурное исследование калиевого канала бактерии [27]. Это достижение стало поворотным моментом, подготовившим почву для нескольких последовательных публикаций, разъясняющих тонкости архитектуры калиевых каналов. Коллективное признание значимости этих работ привело к присуждению Нобелевской премии в 2003 году.
Структурный анализ ионных каналов осложняется тем, что они имеют несколько функционально и структурно различных состояний, которые обычно подразделяются на закрытые, открытые и инактивированные (называемые «десенситизированными» в лиганд-управляемых каналах). Хотя многочисленные мутационные исследования, особенно с использованием метода цистеинового сканирования, показали, что сегменты S6 являются ключевым элементом воротного механизма, и раскрыли принципиальный механизм, управляющий активацией и инактивацией, структурное понимание этих различных состояний отсутствовало. Кристаллическая структура открытого кальций-зависимого калиевого канала MthK продемонстрировала, что при активации С-части внутренних спиралей, которые в закрытом состоянии образуют плотную связку, расходятся радиально и формируют широкий «вестибюль» [28]. Несмотря на различную конфигурацию спиралей S6 в открытых состояниях MthK и в потенциал-управляемом Kv1.2, основной механизм активации остается неизменным. В обоих каналах раскрытие включает радиальное смещение и скручивание С-концевых частей спиралей за счет конформационных изменений в консервативных остатках глицина, играющих роль «активационного шарнира». Сравнение структур открытого канала Kv1.2 и закрытого бактериального канала MlotiK1, регулируемого циклическими нуклеотидами [29], выявило решающую роль линкерных спиралей S4–S5, образующих манжету вокруг пучка спиралей S6, что ограничивает их движение при активации. В дальнейшем было показано, что активационный механизм, характеризующийся расхождением внутренних спиралей, является общей чертой всех P-loop-каналов. Рис. 2 иллюстрирует ключевую особенность активационного механизма. N-части сегментов S6 остаются неизменными в разных состояниях, в то время как C-части перемещаются радиально.
Рис. 2. Разнообразие активационных перестроек во внутренних спиралях. а – вид в плоскости мембраны, б – боковая проекция. Закрытое состояние KcsA (1bl8) показано красным. В открытых состояниях MthK (1lnq), KvAP (1orq), AMPA-типа рецептора глутамата (5weo), Kv1.2 (2r9r) и TRPV6 (6bo8), внутренние спирали показаны фиолетовым, оранжевым, желтым, синим и зеленым соответственно.
Было показано, что область селективного фильтра канала KcsA также служит в качестве воротного механизма при медленной инактивации [30, 31]. Перестройки в области селективности фильтра, способные препятствовать потоку ионов, также наблюдались в других каналах, включая Nav1.4 [32], Cav1.2 [33], Kv7.1 [34], TRPV1 [35] и GluR [36].
К середине 2000-х годов был достигнут значительный прогресс в изучении нескольких ключевых структур P-loop-каналов. Однако для значительной части каналов структур высокого разрешения по-прежнему не имелось. Этот пробел в знаниях стимулировал использование гомологического моделирования. В этом теоретическом методе структура известного белка (шаблона) используется для построения модели другого родственного белка, структура которого точно неизвестна. Гомологическое моделирование сыграло важную роль в углублении понимания структуры ионных каналов. Кристаллические структуры гомотетрамерных калиевых каналов были использованы в качестве шаблонов для моделирования эукариотических натриевых, кальциевых каналов и каналов глутаматных рецепторов [37–44]. Сходство между калиевыми каналами и другими каналами часто служило основой для интерпретации экспериментальных данных (таких как мутационный анализ и действие фармакологических препаратов), даже в отсутствие гомологических моделей [45–47]. За последние два десятилетия были опубликованы экспериментальные структуры многих различных P-loop-каналов. Эти структуры подтвердили консервативность общей архитектуры различных каналов семейства. Несмотря на различия в функциональных свойствах, ионной селективности, конкретных активационных механизмах, длине и укладке внутри- и внеклеточных петель, было показано, что укладка и расположение сегментов в порообразующем домене высоко консервативны. Это общее структурное сходство наблюдается даже тогда, когда гомология последовательностей низкая и их выравнивание не очевидно.
Большинство экспериментальных структур дают потенциал-управляемые каналы в их энергетически выгодном состоянии, при этом порообразующий домен предположительно находится в инактивированном состоянии, а потенциал-чувствительный – в активированном [48]. Среди исключений – криоэлектронные структуры эукариотических натриевых каналов с открытыми порами [49] или потенциал-чувствительными доменами, которые становятся неактивными из-за белковых токсинов [50, 51]. Кристаллические структуры канала NavAB с дисульфидными мостиками, которые стабилизируют порообразующий домен в закрытом или открытом состояниях [52] или потенциал-чувствительный домен в деактивированном состоянии [53], служат важными шаблонами для моделирования эукариотических каналов в статистически малозаселенных, но функционально значимых состояниях. Эти структуры сыграли особенно важную роль в построении моделей каналов, имеющих отношение к медицине, таких как hCav1.2 и hNav1.5, в различных состояниях, выявлении зависящих от состояния взаимодействий с лигандами и в изучении структурных механизмов, лежащих в основе дисфункции различных вариантов каналов [54–56]. Доступность трехмерных структур открыла путь для вычислительных исследований важнейших проблем, которые в настоящее время не поддаются экспериментальному разрешению. Например, моделирование молекулярной динамики было использовано для изучения проникновения ионов через калиевые каналы [57–59]. В компьютерных исследованиях также изучалась ионная селективность калиевых [60–62] и натриевых каналов [63–66], заполняя критические пробелы в нашем понимании этих процессов.
Экспериментальные трехмерные структуры выявили не только общие черты, но и отличительные признаки различных каналов P-loop, значительно улучшив наше понимание механизмов проникновения ионов, селективности, активации и чувствительности к фармакологическим препаратам и токсинам [8, 67–69]. В частности, в то время как P-петля калиевых каналов содержит одну спираль (мембранно-нисходящая P-спираль), натриевые и кальциевые каналы имеют P-петли с двумя спиралями, разделенными областью селективного фильтра: мембранно-нисходящая P1-спираль в N-концевой части и восходящая к поверхности мембраны спираль P2. Кроме того, выяснилось, что зазоры между субъединицами в натриевых каналах заметно шире, чем в калиевых каналах. Это различие определяет возможность доступа низкомолекулярных лигандов в закрытые натриевые и кальциевые каналы.
Экспериментальные 3D-структуры привели к существенному пересмотру некоторых структурных концепций. Например, «шариковый» механизм, предложенный для быстрой инактивации потенциал-зависимых калиевых и натриевых каналов, предполагает участие инактивирующей частицы, попадающей в открытую пору из цитоплазматической области канала, чтобы физически преградить путь проникновения ионов [70–72]. Однако криоэлектронные структуры канала электрического угря Nav1.4 [73] и других эукариотических натриевых каналов показали, что частица быстрой инактивации (IFM- или LFM-мотив во внутриклеточном линкере между повторами III и IV) не блокирует пору. Она связывается в зазоре между спиралями S4–S5 и S6, удерживая последние в конформации, соответствующей закрытому состоянию. Другой пример относится к трехмерным структурам каналов глутаматных рецепторов. Ранние рентгеновские структуры показали существенные различия с калиевыми каналами. Однако более поздние исследования с использованием усовершенствованных экспериментальных методов продемонстрировали высокую степень сходства между этими подсемействами P-loop-каналов [74].
СТРУКТУРЫ P-LOOP-КАНАЛОВ С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И ТОКСИНАМИ
Каналы семейства P-loop являются мишенями для широкого спектра природных токсинов, средств медицинского назначения, как легальных, так и запрещенных [75, 76], а также инсектицидов [77]. Сайты связывания и механизмы действия лигандов каналов очень разнообразны (рис. 3). Теоретические и экспериментальные исследования значительно продвинули наше понимание того, как ионные каналы реагируют на различные лиганды. До появления экспериментальных структур комплексов лиганд–канал исследователи полагались на гомологические модели, основанные на кристаллических структурах калиевых каналов, и компьютерные методы докинга лигандов для интерпретации в структурных терминах огромного объема данных, накопленных за десятилетия экспериментальных исследований. Для построения моделей связывания лигандов с каналами в вычислительных экспериментах учитывали данные мутационных исследований, электрофизиологических экспериментов для определения областей связывания лигандов и важнейших взаимодействий лиганд–канал, как описано в [41, 78]. Следующее поколение более совершенных моделей основано на кристаллографических и криоэлектронных структурах соответствующих каналов или их близкородственных гомологов. Эти модели не только служат для рационализации существующих экспериментальных результатов, но и облегчают прогнозирование структур для новых лигандов (см. в [79, 80]).
Рис. 3. Связывание лигандов в P-loop-каналах. а – Тетрабутиламмоний связывается в центральной полости KcsA. б – Пептидный токсин яда скорпиона связывается с потенциал-чувствительным доменом натриевого канала. в – Тетродотоксин связывается во внешнем вестибюле натриевого канала. г – Флекаинид связывается в центральной полости натриевого канала. д – IEM-1460 связывается во внешнем вестибюле канала AMPA-рецептора и частично проникает в селективный фильтр.
Экспериментальные структуры комплексов лиганд–канал позволили оценить точность прогнозирования ранних моделей. Например, гомологические модели каналов глутаматных рецепторов NMDA и AMPA со связанными лигандами были опубликованы раньше, чем появились экспериментальные структуры соответствующих комплексов, которые подтвердили ключевые аспекты прогнозов, сделанных с помощью моделирования, как описано в обзоре [74].
Первоначально исследователи использовали гомологические модели, основанные на кристаллических структурах калиевых каналов для анализа связывания важных препаратов, включая местные анестетики и антиконвульсанты. В частности, было высказано предположение, что низкомолекулярные лиганды могут получать доступ к участку связывания во внутренней поре через щель между соседними спиралями S6 [81, 82]. Эти модели дали структурное представление о том, как местные анестетики и другие низкомолекулярные лекарственные препараты могут проникать во внутреннюю пору закрытого натриевого канала по гидрофобному пути доступа [83]. Впоследствии кристаллическая структура канала NavAb показала, что зазоры между спиралями S6 в натриевых каналах значительно шире, чем в калиевых каналах [84], что обеспечивает доступ лигандов в закрытый канал. Экспериментальные структуры натриевых каналов были затем использованы для разработки моделей нового поколения, направленных на изучение действия местных анестетиков и родственных препаратов [85–88]. Недавние кристаллографические и криоэлектронные структуры натриевых каналов с лигандами, связанными во внутренней поре [48, 89], согласуются с ранее предложенными моделями взаимодействий лиганд–канал.
Природные токсины, такие как тетродотоксин, сакситоксин и mu-конотоксины, которые связываются с внешними порами натриевых каналов, послужили ценным инструментом для картирования мест их связывания и понимания фундаментальных аспектов взаимодействия токсинов и каналов. Ранние модели, основанные на данных о структуре и активности токсинов и мутационном анализе каналов, успешно предсказывали сайты связывания токсинов и их ориентацию в канале Nav1.4 [26, 42, 90]. После публикации кристаллической структуры канала NavAB [84] были разработаны более совершенные модели каналов, связанных с токсинами [78, 91–94]. Криоэлектронные структуры связанных с токсинами эукариотических натриевых каналов продемонстрировали как достоинства, так и ограничения гомологических моделей [95–97].
Препараты, нацеленные на кальциевые каналы L-типа, такие как фенилалкиламины, бензодиазепины и дигидропиридины, играют важную роль в лечении сердечно-сосудистых заболеваний [98]. Мутационные исследования выявили специфические аминокислотные остатки, мутации которых влияют на эффективность препаратов [47, 99]. Эти результаты сыграли важную роль в построении моделей канала Cav1.2, связанного с этими лекарственными средствами [39, 44, 100–103]. Криоэлектронная структура кальциевого канала Cav1.1 подтвердила область связывания дигидропиридинов [104], которая ранее была выяснена в ходе обширных мутационных исследований и визуализирована в гомологических моделях.
π-ВЫПУКЛОСТИ
Структуры атомарного масштаба выявили интригующие особенности каналов, которые ранее не были известны. Оказалось, что каналообразующие S6 спирали в некоторых P-loop-каналах не полностью α-спирали, а имеют элементы π-спирали. π-выпуклость, вызванная наличием дополнительного остатка на виток спирали, вызывает переориентацию остатков вверх или вниз по белковой цепи на ~90° по сравнению с классической α-спиралью (рис. 4). Это значительное изменение ориентации существенно влияет на структуру межсегментных контактов и изменяет расположение остатков, обращенных внутрь поры, и соответственно, взаимодействия с лигандами внутри поры. π-выпуклости были обнаружены в натриевых, кальциевых и TRP-каналах, где в S6 имеется высоко консервативный остаток аспарагина, появившийся, вероятно, в результате вставки [105]. Наличие π-выпуклостей позволяет при вставке сохранить ориентацию остатков за пределами π-спирального элемента и их межсегментные контакты, обеспечивая, таким образом, исходную структурную толерантность для вставки.
Рис. 4. Полностью α-спиральные сегменты TRPV3 (6mh0, красный) и сегменты с элементами π-спирали (6uw4, зеленый). а – π-спиральный элемент в спирали выглядит как выпуклость. б, в – Поскольку π-спираль имеет дополнительный остаток на виток, наличие такого элемента вызывает переориентацию остатков в С-части спирали. CA и CB атомы консервативных остатков аспарагина показаны сферами.
Различные структуры одного и того же канала могут различаться по наличию π-выпуклостей, что указывает на их динамическую природу. В ряде случаев наблюдались структурные перестройки, связанные с π-выпуклостями, которые могут быть вызваны связыванием лиганда. Например, канал hCav3.1 в его свободном состоянии и в комплексе со специфическим блокатором каналов T-типа Z944, а также структуры канала Cav1.1 кролика с верапамилом или дилтиаземом демонстрируют такие перестройки. В дополнение к влиянию на взаимодействие лиганд–канал π-выпуклости могут существенно изменять контакты между спиралями S6, S5 и S4–S5, тем самым влияя на структурную стабильность порообразующего домена и переходы между функциональными состояниями канала.
Спирали S6 TRP-каналов демонстрируют большое разнообразие π-выпуклостей [106, 107]. Интересно, что спирали в разных структурах одного и того же канала могут либо не иметь π-выпуклостей, либо обладать ими. Эта изменчивость предполагает, что динамические π-выпуклости могут регулировать конформационные перестройки в канале. Действительно, анализ структур каналов TRPM6 показывает, что сегменты S6 претерпевают конформационный переход от α-спирали к π-выпуклой спирали при открытии канала [108]. В каналах TRPV1 и TRPV2 наличие α-спиральных сегментов S6 по сравнению со спиралями S6 с энергетически менее выгодными π-выпуклостями может отражать различные функциональные состояния каналов [109]. Сравнение структур класса II и класса III канала Cav1.1 кролика позволяет предположить, что переход спирали S6III из конформации с π-спиральным элементом в α-спиральную связан с движением спирали наружу и осевым вращением [110]. Исчезновение π-выпуклостей связано с расширением ворот активации в Cav1.1, но с сужением в TRPV6. Таким образом, четкая взаимосвязь между размерами поры в области активационных ворот и наличием π-выпуклостей не очевидна. Вероятно, π-выпуклости увеличивают гибкость спиралей S6 в каналах, в которых отсутствуют глициновые шарниры, присутствующие в калиевых каналах.
Обнаружение зависящих от состояния и вызванных связыванием лигандов π-выпуклостей в некоторых структурах наводит на мысль об интересном механизме, с помощью которого лиганды могут влиять на процесс активации. Например, было показано, что активаторы натриевых каналов, такие как батрахотоксин и вератридин, наряду с агонистами дигидропиридина и антагонистами кальциевых каналов L-типа, изменяют вероятность открытия и закрытия каналов [47, 111–114]. Однако криоэлектронные структуры канала Cav1.1 показывают, что изменения в области активационных ворот минимальны и не позволяют полностью объяснить основной механизм действия этих важнейших лигандов [104]. Появление вызванных связыванием лигандов π-выпуклостей потенциально может переориентировать остатки S6, тем самым влияя на стабильность конформаций с открытыми и закрытыми воротами [115]. Этот механизм предлагает новый взгляд на то, как лиганды могут влиять на активацию каналов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И МОДЕЛИ
Недавний прорыв в структурной биологии был обусловлен вычислительными подходами, которые объединяют искусственный интеллект и методы оптимизации энергии. Исключительным достижением является нейронная сеть AlphaFold2, которая успешно предсказывает трехмерные структуры многих белков [116, 117]. Другим важным ресурсом является сервер RoseTTAFold [118], который также основан на методах искусственного интеллекта. Несмотря на то что рекомендуется соблюдать осторожность при интерпретации моделей белков из-за потенциальных ограничений в точности, наложение криоэлектронной структуры hNav1.5 и структуры, предсказанной AlphaFold2, выявляет значительное сходство в трансмембранных сегментах и внеклеточном домене. Кроме того, структура AlphaFold2 показывает некоторые структурированные сегменты в цитоплазматических областях, которые отсутствуют в криоэлектронной структуре. Ниже мы сравним некоторые экспериментальные структуры с соответствующими моделями, подробный анализ которых можно найти в недавнем обзоре [119].
Сравнение пяти экспериментальных структур натриевых каналов (hNav1.2, hNav1.7, hNav1.4 и rNav1.5), с семью структурами AlphaFold2 (hNav2.1, hNav1.4, hNav1.5, rNav1.5, mNav1.5, hNav1.4 и hNav1.9) выявило высокую степень структурного сходства. Различия между моделями AlphaFold2 и экспериментальными структурами того же порядка, что и различия экспериментальных структур между собой. Наложение кристаллической структуры открытого канала Kv1.2 на структуры AlphaFold2 каналов hKv1.2, hKv1.6, hKv2.1 и hKv3.1 показывает, что конформации калиевых каналов в этих структурах в значительной степени схожи. Основные детали, включая конфигурацию S6-спиралей с открытыми воротами, точно предсказаны в моделях. Модели AlphaFold2 для каналов hKv1.6, hKv2.1 и hKv3.1 также полностью соответствуют экспериментальным структурам [119].
Наложение экспериментальных структур и моделей калиевых каналов, Kv1.2 и Kv7.1, показало, что, хотя укладка P-петель сходная, потенциалчувствительные домены демонстрируют заметные различия. Кроме того, конформации активационных ворот также значительно различаются между двумя каналами. Интересно, что, несмотря на эти различия, модели AlphaFold2 очень похожи на экспериментальные структуры для каждого канала.
КАНАЛОПАТИИ
Различные наследственные нарушения, известные как каналопатии, являются результатом мутаций, происходящих как в генах ионных каналов, так и в генах белков, участвующих в регуляции этих каналов. Дисфункция ионных каналов может иметь серьезные последствия для организма. Понимание молекулярных механизмов каналопатий и разработка новых медицинских подходов и препаратов требуют точного знания структуры ионных каналов. Ниже приведены несколько примеров каналопатий, связанных с P-loop-каналами.
Синдром удлиненного интервала QT – это заболевание, характеризующееся удлинением интервала QT на электрокардиограмме, что предрасполагает к опасным для жизни аритмиям, таким как резкие сокращения и внезапная остановка сердца. В синдром вовлечено несколько генов, в том числе те, которые кодируют калиевые ионные каналы (например, KCNQ1, KCNH2) и натриевые ионные каналы (например, SCN5A), которые играют решающую роль в реполяризации. Мутации в этих генах нарушают нормальную функцию ионных каналов, приводя к нарушению электрической активности сердца и повышенной восприимчивости к аритмиям [120].
Синдром Бругада – редкое, но потенциально опасное для жизни генетическое нарушение сердечного ритма. Оно может привести к быстрому сердцебиению, известному как желудочковая тахикардия, или даже внезапной остановке сердца. Синдром часто вызывается мутациями в гене SCN5A, который кодирует натриевые каналы Nav1.5 в сердце. Симптомы варьируются в широких пределах и могут включать обморок, учащенное сердцебиение, нерегулярное сердцебиение. Однако у некоторых людей это заболевание может протекать бессимптомно. Лечение направлено на предотвращение опасных сердечных ритмов и снижение риска внезапной остановки сердца. Может включать медикаментозное лечение, установку имплантата дефибриллятора или изменение образа жизни. Кроме того, людям с синдромом Бругада и членам их семей может быть полезно генетическое консультирование и скрининг для оценки риска и выработки эффективного лечения [121]. Структурные обоснования дисфункций Nav1.5, вызванных различными генетическими мутациями, можно найти в [55].
Эпилепсия – это неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися припадками, которые возникают в результате аномальной возбудимости и синхронизации активности нейронов мозга. Хотя эпилепсия имеет разнообразную этиологию, включая приобретенные повреждения и структурные аномалии, часть случаев обусловлена генетическими факторами, в частности мутациями в генах ионных каналов. Например, мутации генов потенциал-управляемых натриевых каналов (SCN1A, SCN2A) связаны с различными формами эпилепсии, такими как синдром Драве и генетическая эпилепсия с фебрильными припадками. Эти мутации приводят к повышенной возбудимости кортикальных нейронов, способствуя возникновению судорожных припадков [122, 123].
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на значительные достижения в структурной биологии P-loop-каналов, определенные проблемы сохраняются. Одна из важнейших проблем заключается в том, что статические кристаллические и криоэлектронные структуры описывают низкоэнергетическое состояние, получаемое в нефизиологических условиях, что дает ограниченное представление о механизмах перехода между функциональными состояниями и зависящим от состояния связыванием фармакологических агентов. Например, криоэлектронные структуры кальциевых каналов L-типа с агонистами и антагонистами дигидропиридина практически идентичны, что не позволяет объяснить принципиально различное действие этих типов лигандов [104]. Другим ограничением экспериментальных структур является потенциальное влияние ионов, молекул воды, липидов и молекул детергента, которые не всегда поддаются определению и состояние которых может отличаться от физиологических условий. Например, в криоэлектронной структуре кальциевого канала L-типа с верапамилом [110] молекулы липидов и детергента сильно взаимодействуют с лигандом в поре канала, потенциально влияя на наблюдаемую картину связывания (рис. 5). В результате физиологическая значимость экспериментальных структур может оказаться сомнительной, а некоторые выводы, сделанные на их основе, могут быть спекулятивными.
Рис. 5. Молекулы липида и детергента взаимодействуют с молекулой верапамила в поре кальциевого канала.
Существенная проблема, что большинство экспериментальных структур изображают каналы в энергетически выгодных состояниях, полученных в нефизиологических условиях, также отражена в моделях AlphaFold2. Модели предсказывают только одну структуру для каждого белка, не имея возможности предложить различные структуры для состояний покоя, открытого и инактивированного. Кроме того, остается неясным, какое состояние канала предсказывает модель и что за этим стоит. Мы не можем получить модели для различных напряжений на мембране, температур или в присутствии лигандов, что затрудняет нашу способность моделировать, как эти важнейшие факторы влияют на структуру каналов.
Например, экспериментальные структуры каналов Nav1.2, Nav1.4, Nav1.5 и Nav1.7 демонстрируют π-выпуклости в спиралях S6I и S6II. Большинство моделей для каналов hNav1.1, hNav1.2, hNav1.4, hNav1.5 и hNav1.9 демонстрируют π-выпуклости в спиралях S6I, S6III и S6IV, тогда как в экспериментальных конструкциях отсутствует π-выпуклость в S6IV. Модели каналов Nav1.5 мыши и Nav1.9 человека имеют π-выпуклости во всех четырех повторах, что соответствует паттерну π-выпуклостей, наблюдаемому в экспериментальной структуре нефункционального канала NavPaS. Интересно, что несмотря на очень похожие последовательности каналов Nav1.5 мыши, крысы и человека, модель AlphaFold2 для Nav1.5 мыши отличается от моделей для канала крысы и человека. Экспериментальные структуры кальциевых каналов также подразделяются на несколько классов в зависимости от наличия или отсутствия π-выпуклостей в спиралях S6 [124]. Структуры класса I не имеют π-выпуклостей, структуры класса II имеют π-выпуклости в повторах I, II и III, в то время как структуры класса III имеют выпуклости в повторах I и II. Модель AlphaFold2 кальциевого канала T-типа hCav3.1 точно воспроизводит π-выпуклости, наблюдаемые в экспериментальной структуре класса II. И наоборот, модель кальциевого канала Cav1.1 демонстрирует π-выпуклость только в повторе I. Модели Cav1.3, Cav1.4, Cav2.1 и Cav2.2 демонстрируют выпуклости в повторах I и III, что чаще наблюдается в экспериментальных структурах натриевых, а не кальциевых каналов. Кроме того, модели hCav3.2 и hCav3.3 имеют π-выпуклости во всех четырех повторах.
Таким образом, паттерны выпуклостей π-спирали в спиралях S6 демонстрируют значительное разнообразие как в экспериментальных структурах, так и в моделях. Причины, лежащие в основе этих различий, остаются неясными. Вероятно, что существуют альтернативные конформации со сходными энергиями и возможны переходы между этими конформациями. Однако структурные детерминанты, ответственные за такие переходы, остаются неизвестными, что представляет собой интригующую проблему в области структурной биологии P-loop-каналов. Для решения этих важных проблем, связанных со структурой каналов, AlphaFold2 и аналогичные системы не обеспечивают прорыва.
Каналы P-loop регулируются множеством вспомогательных субъединиц и многочисленными цитоплазматическими белками [125–128]. В то время как в некоторых структурах обнаружены комплексы каналов со вспомогательными субъединицами, трехмерные структуры обширных цитоплазматических доменов многих каналов, которые взаимодействуют с различными белками, остаются неразрешенными как в экспериментальных структурах, так и в моделях. Предсказание структуры каналов в комплексе с цитоплазматическими белками имеет решающее значение для расшифровки того, как мутации в этих цитоплазматических белках приводят к дисфункции ионных каналов.
Вычислительные методики могут быть использованы для преобразования энергетически выгодных экспериментальных структур в функционально значимые, но статистически малозаселенные состояния. Модели разных функциональных состояний играют важную роль в раскрытии механизмов, лежащих в основе дисфункции каналов из-за болезнетворных мутаций и воздействия лигандов на каналы [54, 56, 129]. Вычислительные исследования, включающие моделирование молекулярной динамики и высокопроизводительный докинг лигандов, могут извлечь выгоду из множественности доступных экспериментальных структур и моделей каналов P-loop. Компьютерные исследования позволяют изучить динамическое поведение каналов и предсказать взаимодействия между белками каналов и различными лигандами.
Мутационные исследования, выясняющие остатки, участвующие в межбелковых взаимодействиях, дают ценную информацию, служащую основой для прогнозирования межбелковых комплексов с использованием нейронных сетей или программного обеспечения для стыковки белок–белок на основе физики взаимодействий. Дальнейшее изучение каналов P-loop в различных состояниях и в комплексе с различными лигандами необходимо для решения сложных вопросов, особенно касающихся механизмов, лежащих в основе мутаций, связанных с заболеваниями. Несмотря на замечательные прогностические возможности AlphaFold2, он не может последовательно предвидеть последствия миссенс-мутаций, что подчеркивает необходимость комбинированного экспериментального и теоретического подхода [115, 130]. Только объединяя экспериментальные данные с расчетными прогнозами, исследователи могут получить более глубокое представление о функционировании и регуляции каналов семейства P-loop, прокладывая путь для разработки новых терапевтических стратегий, нацеленных на эти каналы при различных заболеваниях.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Источники финансирования. Работа выполнена без поддержки грантовым финансированием.
Соответствие принципам этики. Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.
About the authors
B. S. Zhorov
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences; McMaster University
Email: denistikhonov2002@yahoo.com
Department of Biochemistry and Biomedical Sciences, McMaster University
Russian Federation, St. Petersburg, 194223; Hamilton, CanadaD. B. Tikhonov
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: denistikhonov2002@yahoo.com
Russian Federation, St. Petersburg, 194223
References
- Khakh B.S., North R.A. 2012. Neuromodulation by extracellular ATP and P2X receptors in the CNS. Neuron. 76 (1), 51–69. doi: 10.1016/j.neuron.2012.09.024
- Nilius B., Owsianik G. 2011. The transient receptor potential family of ion channels. Genome Biol. 12 (3), 218. doi: 10.1186/gb-2011-12-3-218
- Caterina M.J., Schumacher M.A., Tominaga M., Rosen T.A., Levine J.D., Julius D. 1997. The capsaicin receptor: A heat-activated ion channel in the pain pathway. Nature. 389 (6653), 816–824. doi: 10.1038/39807
- Wemmie J.A., Price M.P., Welsh M.J. 2006. Acid-sensing ion channels: Advances, questions and therapeutic opportunities. Trends Neurosci. 29 (10), 578–586. doi: 10.1016/j.tins.2006.06.014
- Latorre R., Castillo K., Carrasquel-Ursulaez W., Sepulveda R.V., Gonzalez-Nilo F., Gonzalez C., Alvarez O. 2017. Molecular determinants of BK channel functional diversity and functioning. Physiol. Rev. 97 (1), 39–87. doi: 10.1152/physrev.00001.2016
- MacKinnon R. 2003. Potassium channels. FEBS Lett. 555 (1), 62–65. doi: 10.1016/s0014-5793(03)01104-9
- Venkatachalam K., Montell C. 2007. TRP channels. Annu. Rev. Biochem. 76, 387–417. doi: 10.1146/annurev.biochem.75.103004.142819
- Wulff H., Zhorov B.S. 2008. K+ channel modulators for the treatment of neurological disorders and autoimmune diseases. Chem. Rev. 108 (5), 1744–1773. doi: 10.1021/cr078234p
- Hansen K.B., Wollmuth L.P., Bowie D., Furukawa H., Menniti F.S., Sobolevsky A.I., Swanson G.T., Swanger S.A., Greger I.H., Nakagawa T., McBain C.J., Jayaraman V., Low C.M., Dell’Acqua M.L., Diamond J.S., Camp C.R., Perszyk R.E., Yuan H., Traynelis S.F. 2021. Structure, function, and pharmacology of glutamate receptor ion channels. Pharmacol. Rev. 73 (4), 298–487. doi: 10.1124/pharmrev.120.000131
- Catterall W.A. 2011. Voltage-gated calcium channels. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 3 (8), a003947. doi: 10.1101/cshperspect.a003947
- Catterall W.A. 2012. Voltage-gated sodium channels at 60: Structure, function and pathophysiology. J. Physiol. 590 (11), 2577–2589. doi: 10.1113/jphysiol.2011.224204
- Huang Y., Fliegert R., Guse A.H., Lu W., Du J. 2020. A structural overview of the ion channels of the TRPM family. Cell Calcium. 85, 102111. doi: 10.1016/j.ceca.2019.102111
- Noreng S., Li T., Payandeh J. 2021. Structural pharmacology of voltage-gated sodium channels. J. Mol. Biol. 433 (17), 166967. doi: 10.1016/j.jmb.2021.166967
- Enyedi P., Czirjak G. 2010. Molecular background of leak K+ currents: two-pore domain potassium channels. Physiol. Rev. 90 (2), 559–605. doi: 10.1152/physrev.00029.2009
- Wollmuth L.P., Sobolevsky A.I. 2004. Structure and gating of the glutamate receptor ion channel. Trends Neurosci. 27 (6), 321–328. doi: 10.1016/j.tins.2004.04.005
- Zhorov B.S., Tikhonov D.B. 2004. Potassium, sodium, calcium and glutamate-gated channels: Pore architecture and ligand action. J. Neurochem. 88 (4), 782–799. doi: 10.1111/j.1471-4159.2004.02261.x
- Lipscombe D., Helton T.D., Xu W. 2004. L-type calcium channels: The low down. J. Neurophysiol. 92 (5), 2633–2641. doi: 10.1152/jn.00486.2004
- Mayer M.L., Armstrong N. 2004. Structure and function of glutamate receptor ion channels. Annu. Rev. Physiol. 66, 161–181. doi: 10.1146/annurev.physiol.66.050802.084104
- Mazzolini M., Marchesi A., Giorgetti A., Torre V. 2010. Gating in CNGA1 channels. Pflugers Arch. 459 (4), 547–555. doi: 10.1007/s00424-009-0751-2
- Grizel A.V., Glukhov G.S., Sokolova O.S. 2014. Mechanisms of activation of voltage-gated potassium channels. Acta Naturae. 6 (4), 10–26.
- Bagneris C., Naylor C.E., McCusker E.C., Wallace B.A. 2015. Structural model of the open-closed-inactivated cycle of prokaryotic voltage-gated sodium channels. J. Gen. Physiol. 145 (1), 5–16. doi: 10.1085/jgp.201411242
- Liu C., Montell C. 2015. Forcing open TRP channels: Mechanical gating as a unifying activation mechanism. Biochem. Biophys. Res. Commun. 460 (1), 22–25. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.02.067
- Armstrong C.M., Hille B. 1972. The inner quaternary ammonium ion receptor in potassium channels of the node of Ranvier. J. Gen. Physiol. 59 (4), 388–400. doi: 10.1085/jgp.59.4.388
- Heinemann S.H., Terlau H., Stuhmer W., Imoto K., Numa S. 1992. Calcium channel characteristics conferred on the sodium channel by single mutations. Nature. 356 (6368), 441–443. doi: 10.1038/356441a0
- Dudley S.C. Jr., Chang N., Hall J., Lipkind G., Fozzard H.A., French R.J. 2000. mu-conotoxin GIIIA interactions with the voltage-gated Na(+) channel predict a clockwise arrangement of the domains. J. Gen. Physiol. 116 (5), 679–690. doi: 10.1085/jgp.116.5.679
- Lipkind G.M., Fozzard H.A. 1994. A structural model of the tetrodotoxin and saxitoxin binding site of the Na+ channel. Biophys. J. 66 (1), 1–13. doi: 10.1016/S0006-3495(94)80746-5
- Doyle D.A., Morais Cabral J., Pfuetzner R.A., Kuo A., Gulbis J.M., Cohen S.L., Chait B.T., MacKinnon R. 1998. The structure of the potassium channel: molecular basis of K+ conduction and selectivity. Science. 280 (5360), 69–77. doi: 10.1126/science.280.5360.69
- Jiang Y., Lee A., Chen J,. Cadene M., Chait B.T., MacKinnon R. 2002. Crystal structure and mechanism of a calcium-gated potassium channel. Nature. 417 (6888), 515–522. doi: 10.1038/417515a
- Clayton G.M., Altieri S., Heginbotham L., Unger V.M., Morais-Cabral J.H. 2008. Structure of the transmembrane regions of a bacterial cyclic nucleotide-regulated channel. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 105 (5), 1511–1515. doi: 10.1073/pnas.0711533105.
- Cordero-Morales J.F., Cuello L.G., Zhao Y., Jogini V., Cortes D.M, Roux B., Perozo E. 2006. Molecular determinants of gating at the potassium-channel selectivity filter. Nat. Struct. Mol. Biol. 13 (4), 311–318. doi: 10.1038/nsmb1069
- Cuello L.G., Jogini V., Cortes D.M., Pan A.C., Gagnon D.G., Dalmas O., Cordero-Morales J.F., Chakrapani S., Roux B., Perozo E. 2010. Structural basis for the coupling between activation and inactivation gates in K+ channels. Nature. 466 (7303), 272–275. doi: 10.1038/nature09136
- Xiong W., Li R.A., Tian Y., Tomaselli G.F. 2003. Molecular motions of the outer ring of charge of the sodium channel: Do they couple to slow inactivation? J. Gen. Physiol. 122 (3), 323–332. doi: 10.1085/jgp.200308881
- Abderemane-Ali F., Findeisen F., Rossen N.D., Minor D.L.Jr. 2019. A selectivity filter gate controls voltage-gated calcium channel calcium-dependent inactivation. Neuron. 101 (6), 1134–1149 e3. doi: 10.1016/j.neuron.2019.01.011
- Gibor G., Yakubovich D., Rosenhouse-Dantsker A., Peretz A., Schottelndreier H., Seebohm G., Dascal N., Logothetis D.E., Paas Y., Attali B. 2007. An inactivation gate in the selectivity filter of KCNQ1 potassium channels. Biophys. J. 93 (12), 4159–4172. doi: 10.1529/biophysj.107.107987
- Cao E., Liao M., Cheng Y., Julius D. 2013. TRPV1 structures in distinct conformations reveal activation mechanisms. Nature. 504 (7478), 113–118. doi: 10.1038/nature12823
- Twomey E.C., Yelshanskaya M.V., Grassucci R.A., Frank J., Sobolevsky A.I. 2017. Channel opening and gating mechanism in AMPA-subtype glutamate receptors. Nature. 549 (7670), 60–65. doi: 10.1038/nature23479
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S., Magazanik L.G. 1999. Intersegment hydrogen bonds as possible structural determinants of the N/Q/R site in glutamate receptors. Biophys. J. 77 (4), 1914–1926. doi: 10.1016/S0006-3495(99)77033-5
- Huber I., Wappl E., Herzog A., Mitterdorfer J., Glossmann H., Langer T., Striessnig J. 2000. Conserved Ca2+-antagonist-binding properties and putative folding structure of a recombinant high-affinity dihydropyridine-binding domain. Biochem. J. 347 (Pt 3), 829–836.
- Lipkind G.M., Fozzard H.A. 2003. Molecular modeling of interactions of dihydropyridines and phenylalkylamines with the inner pore of the L-type Ca2+ channel. Mol. Pharmacol. 63 (3), 499–511. doi: 10.1124/mol.63.3.499
- Corry B., Vora T., Chung S.H. 2005. Electrostatic basis of valence selectivity in cationic channels. Biochim. Biophys. Acta. 1711 (1), 72–86. doi: 10.1016/j.bbamem.2005.03.002
- Lipkind G.M., Fozzard H.A. 2005. Molecular modeling of local anesthetic drug binding by voltage-gated sodium channels. Mol. Pharmacol. 68 (6), 1611–1622. doi: 10.1124/mol.105.014803
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2005. Modeling P-loops domain of sodium channel: homology with potassium channels and interaction with ligands. Biophys. J. 88 (1), 184–197. doi: 10.1529/biophysj.104.048173
- O’Reilly A.O., Khambay B.P., Williamson M.S., Field L.M., Wallace B.A., Davies T.G. 2006. Modelling insecticide-binding sites in the voltage-gated sodium channel. Biochem. J. 396 (2), 255–263. doi: 10.1042/BJ20051925
- Cosconati S., Marinelli L., Lavecchia A., Novellino E. 2007. Characterizing the 1,4-dihydropyridines binding interactions in the L-type Ca2+ channel: Model construction and docking calculations. J. Med. Chem. 50 (7), 1504–1513. doi: 10.1021/jm061245a
- Alpert L.A., Fozzard H.A., Hanck D.A., Makielski J.C. 1989. Is there a second external lidocaine binding site on mammalian cardiac cells? Am. J. Physiol. 257 (1 Pt 2), H79–84. doi: 10.1152/ajpheart.1989.257.1.H79
- Catterall W.A., Striessnig J. 1992. Receptor sites for Ca2+ channel antagonists. Trends Pharmacol. Sci. 13 (6), 256–262. doi: 10.1016/0165-6147(92)90079-l
- Hockerman G.H., Peterson B.Z., Johnson B.D., Catterall W.A. 1997. Molecular determinants of drug binding and action on L-type calcium channels. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 37, 361–396. doi: 10.1146/annurev.pharmtox.37.1.361
- Jiang D., Shi H., Tonggu L., Gamal El-Din T.M., Lenaeus M.J., Zhao Y., Yoshioka C., Zheng N., Catterall W.A. 2020. Structure of the cardiac sodium channel. Cell. 180 (1), 122–134 e10. doi: 10.1016/j.cell.2019.11.041
- Jiang D., Banh R., Gamal El-Din T.M., Tonggu L., Lenaeus M.J., Pomes R., Zheng N., Catterall W.A. 2021. Open-state structure and pore gating mechanism of the cardiac sodium channel. Cell. 184 (20), 5151–5162 e11. doi: 10.1016/j.cell.2021.08.021
- Xu H., Li T., Rohou A., Arthur C.P., Tzakoniati F., Wong E., Estevez A., Kugel C., Franke Y., Chen J., Ciferri C., Hackos D.H., Koth C.M., Payandeh J. 2019. Structural basis of Nav1.7 inhibition by a gating-modifier spider toxin. Cell. 176 (5), 1238–1239. doi: 10.1016/j.cell.2019.01.047
- Jiang D., Tonggu L., Gamal El-Din T.M., Banh R., Pomes R., Zheng N., Catterall W.A. 2021. Structural basis for voltage-sensor trapping of the cardiac sodium channel by a deathstalker scorpion toxin. Nat. Commun. 12 (1), 128. doi: 10.1038/s41467-020-20078-3
- Lenaeus M.J., Gamal El-Din T.M., Ing C., Ramanadane K., Pomes R., Zheng N., Catterall W.A. 2017. Structures of closed and open states of a voltage-gated sodium channel. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 114 (15), E3051–E3060. doi: 10.1073/pnas.1700761114
- Wisedchaisri G., Tonggu L., McCord E., Gamal El-Din T.M., Wang L., Zheng N., Catterall W.A. 2019. Resting-state structure and gating mechanism of a voltage-gated sodium channel. Cell. 178 (4), 993–1003 e12. doi: 10.1016/j.cell.2019.06.031
- Korkosh V.S., Kiselev A.M., Mikhaylov E.N., Kostareva A.A., Zhorov B.S. 2019. Atomic mechanisms of timothy syndrome-associated mutations in calcium channel Cav1.2. Front. Physiol. 10, 335. doi: 10.3389/fphys.2019.00335
- Korkosh V.S., Zaytseva A.K., Kostareva A.A., Zhorov B.S. 2021. Intersegment contacts of potentially damaging variants of cardiac sodium channel. Front. Pharmacol. 12, 756415. doi: 10.3389/fphar.2021.756415
- Zaytseva A.K., Boitsov A.S., Kostareva A.A., Zhorov B.S. 2021. Possible interactions of extracellular loop IVP2-S6 with voltage-sensing domain III in cardiac sodium channel. Front. Pharmacol. 12, 742508. doi: 10.3389/fphar.2021.742508
- Berneche S., Roux B. 2000. Molecular dynamics of the KcsA K(+) channel in a bilayer membrane. Biophys. J. 78 (6), 2900–2917. doi: 10.1016/S0006-3495(00)76831-7
- Shrivastava I.H., Sansom M.S. 2000. Simulations of ion permeation through a potassium channel: Molecular dynamics of KcsA in a phospholipid bilayer. Biophys. J. 78 (2), 557–570. doi: 10.1016/S0006-3495(00)76616-1
- Ulmschneider M.B., Bagneris C., McCusker E.C., Decaen P.G., Delling M., Clapham D.E., Ulmschneider J.P., Wallace B.A. 2013. Molecular dynamics of ion transport through the open conformation of a bacterial voltage-gated sodium channel. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110 (16), 6364–6369. doi: 10.1073/pnas.1214667110
- Allen T.W., Kuyucak S., Chung S.H. 1999. Molecular dynamics study of the KcsA potassium channel. Biophys. J. 77 (5), 2502–2516. doi: 10.1016/S0006-3495(99)77086-4
- Biggin P.C., Smith G.R., Shrivastava I., Choe S., Sansom M.S. 2001. Potassium and sodium ions in a potassium channel studied by molecular dynamics simulations. Biochim. Biophys. Acta. 1510 (1–2), 1–9. doi: 10.1016/s0005-2736(00)00345-x
- Noskov S.Y., Berneche S., Roux B. 2004. Control of ion selectivity in potassium channels by electrostatic and dynamic properties of carbonyl ligands. Nature. 431 (7010), 830–834. doi: 10.1038/nature02943
- Corry B., Thomas M. 2012. Mechanism of ion permeation and selectivity in a voltage gated sodium channel. J. Am. Chem. Soc. 134 (3), 1840–1846. doi: 10.1021/ja210020h
- Chakrabarti N., Ing C., Payandeh J., Zheng N., Catterall W.A., Pomes R. 2013. Catalysis of Na+ permeation in the bacterial sodium channel Na(V)Ab. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110 (28), 11331–11336. doi: 10.1073/pnas.1309452110
- Flood E., Boiteux C., Allen T.W. 2018. Selective ion permeation involves complexation with carboxylates and lysine in a model human sodium channel. PLoS Comput. Biol. 14 (9), e1006398. doi: 10.1371/journal.pcbi.1006398
- Zhorov B.S. 2021. Possible mechanism of ion selectivity in eukaryotic voltage-gated sodium channels. J. Phys. Chem. B. 125 (8), 2074–2088. doi: 10.1021/acs.jpcb.0c11181
- Ahern C.A., Payandeh J., Bosmans F., Chanda B. 2016. The hitchhiker’s guide to the voltage-gated sodium channel galaxy. J. Gen. Physiol. 147 (1), 1–24. doi: 10.1085/jgp.201511492
- Catterall W.A., Lenaeus M.J., Gamal El-Din T.M. 2020. Structure and pharmacology of voltage-gated sodium and calcium channels. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 60, 133–154. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-010818-021757
- Koivisto A.P., Belvisi M.G., Gaudet R., Szallasi A. 2022. Advances in TRP channel drug discovery: From target validation to clinical studies. Nat. Rev. Drug Discov. 21 (1), 41–59. doi: 10.1038/s41573-021-00268-4
- Hoshi T., Zagotta W.N., Aldrich R.W. 1990. Biophysical and molecular mechanisms of Shaker potassium channel inactivation. Science. 250 (4980), 533–538. doi: 10.1126/science.2122519
- Zagotta W.N., Hoshi T., Aldrich R.W. 1990. Restoration of inactivation in mutants of Shaker potassium channels by a peptide derived from ShB. Science. 250 (4980), 568–571. doi: 10.1126/science.2122520
- Gomez-Lagunas F., Armstrong C.M. 1994. The relation between ion permeation and recovery from inactivation of ShakerB K+ channels. Biophys. J. 67 (5), 1806–1815. doi: 10.1016/S0006-3495(94)80662-9
- Yan Z., Zhou Q., Wang L., Wu J., Zhao Y., Huang G., Peng W., Shen H., Lei J., Yan N. 2017. Structure of the Nav1.4-beta1 сomplex from еlectric еel. Cell. 170 (3), 470–482 e11. doi: 10.1016/j.cell.2017.06.039
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2020. The pore domain in glutamate-gated ion channels: Structure, drug binding and similarity with potassium channels. Biochim. Biophys. Acta. Biomembr. 1862 (10), 183401. doi: 10.1016/j.bbamem.2020.183401
- Catterall W.A., Swanson T.M. 2015. Structural basis for pharmacology of voltage-gated sodium and calcium channels. Mol. Pharmacol. 88 (1), 141–150. doi: 10.1124/mol.114.097659
- Catterall W.A. 2014. Sodium channels, inherited epilepsy, and antiepileptic drugs. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 54, 317–338. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-011112-140232
- Silver K.S., Du Y., Nomura Y., Oliveira E.E., Salgado V.L., Zhorov B.S., Dong K. 2014. Voltage-gated sodium channels as insecticide targets. Adv. In Insect. Phys. 46, 389–433. doi: 10.1016/B978-0-12-417010-0.00005-7
- Korkosh V.S., Zhorov B.S., Tikhonov D.B. 2014. Folding similarity of the outer pore region in prokaryotic and eukaryotic sodium channels revealed by docking of conotoxins GIIIA, PIIIA, and KIIIA in a NavAb-based model of Nav1.4. J. Gen. Physiol. 144 (3), 231–244. doi: 10.1085/jgp.201411226
- Tomasic T., Hartzoulakis B., Zidar N., Chan F., Kirby R.W., Madge D.J., Peigneur S., Tytgat J., Kikelj D. 2013. Ligand- and structure-based virtual screening for clathrodin-derived human voltage-gated sodium channel modulators. J. Chem. Inf. Model. 53 (12), 3223–3232. doi: 10.1021/ci400505e
- Palestro P.H., Enrique N., Goicoechea S., Villalba M.L., Sabatier L.L., Martin P., Milesi V., Bruno Blanch L.E., Gavernet L. 2018. Searching for new leads to treat epilepsy: Target-based virtual screening for the discovery of anticonvulsant agents. J. Chem. Inf. Model. 58 (7), 1331–1342. doi: 10.1021/acs.jcim.7b00721
- Tikhonov D.B., Bruhova I., Zhorov B.S. 2006. Atomic determinants of state-dependent block of sodium channels by charged local anesthetics and benzocaine. FEBS Lett. 580 (26), 6027–6032. doi: 10.1016/j.febslet.2006.10.035
- Bruhova I., Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2008. Access and binding of local anesthetics in the closed sodium channel. Mol. Pharmacol. 74 (4), 1033–1045.
- Hille B. 1977. Local anesthetics: Hydrophilic and hydrophobic pathways for the drug-receptor reaction. J. Gen. Physiol. 69 (4), 497–515. doi: 10.1085/jgp.69.4.497
- Payandeh J., Scheuer T., Zheng N., Catterall W.A. 2011. The crystal structure of a voltage-gated sodium channel. Nature. 475 (7356), 353–358. doi: 10.1038/nature10238
- Martin L.J., Corry B. 2014. Locating the route of entry and binding sites of benzocaine and phenytoin in a bacterial voltage gated sodium channel. PLoS Comput. Biol. 10 (7), e1003688. doi: 10.1371/journal.pcbi.1003688
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2017. Mechanism of sodium channel block by local anesthetics, antiarrhythmics, and anticonvulsants. J. Gen. Physiol. 149 (4), 465–481. doi: 10.1085/jgp.201611668
- Buyan A., Sun D., Corry B. 2018. Protonation state of inhibitors determines interaction sites within voltage-gated sodium channels. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 115 (14), E3135–E3144. doi: 10.1073/pnas.1714131115
- Nguyen P.T., DeMarco K.R., Vorobyov I., Clancy C.E., Yarov-Yarovoy V. 2019. Structural basis for antiarrhythmic drug interactions with the human cardiac sodium channel. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 116 (8), 2945–2954. doi: 10.1073/pnas.1817446116
- Li Z., Jin X., Wu T., Huang G., Wu K., Lei J., Pan X., Yan N. 2021. Structural basis for pore blockade of the human cardiac sodium channel Nav 1.5 by the antiarrhythmic drug Quinidine*. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 60 (20), 11474–11480. doi: 10.1002/anie.202102196
- Fozzard H.A., Lipkind G.M. 2010. The tetrodotoxin binding site is within the outer vestibule of the sodium channel. Mar. Drugs. 8 (2), 219–234. doi: 10.3390/md8020219
- Chen R., Chung S.H. 2012. Binding modes of mu-conotoxin to the bacterial sodium channel (NaVAb). Biophys. J. 102 (3), 483–488. doi: 10.1016/j.bpj.2011.12.041
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2012. Architecture and pore block of eukaryotic voltage-gated sodium channels in view of NavAb bacterial sodium channel structure. Mol. Pharmacol. 82 (1), 97–104. doi: 10.1124/mol.112.078212
- Mahdavi S., Kuyucak S. 2014. Molecular dynamics study of binding of micro-conotoxin GIIIA to the voltage-gated sodium channel Na(v)1.4. PLoS One. 9 (8), e105300. doi: 10.1371/journal.pone.0105300
- Xu L., Li D., Ding J., Pan L., Ding X. 2018. Insight into tetrodotoxin blockade and resistance mechanisms of Nav 1.2 sodium channel by theoretical approaches. Chem. Biol. Drug Des. 92 (2), 1445–1457. doi: 10.1111/cbdd.13310
- Shen H., Li Z., Jiang Y., Pan X., Wu J., Cristofori-Armstrong B., Smith J.J., Chin Y.K.Y., Lei J., Zhou Q., King G.F., Yan N. 2018. Structural basis for the modulation of voltage-gated sodium channels by animal toxins. Science. 362 (6412), eaau259. doi: 10.1126/science.aau2596
- Shen H., Liu D., Wu K., Lei J., Yan N. 2019. Structures of human Nav1.7 channel in complex with auxiliary subunits and animal toxins. Science. 363 (6433), 1303–1308. doi: 10.1126/science.aaw2493
- Pan X., Li Z., Huang X., Huang G., Gao S., Shen H., Liu L., Lei J., Yan N. 2019. Molecular basis for pore blockade of human Na(+) channel Nav1.2 by the mu-conotoxin KIIIA. Science. 363 (6433), 1309–1313. doi: 10.1126/science.aaw2999
- Zamponi G.W., Striessnig J., Koschak A., Dolphin A.C. 2015 The physiology, pathology, and pharmacology of voltage-gated calcium channels and their future therapeutic potential. Pharmacol. Rev. 67 (4), 821–870. doi: 10.1124/pr.114.009654
- Godfraind T. 2017. Discovery and development of calcium channel blockers. Front. Pharmacol. 8, 286. doi: 10.3389/fphar.2017.00286
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2008. Molecular modeling of benzothiazepine binding in the L-type calcium channel. J. Biol. Chem. 283 (25), 17594–17604. doi: 10.1074/jbc.M800141200
- Cheng R.C, Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2009. Structural model for phenylalkylamine binding to L-type calcium channels. J. Biol. Chem. 284 (41), 28332–28342. doi: 10.1074/jbc.M109.027326
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2009. Structural model for dihydropyridine binding to L-type calcium channels. J. Biol. Chem. 284 (28), 19006–19017. doi: 10.1074/jbc.M109.011296
- Li W., Shi G. 2019. How CaV1.2-bound verapamil blocks Ca(2+) influx into cardiomyocyte: Atomic level views. Pharmacol. Res. 139, 153–157. doi: 10.1016/j.phrs.2018.11.017
- Gao S., Yan N. 2021. Structural basis of the modulation of the voltage-gated calcium ion channel Cav 1.1 by dihydropyridine compounds. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 60 (6), 3131–3137. doi: 10.1002/anie.202011793
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2017. Conservation and variability of the pore-lining helices in P-loop channels. Channels 11 (6), 660–672. doi: 10.1080/19336950.2017.1395536
- Zubcevic L., Lee S.Y. 2019. The role of pi-helices in TRP channel gating. Curr. Opin. Struct. Biol. 58, 314–323. doi: 10.1016/j.sbi.2019.06.011
- Yelshanskaya M.V., Nadezhdin K.D., Kurnikova M.G., Sobolevsky A.I. 2021. Structure and function of the calcium-selective TRP channel TRPV6. J. Physiol. 599 (10), 2673–2697. doi: 10.1113/JP279024
- McGoldrick L.L., Singh A.K., Saotome K., Yelshanskaya M.V., Twomey E.C., Grassucci R.A., Sobolevsky A.I. 2018. Opening of the human epithelial calcium channel TRPV6. Nature. 553 (7687), 233–237. doi: 10.1038/nature25182
- Zubcevic L., Herzik M.A.Jr., Chung B.C., Liu Z., Lander G.C., Lee S.Y. 2016. Cryo-electron microscopy structure of the TRPV2 ion channel. Nat. Struct. Mol. Biol. 23 (2), 180–186. doi: 10.1038/nsmb.3159
- Zhao Y., Huang G., Wu J., Wu Q., Gao S., Yan Z., Lei J., Yan N. 2019. Molecular basis for ligand modulation of a mammalian voltage-gated Ca(2+) channel. Cell. 177 (6), 1495–1506. e12. doi: 10.1016/j.cell.2019.04.043
- Kokubun S., Prod’hom B., Becker C., Porzig H., Reuter H. 1986. Studies on Ca channels in intact cardiac cells: Voltage-dependent effects and cooperative interactions of dihydropyridine enantiomers. Mol. Pharmacol. 30 (6), 571–584.
- Correa A.M., Bezanilla F., Latorre R. 1992. Gating kinetics of batrachotoxin-modified Na+ channels in the squid giant axon. Voltage and temperature effects. Biophys. J. 61 (5), 1332–1352. doi: 10.1016/S0006-3495(92)81941-0
- Quandt F.N., Narahashi T. 1982. Modification of single Na+ channels by batrachotoxin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79 (21), 6732–6736. doi: 10.1073/pnas.79.21.6732
- Garber S.S., Miller C. 1987. Single Na+ channels activated by veratridine and batrachotoxin. J. Gen. Physiol. 89 (3), 459–480. doi: 10.1085/jgp.89.3.459
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2023. Mechanisms of dihydropyridine agonists and antagonists in view of cryo-EM structures of calcium and sodium channels. J. Gen. Physiol. 155 (11), e202313418. doi: 10.1085/jgp.202313418
- Tunyasuvunakool K., Adler J., Wu Z., Green T., Zielinski M., Zidek A., Bridgland A., Cowie A., Meyer C., Laydon A., Velankar S., Kleywegt G.J., Bateman A., Evans R., Pritzel A., Figurnov M., Ronneberger O., Bates R., Kohl S.A.A., Potapenko A., Ballard A.J., Romera-Paredes B., Nikolov S., Jain R., Clancy E., Reiman D., Petersen S., Senior A.W., Kavukcuoglu K., Birney E., Kohli P., Jumper J., Hassabis D. 2021. Highly accurate protein structure prediction for the human proteome. Nature. 596 (7873), 590–596. doi: 10.1038/s41586-021-03828-1
- Jumper J., Evans R., Pritzel A., Green T., Figurnov M., Ronneberger O., Tunyasuvunakool K., Bates R., Zidek A., Potapenko A., Bridgland A., Meyer C., Kohl S.A.A., Ballard A.J., Cowie A., Romera-Paredes B., Nikolov S., Jain R., Adler J., Back T., Petersen S., Reiman D., Clancy E., Zielinski M., Steinegger M., Pacholska M., Berghammer T., Bodenstein S., Silver D., Vinyals O., Senior A.W., Kavukcuoglu K., Kohli P., Hassabis D. 2021. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature. 596 (7873), 583–589. doi: 10.1038/s41586-021-03819-2
- Baek M., DiMaio F., Anishchenko I., Dauparas J., Ovchinnikov S., Lee G.R., Wang J., Cong Q., Kinch L.N., Schaeffer R.D., Millan C., Park H., Adams C., Glassman C.R., DeGiovanni A., Pereira J.H., Rodrigues A.V., van Dijk A.A., Ebrecht A.C., Opperman D.J., Sagmeister T., Buhlheller C., Pavkov-Keller T., Rathinaswamy M.K., Dalwadi U., Yip .K., Burke J.E., Garcia K.C., Grishin N.V., Adams P.D., Read R.J., Baker D. 2021. Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network. Science. 373 (6557), 871–876. doi: 10.1126/science.abj8754
- Tikhonov D.B., Zhorov B.S. 2022. P-Loop channels: Experimental structures, and physics-based and neural networks-based models. Membranes. 12 (2), 229. doi: 10.3390/membranes12020229
- Schwartz P.J., Crotti L., Insolia R. 2012. Long-QT syndrome: From genetics to management. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 5 (4), 868–877. doi: 10.1161/CIRCEP.111.962019
- Antzelevitch C., Yan G.X., Ackerman M.J., Borggrefe M., Corrado D., Guo J., Gussak I., Hasdemir C., Horie M., Huikuri H., Ma C., Morita H., Nam G.B., Sacher F., Shimizu W., Viskin S., Wilde A.A. 2016. J-Wave syndromes expert consensus conference report: Emerging concepts and gaps in knowledge. J. Arrhythm. 32 (5), 315–339. doi: 10.1016/j.joa.2016.07.002
- Steinlein O.K. 2004. Genetic mechanisms that underlie epilepsy. Nat. Rev. Neurosci. 5 (5), 400–408. doi: 10.1038/nrn1388
- Catterall W.A., Kalume F., Oakley J.C. 2010. NaV1.1 channels and epilepsy. J. Physiol. 588 (Pt 11), 1849–1859. doi: 10.1113/jphysiol.2010.187484
- Wu J., Yan Z., Li Z., Qian X., Lu S., Dong M., Zhou Q., Yan N. 2016. Structure of the voltage-gated calcium channel Ca(v)1.1 at 3.6 A resolution. Nature. 537 (7619), 191–196. doi: 10.1038/nature19321
- Meadows L.S., Isom L.L. 2005. Sodium channels as macromolecular complexes: implications for inherited arrhythmia syndromes. Cardiovasc. Res. 67 (3), 448–458. doi: 10.1016/j.cardiores.2005.04.003
- Haworth A.S., Brackenbury W.J. 2019. Emerging roles for multifunctional ion channel auxiliary subunits in cancer. Cell. Calcium. 80: 125–140. doi: 10.1016/j.ceca.2019.04.005
- Dolphin A.C. 2016. Voltage-gated calcium channels and their auxiliary subunits: Physiology and pathophysiology and pharmacology. J. Physiol. 594 (19), 5369–5390. doi: 10.1113/JP272262
- Gonzalez-Perez V., Lingle C.J. 2019. Regulation of BK сhannels by beta and gamma subunits. Annu. Rev. Physiol. 81, 113–137. doi: 10.1146/annurev-physiol-022516-034038
- Zhorov B.S., Du Y., Song W., Luo N., Gordon D., Gurevitz M., Dong K. 2021. Mapping the interaction surface of scorpion beta-toxins with an insect sodium channel. Biochem. J. 478 (14), 2843–2869. doi: 10.1042/BCJ20210336
- Buel G.R., Walters K.J. 2022. Can AlphaFold2 predict the impact of missense mutations on structure? Nat. Struct. Mol. Biol. 29 (1), 1–2. doi: 10.1038/s41594-021-00714-2
Supplementary files