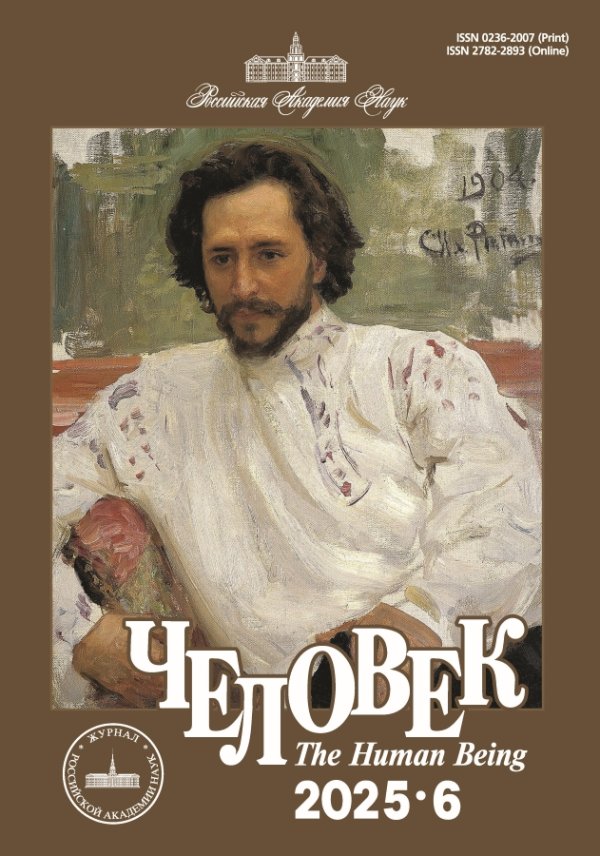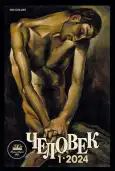О совпадении неясной сущности времени и человека
- Авторы: Гиренок Ф.И.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 35, № 1 (2024)
- Страницы: 9-25
- Раздел: Философия человека
- URL: https://medbiosci.ru/0236-2007/article/view/255773
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724010013
- ID: 255773
Полный текст
Аннотация
В статье обосновывается мысль о том, что человек живет во времени, а животные живут в пространстве. Животные эволюционируют, а человек галлюцинирует, поскольку галлюцинировать значит, согласно автору, жить во времени. Анализируя идеи Парменида, автор показывает, что жить во времени — значит выходить за пределы того, что есть, к тому, чего нет. Принцип различия между истиной и кажущимися вещами позволяет автору прийти к выводу, что интеллект является продуктом эволюции, а сознание — продуктом взрыва галлюцинаций, который произошел в эпоху позднего палеолита. Если психика рассматривается как навигация движения живых организмов среди вещей, то сознание понимается как навигация в мире образов, или, что то же самое, как навигация в картине мира. Отсюда следует, что сознание не является частью психики. В этой связи возникает проблема различения человеческого, органического и искусственного интеллектов. Для этого автор вводит понятие галлюценоза, понимая под ним взаимосвязь предметов мыслей и чувств человека. Органический интеллект встроен в инстинкт живых организмов, человеческий интеллект встроен в сознание. Искусственный интеллект — это математическая навигация в мире чисел. Органический интеллект нуждается в биогеоценозе, человеческий интеллект нуждается в галлюценозе. Искусственный интеллект не нуждается ни в том, ни в другом. Органический интеллект используется для навигации в мире звуков, цвета и запахов. Тогда как человеческий интеллект работает в области форм и времени. Неясная сущность человека и неясная сущность времени, делает вывод автор, совпадают.
Ключевые слова
Полный текст
В чем состоит проблема в философском исследовании сущности человека и времени? Она состоит в том, что если следовать совету Парменида и мыслить бытие вне времени, то тогда нужно лишить бытия человека и отказаться от существования времени. Тем самым нам нужно будет принять негативную связь между человеком и временем. Символом этой негативной связи становится различие между вещами, которые показывают себя такими, какие они есть, и кажущимися вещами. Первые подчиняются принципу тождества бытия и мышления, вторые — принципу тождества бытия человека и времени. Задача статьи состоит в том, чтобы показать позитивную связь между человеком и временем. Человек — не изгой бытия, а учредитель времени. Зачем человеку время? Затем, чтобы посредством мнимостей расширить реальность и в этом расширении, не зависимом от пространства, реализовать самого себя. Целеполагание — один из возможных способов расширения реальности.
Переживание времени
Идея статьи состоит в утверждении, что человек — это время, а не пространство. Но что такое время, не ясно. Равно как не ясно и то, что такое человек. Например, ребенок знает всего лишь одно время. Он знает его как непрерывно длящееся настоящее. Как то, что происходит в данный момент, хотя длится этот момент для него вечно. Но что это за время, которое не знает смены состояний? Что это за настоящее, у которого нет ни прошлого, ни будущего? Ответ на эти вопросы связан, на наш взгляд, с ответом на вопрос «Что значит быть ребенком?». Но быть ребенком означает быть бесструктурной «плазмой», то есть самоаффектирующей самостью.
Если бы ребенок был маленьким взрослым, то никакого различия между взрослым и ребенком не было бы. Так же, как нет никакого различия между тигренком и тигром. Но у людей это не так, различия есть. Что значит быть взрослым человеком? Быть взрослым означает быть говорящим «я». А «я» — это уже не «плазма», а структурированная языком самость.
Встреча с аффектом лишает ребенка прошлого и будущего. Встреча взрослого с языком лишает его настоящего, того, что происходит всегда в данный момент. О том, что происходит в данный момент, мы узнаем посредством чувств. В состоянии непрерывно возобновляемого аффекта можно чувствовать только то, что есть. Язык же заставляет нас, взрослых, говорить о том, что было и что будет.
Могут ли дети и взрослые понимать друг друга? Нет, не могут, потому что они живут в разных мирах. В одном мире у настоящего нет ни прошлого, ни будущего. В другом мире есть прошлое и будущее, но нет настоящего. А если в нем нет настоящего, то наше будущее оказывается нашим прошлым, которое никогда не сможет привести нас к настоящему. Вот это непонимание между детьми и взрослыми, этот разрыв между ними указывает на присутствие человека во времени. Присутствовать в нем — значит связывать нити распадающегося времени. У человека это присутствие есть, у животных его нет, ибо у них нет проблемы непонимания между младшими и старшими.
Парменид
Для разъяснения неясной сущности времени и человека следует, видимо, обратиться к истоку западной мысли. Что в истоке? Парменид и его сочинение «О природе». Греки известны тем, что изобрели не только философию, но и «природу», в которой не существует ничего такого, объяснение чего отсылало бы к сущностям, находящимся за ее пределами.
Парменид мыслит, как ребенок: бытие есть, небытия нет. Это, в свою очередь, означает, что бытие есть всегда, а времени нет. Бытие без времени — это природа, или, что то же самое, протяженность. Если времени нет, то с чем тогда можно соотнести бытие? С самим собой? Но Парменид говорит иначе: бытие можно соотнести с мыслью, потому что мысль, так же как и бытие, не делима. Не может быть половины бытия, как не может быть и половины мысли. Парменид связывает бытие и мысль. Проблема состоит в том, что если исходить из тождества бытия и мысли, сформулированного Парменидом, то мы всегда будем находиться в поле истины и не сможем ошибиться, если бытие назовем мыслью, а мысль — бытием. Но мы ошибаемся, если чашу называем сосудом. Потому что сосуд — это не бытие чаши и не мысль о чаше, это род единичных вещей.
Следуя принципу тождества, нам нужно отнять у бытия время, а у мысли — человека. То есть принцип тождества запрещает нам говорить, что бытие было или будет, а человек — мыслит. Мыслить — значит мыслить бытие вне времени, а люди мыслят вещи во времени. Мысль о чаше — это не чаша. Эта мысль принадлежит не бытию, а человеку, который не мыслит, а грезит во времени, хотя и может отличить одну случайную вещь от другой. Человек — это часть природы и, следовательно, ничем не отличается от любого другого сущего. А если это отличие и есть, то оно носит непринципиальный характер. Мыслить во времени означает для него «мнить», то есть грезить. Послушаем, что говорит Парменид. «Взглянь на то, что не рядом, но что на уме неотрывно» [Парменид, 1999: 179]. Что неотрывно? Не то, чего нет, не то, что было или будет, не образ какой-нибудь, а то, что не рядом. Слово «рядом», конечно, указывает на косвенное присутствие человека, а также оно указывает на пространственный характер бытия. Для чего Парменид употребил слово «рядом»? Он объясняет это так: «Ибо уму не рассечь сопричастности Бытного с Бытным» [там же]. Не рядом — то есть существует, но в другом месте пространства. Ум не нож, а бытие не сыр. Его нельзя разделить на части, оно всегда полное. Парменид объясняет это так: «Есть лишь “Быть”, а Ничто не есть: раздумай об этом», — говорит он, ругая при этом диалектиков, называя их невеждами и людьми о двух головах [там же].
В чем состоит изъян в рассуждениях Парменида? В том, что он допустил существование мнения смертных. Смертные же всегда имеют привычку рассуждать в терминах времени. Парменид не объяснил причину этой привычки. Не рассказал нам, какая сила заставляет человека мыслить во времени. Зададим вопрос: если у бытия нет времени, то откуда оно взялось? Из небытия? Нет. Из мысли? Нет. Парменид не разъясняет вопрос о происхождении времени, потому что мыслит бытие и мысль сами по себе. Если бы он стал мыслить их в связи с человеком, то стал бы Протагором и превратил бы человека в меру всего сущего и несущего. Между тем Парменид не мог не заметить, что люди все-таки имеют дело с так называемыми «кажущимися вещами», а кажущаяся вещь — это не пространственная вещь, это вещь, разделенная во времени на кажимость и на вещь, ибо кажущаяся вещь — это вещь, которая показывает себя тем, чем она не является, то есть это призрак. Но в бытии нет никаких призраков, призрак не относится к сущему. Кажущиеся вещи указывают на трансгрессию пределов бытия. Парменид в переводе А.В. Лебедева нас учит правильному обращению с кажущимися вещами: «… как о кажущихся вещах надо говорить правдоподобно, обсуждая их все в совокупности» [Парменид, 1989: 287]. Что это значит? Это значит, что на языке истины можно говорить только о самих вещах, а вот на языке правдоподобия мы можем говорить о кажущихся вещах. Философы, полагал Парменид, говорят на языке истины о настоящих вещах. А люди говорят на языке правдоподобия о кажущихся вещах. Он философов уподобляет богам, а людей — существам, живущим во времени.
Принцип тождества бытия и мышления, сформулированный Парменидом, помешал ему помыслить человека в соответствии с его природой, но позволил философам, то есть физикам, помыслить физический мир таким, какой он есть сам по себе.
Физики и галлюцинации
Каким мир существует на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на два рода вещей, открытых Парменидом, — на вещи, которые показывают себя такими, какие они есть, а также на вещи, которые показывают себя такими, какие они не есть. Если человек смотрит на вещи, то он воображает и видит в них то, что не видит другой. Подходит этот взгляд для физика? Нет. Он подходит для обывателя. В какой же момент человек смотрит на вещи и видит их такими, что его воображение на них не действует? Вернее, что это за момент, когда вещи сами показывают себя нам такими, какие они есть? Сами себя они показывают только философам, то есть физикам, в момент, когда они мыслят бытие вне времени, то есть галлюцинируют. Что же видят физики? Они видят бытие, тождественное мысли о бытии. И нет больше никакого иного способа увидеть им это тождество. Вновь спросим себя, что значит думать? Думать — это значит погружать себя в сновидение наяву [Задра, Стикголд, 2023]. Погружать себя зачем? Затем, чтобы попытаться увидеть то, что, пока мы мыслим, всегда стоит у нас перед глазами, только мы этого не замечали, потому что наши глаза обращены обычно вовне, к телам, а нам их нужно обратить к себе, к тому, что внутри нас, ибо то, что внутри нас, показывает себя нам таким, какое оно есть: «любое дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой источник познания, и все, что предлагается нам в “интуиции” из самого первоисточника… нужно принимать таким, каким оно себя дает» [Гуссерль, 2009: 80]. Дает кому? Парменид говорит, что нечеловеческое это дело видеть истину. Истина принадлежит богам. Дело человека — заблуждаться. Гуссерль вообще об этом ничего не говорит. Иными словами, мысль и бытие отождествляются в голове не всякого человека, а только в галлюцинации того, кто галлюцинирует. Мыслить природу значит совершать путешествие в воображаемое. Кто это делает? Философы, то есть физики, которые видят то, чего нет, но что им дано посредством галлюцинаций. Что дано? Геометрическое разнообразие точек, линий, фигур. Им дана истина. Язык только затемняет очевидность увиденного. Кажимости устроены иначе, чем галлюцинации, а галлюцинации иначе, чем образы [Сакс, 2022].
Если мы сотрем галлюцинации, то мы лишим себя геометрии и математики, то есть лишим себя природы, ибо все эти точки, прямые и фигуры не из природы, а из видений, посредством которых мы пытаемся создать предметный мир. Если мы избавимся от кажущихся вещей, то исчезнет жизнь, ибо исчезнут звуки, запахи и цвет. Если мы перестанем заботиться о существовании образов, то нас навсегда покинет сознание.
Галлюцинации — это не болезнь человека, это болезнь природы, ее предел. Они приходят и уходят, не спрашивая у нас на то согласия. Образы устроены иначе. Их мы создаем из разных фрагментов, и поэтому мы нуждаемся не только в данном моменте, но и в том моменте, что следует за ним. Поэтому нам следует согласиться с Парменидом, что времени самого по себе нет. Согласиться, чтобы понять, что оно учреждается человеком.
Кажущиеся вещи и биоценоз
Неясность сущности времени проистекает из неясности понимания роли галлюцинации в удвоении жизни человека. Жить — значит жить в биоценозе, в мире цвета, звуков, запаха и осязательного отношения к миру. Но ни цвет, ни звук, ни запах сами по себе не существуют. Это кажущиеся вещи. У них нет наночастиц. Они возникают в точке их восприятия организмом. Цвет, звук и запах — это не субъективность. Не то, что принадлежит субъекту, но это и не объективность, не то, что принадлежит вещам. Воспринимать — значит привязывать цвет, звук, запах к вещам, оестествлять их, превращать в условие жизни на земле. Восприятие цвета, звука, запаха расширяет реальность. В этом расширении она уже является не физической, а биологической реальностью. То есть цвет, звук, запах — это не то, что принадлежит организму, а то, чему принадлежит сам организм. Логика движения животного определяется биогеоценозом. Психика является навигатором его передвижения в мире вещей, цвета, звуков и запаха. Психика должна мыслиться как вещь среди вещей. Такой же вещью в ряду других вещей является и человек, если его действия управляются нейронными сетями и мозговыми структурами. Но мозг — это не сознание. Это электрическая машина, посылающая импульсы электрического тока. Нейронные сети — его проводники. Электрический ток может быть электронным или ионным. В одном случае нужны металлы, в другом — жидкости. В любом случае никакого сознания в голове у человека нет. Отсюда следует, что исследование мозга не является основополагающим для изучения человека. Для того чтобы выжить в биоценозе, животному нужно не сознание, а интеллект.
Органический интеллект
У осьминога нет головного мозга, но у него есть нейронные сети. Осьминог — большой интеллектуал в деле приспособления к окружающей среде. Он может уподобить себя растению [Монтгомери, 2018]. У вороны нет извилин в мозгу, но этологи говорят, что она очень умная [Воронов, Константинов, 2014]. Тип жизни животного зависит от инстинкта, от безусловных рефлексов.
Известно, что гуси боятся сокола. Это их враг. Орла они тоже боятся, но орел и сокол для них предстают как два разных сигнала. Почему сигнала? Потому что в природе нет знаковых отношений, ибо знак вообще — это речевой знак. А речь, как говорит Н.И. Жинкин, соединяет воображаемое и реальное.
Чтобы подтвердить идею об особой опасности для гусей сокола, один ученый стал, залезая на дерево, запускать с него поддельного сокола, его муляж. А поскольку гуси ничего не знали о симулякре, ибо их мозг и нейронные сети не отличали подобие вещи от самой вещи, постольку они на муляж реагировали, как на сокола. Ничего умного в этой реакции не было. Она была стандартной. Но недолго. Вскоре гуси стали реагировать не на муляж, а на биолога. Как только он полезет на дерево, они разбегаются. То есть гуси показали, что они умные: у них есть интеллект, и они стали воспринимать в качестве сокола самого ученого, а не его «гусиную симуляцию». Чем гуси отличаются от поведения царя Иксиона на пиру олимпийских богов? Об этом рассказывает греческий миф об Иксионе.
Иксион
Иксион был царем одного из греческих племен. Быть царем — это испытание для человека. Иксион не выдержал этого испытания. Он крал, был подлым, возможно, брал взятки, не соблюдал законы и обычаи. Наглость его не знала пределов. В конце концов он самым мерзким образом обманул отца своей жены и затем убил его. Боги и люди отвернулись от него.
Но Зевс необъяснимым образом решил простить Иксиона. И даже наградил его бессмертием. Преследуя какие-то свои божественные цели, Зевс пригласил Иксиона за пиршественный стол, то есть в мир богов. Нескромный Иксион пришел, сел в центре рядом с Герой, женой Зевса. После употребления чаши с амброзией он совсем осмелел и стал присматриваться к олимпийским богам. Иксиону показалось, что боги совсем как люди. Ему очень понравилась жена Зевса — богиня Гера. И он стал делать ей недвусмысленные предложения. Зевс, конечно, все видел. Зевс думал, что Иксион все-таки человек и знает, что такое мнимость, а он оказался хуже зверя. Почему? Потому что в нем не оказалось ни сознания, ни интеллекта. Зевс создал из облака иллюзию — точное подобие Геры и предложил его Иксиону. Иксион не понял, что боги играют с ним, что перед ним не Гера, а ничто, облако по имени Нефела и по глупости совокупился с этим облаком, с ничто. Затем, вернувшись на землю, он всем стал рассказывать, как соблазнил жену Зевса. Зевс наказал за все это Иксиона. Он навсегда поместил его в огненное вращающееся колесо.
Что получилось в итоге? В итоге на свет появился кентавр — наполовину человек, наполовину животное, то есть в кентавре воплотилась мысль Зевса о составной природе Иксиона.
Но ни одна сущность, говорил Аристотель, не состоит из сущностей [Аристотель, 1975: 220]. Почему? Потому что такая сущность нежизнеспособна. В чем проблема Иксиона? В том, что у него оказался сломан основной инстинкт. Он думал, что на небесах то же, что и на земле. Но на небесах нельзя полагаться на природный инстинкт. Иксион не заметил, как вышел за пределы сущего и вошел на территорию действия кажущихся вещей. А на этой территории нужно полагаться не на органический интеллект, а на осознание существования мнимостей.
Сегодня, спрашивая себя о различии человеческого интеллекта и органического, мы не должны забывать опыт Иксиона. Перед глазами не может стоять одно, состоящее из двух сущностей. «Выяснять же, почему вещь есть то, что она есть, значит, ничего не выяснять» [там же]. То есть мы должны помнить, что интеллект — это не мозг в банке, как в романе Пелевина [Пелевин, 2023]. Интеллект должен быть встроен в инстинкт, как у животного, или в сознание, как у человека. Естественный интеллект существует для движения в мире звуков, цвета и запахов. Искусственный интеллект не видит и не слышит, у него нет осязательного отношения к миру. Он существует для движения в мире чисел. Для движения в мире образов у человека есть сознание, которое отвечает за все, в том числе и за движение в мире чисел.
Имеет ли сознание хоть какое-то отношение к знанию? Нет. Мнимости не знают, а учреждают. В свою очередь, путешествие по времени (на Олимп, как в мифе об Иксионе) — это путешествие по сознанию. Время — это не способ существования вещей, а свойство сознательной жизни человека. Числом измеряется космос, но в этом космосе нет смысла, то есть нет времени. Чем искусственный интеллект отличается от органического? Тем, что у него нет инстинкта. Он не встроен в мир вещей, звуков, цвета, запахов и спонтанной геолокации.
Чем органический интеллект отличается от человеческого? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что происходило в пещере Шове и в пещере Ласко около 20 тысяч лет назад.
Галлюценоз
Что же происходило в этих пещерах? В них взрывались галлюцинации и оформлялось движение человека от биоценоза жизни к галлюценозу сознания. Жить — не означает сознавать. Сознавать значит галлюцинировать. Животные живут в мире вещей, звуков, цвета и запахов. Навигацией в нем руководит психика. Люди видят в цвете, слышат звуки, но живут в мире образов и мнимостей. Навигацией в нем руководит сознание.
Сознавать — значит жить не в мире, а в картине мира, то есть в мире суждений о мире [Сет, 2023]. Галлюценоз связывает то, что мы думаем и чувствуем, с тем, что думали и чувствовали до нас и будут думать и чувствовать после нас. Ни одно живое существо не приспособлено к тому, чтобы жить в мире образов. Поэтому нет никаких оснований полагать сознание в качестве какой-то части психики, ибо психика — это вещь для движения среди вещей в пространстве, а сознание для движения человека среди образов во времени. Тело не является границей сознания. Сознание не является пределом тела. Тело действует на тело, но этим действием не рождается сознание. Сознание рождается из галлюцинаций посредством трения грезящих тел друг о друга. Граница сознания — субъективность. Чем меньше в мире субъективности, тем меньше в нем сознания. Чем больше в мире рациональности, тем меньше в нем субъективности.
Человеческое «я» всегда существует во времени, его не надо искать в пространстве. Другой всегда существует в пространстве, его не стоит искать во времени. Множество других составляет социум, но в социуме никогда нет тебя, твоего «я». Поэтому всякий социум стремится к избавлению от «я», а любое «я» стремится к избавлению от присутствия социума. Наше «я» существует в галлюценозе. Иными словами, человек — это его грезы. Больше всего человек говорит с собой, а не с другими. Не диалог, а монолог ведет человека по пути истины.
Время существует не потому, что у нас есть часы, а потому, что у нас есть смыслы. Откуда они взялись? Представим себе, что мы едем по дороге, ни о чем не думая. Куда она, туда и мы. Но вот она необратимым образом раздвоилась в наших глазах. Одна в воображаемое. Другая — в реальное. Но никто не знает, чем одно отличается от другого. Кто нам подскажет? Сознание, ибо у него есть, как скажет Н. Жинкин, только одно свойство: придавать смысл бессмысленному [Жинкин, 1982: 91]. Чем отличается наше движение от движения животного? Животное, куда оно пришло, туда оно и шло. А у нас есть цели. Цель — это приватизированная человеком мнимость, то есть способ воздействия на самого себя во времени.
Мысль о том, что время является результатом взрыва галлюцинаций, сама придет к нам в голову, когда мы увидим в пещере Шове изображение животного, у которого нарисовано почему-то 8 ног. Почему их 8, а не 4? Возможно, кто-то скажет, что это аномальная неврологическая случайность у художника. Я скажу иначе: эта ошибка есть фундаментальный признак человеческого существования. В чем он состоит? В том, что у человека появилось чувство времени.
Галлюцинации — это то, чего нет, но одновременно это то, что нам дано в наших самоощущениях в качестве того, что есть. Галлюцинации наскальной живописи фундаментально отличают человека от животных. Известно, что обезьяны — умные животные. Они умные, но не настолько, чтобы знать геометрию. Чтобы достать банан, они могут прибегнуть к помощи различных предметов. Однажды исследователи отделили бананы от обезьяны щитом с отверстием в виде треугольника. Перед обезьянами лежало три шеста. Один в форме треугольника, другой в форме прямоугольника, третий в форме круга. Обезьяны перепробовали все шесты, но подошел только один, треугольной формы. О чем это говорит? О том, что обезьяны, конечно, умны, но они не галлюцинируют, и поэтому они не могут отделить форму от вещи. Для них мир является бесформенным. Человек, конечно же, неразумное существо, ибо он грезит, но он знает геометрию, ибо только в галлюцинации можно увидеть то, что на самом деле не существует. Посредством галлюцинации мы можем увидеть фигуру животного до опыта встречи с животным. Наскальная живопись освободила форму, цвет, звук, запах, и посредством данных ему форм человек создал предметный мир. Современная абстрактная живопись, по словам Пикассо, только повторила этот жест наскальной живописи и напомнила нам о том, что в галлюцинации природа перестает быть тем, что она есть, и становится тем, что она не есть.
Человек — единственное существо во всей слепоглухонемой вселенной, которое существует во времени. Время есть свойство сознательной жизни человека, а сознание есть свойство жизни человека во времени. Если у человека появляется чувство времени, то у него не может не появиться и чувство самого себя, равно как и чувство реальности, которое предваряет появление всякой реальности. Сознательный опыт порождает не деятельность миллиарда нейронов мозга, а жизнь человека во времени, которая, в свою очередь, состоит в исполнении невозможных желаний. Если бы не было этих «пустых», как их назвал Кант, желаний, то человек никогда бы не стал разумным, ибо разум только для того и существует, чтобы заполнить пустоту желаний объектами, причиной которых является сам человек. Подчиняя себя тому, чего нет, но что ему дано, человек расширяет границы своей жизни. В этом расширении естественного человек уже не зависит от формы, цвета, звука и запаха. Возникает новая, неестественная для живого, антропологическая реальность.
Размышления об искусственном интеллекте
Как возможно внешнее созерцание? — спрашивал Кант в «Критике чистого разума». То есть о чем он спрашивал? О том, почему мы видим что-то вне себя, а не ничто в себе? Почему мы видим вещь, а не галлюцинацию? На свой вопрос он отвечал так: «На этот вопрос ни один человек не способен дать ответ; этот пробел нашего знания никогда не может быть восполнен» [Кант, 2007: 689]. Внешнее созерцание можно помыслить, если мы согласимся с Парменидом, что никакого времени нет, а также примем тезис Московской антропологической школы, согласно которому человек есть не что иное, как взрывающаяся галлюцинация.
Если времени нет, где же может показать себя интеллект? В протяженности. Но чтобы показать себя через присутствие в пространстве, нужно быть живым. Что значит быть живым? Это значит быть в мире звуков, цвета и запахов. Но проблема состоит в том, что в природе самой по себе нет ни звука, ни цвета, ни запаха. Космос — это великий слепоглухонемой. В нем ничего нет, кроме энергии и тел. Значит, в нем нет и интеллекта.
Цвет, звук и запах появляются в мире только потому, что живые органические существа имеют особенность воспринимать некоторые волны в цвете, звуке и запахе. Эти объективированные галлюцинации превращаются в условия существования живых организмов. Жить — значит в соответствии со своей природой определять свое действие на земле в мире цвета, звука и запахов. Это определение осуществляется сенсориумом, состоящим из пяти чувств под руководством инстинкта.
То, что мы только что описали, назовем органическим интеллектом. Чем отличается от него человеческий интеллект? Тем, что он (человек) живет на земле во времени, а не в пространстве. В пространстве живут животные. А поскольку никакого времени нет, постольку согласимся с Кантом, что время есть у человека как внутреннее время. Природе же мы, в отличие от Канта, оставляем пространство, тела и силы. В свою очередь, внутреннее время понимается как ток множественных галлюцинаций и фрагментированных частей, соединение которых Кант назвал продуктивной способностью воображения априори. В чем состоит эта способность? В том, чтобы хватать что угодно и соединять с чем угодно, образуя объекты, объективность которых еще только нужно подтвердить. В этом и состоит синтетическая работа воображения.
Поскольку мы галлюцинируем, постольку мы живем во времени. И все, что мы делаем в нем, мы делаем вслепую. Мы всегда воображаем то, чего нет, даже если смотрим на то, что есть. Эта слепота дает нам возможность думать, а это значит, что мы воображаем, когда видим, превращая цвет в живопись, звук — в музыку, действие — в театр, а запахи — в парфюмерию. Никто не может у нас отнять сенсориум, состоящий из пяти чувств для жизни в пространстве.
Но для жизни во времени нам нужен другой сенсориум, который состоит из других чувств, а именно: чувства самого себя, чувства реальности, чувства времени и ощущения присутствия Бога. Жить во времени — значит жить в мире образов, призраков, галлюцинаций, видений и мнимостей, которые мы почему-то называем ценностями. Руководит нашей жизнью сознание, а не бессознательное. То есть что такое сознание? Это наделение существованием того, что само по себе не существует. В сознательной жизни человека бытие (существование) — реальный предикат. Кажущиеся вещи существуют, если к ним относятся как к чему-то действительно существующему. В познании природы бытие есть как нереальный предикат, то есть ничего не прибавляет к понятию и ничего не отнимает у него.
Теперь, когда мы узнали, что такое органический интеллект и человеческий интеллект, мы можем сказать, что никакого искусственного интеллекта нет, не было и не будет. Есть системы с элементами ИИ. Почему системы с элементами искусственного интеллекта? Потому что эти элементы подчиняются не токам галлюцинаций, не инстинктам и не сознанию, а программе и электрическим сигналам, они не знают ни цвета, ни звука, ни запаха, ни образов, ни привидений, ни целей, ни времени. Поэтому они искусственные. Что они могут делать? Быстро вычислять. Элементы ИИ — это объективированные галлюцинации современного научного сознания.
Об иллюзивной материи человеческого существования
Что такое «иллюзивная материя»? Слово «иллюзия» обозначает обман, ошибку восприятия. Это то, от чего многие из нас непременно хотят избавиться, чтобы жить без иллюзий. Но это невозможно. Все люди иллюзионисты, а не реалисты.
Мы полагаем, что есть реальность и еще есть то, что ей соответствует, истина. Всякое сущее, думаем мы, отсылает только к сущему и ничего, кроме сущего, в себя не включает. Правда, позитивист Декарт допускал, что человека можно мыслить по отношению к его собственному телу подобно отношению пловца к лодке. Пловец знает, но не ощущает лодку. «Я буду мнить… внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками злокозненного гения…» [Декарт, 1994: 20]. Допустив разрыв между лодкой и пловцом, Декарт допустил одновременно возможность для того, чтобы пловец мог принять себя не за пловца, а, допустим, за короля Франции. Но принять себя за короля Франции — значит сойти с ума. Сумасшедшего общество должно изолировать. Но если сумасшедшего изолировать от мысли, то от самой мысли ничего не останется. Безумие составляет смысл ума.
Проблема состоит в том, что все мы принимаем себя за себя и себя за другого на одних и тех же основаниях. Отсюда следует, что, принимая себя за себя, я становлюсь таким же сумасшедшим, как и тот, кто принимает себя за короля Франции. Поэтому, когда я предъявляю себя как «я», я схожу с ума. Но на это никто не обращает внимания, ибо «я» считается социально приемлемым сумасшествием. Каждый из нас существует в страхе оказаться на самом деле безумным. В чем состоит причина этого страха? Она состоит в понимании того, что в любой момент мы можем обнаружить такое сущее, которое будет отсылать нас не к сущему, а к небытию. Заглядывание в бездонность небытия образует человеческий способ существования. Сущее, которое показывает себя тем, что оно не есть, называется иллюзивной материей человеческого существования.
Откуда же берется эта материя, если бытие само себя не обманывает и само с собой не играет в прятки? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отклонить представление о том, что иллюзия — это обман. Иллюзия — это всего лишь знак присутствия человека по отношению к самому себе. Относиться к себе — значит заглядывать в свое небытие, совпадение с которым невозможно. Одновременно мы можем попытаться связать себя с собой во времени посредством «я».
«Я» — это наше небытие, то, чего нет, но что нам дано в наших самоощущениях. Принимать ли нам себя за себя или за другого, то есть решать, в каком случае мы будем считаться безумцами, а в каком — не будем, зависит не от нас, зависит от общества. Для этого мы, люди, его и изобрели, будучи существами по преимуществу асоциальными. Наша асоциальность коренится, как заметил Декарт, в нашей способности грезить. Слова «я» и «мы» — это наши галлюцинации, согласованные с обществом, которое, в свою очередь, управляет нашим небытием посредством языка.
Никто из нас не может присутствовать по отношению к себе, избавившись от себя. Все мы нуждаемся в самообмане, ибо всем нам приходится соединять в речи воображаемое и реальное. Сначала мы говорим, а потом появляется язык как нечто побочное и неважное. Не язык дом нашего бытия. О чем мы можем говорить? Мы можем говорить только о том, что есть. Мы не можем говорить о том, чего нет. Кто этому мешает? Язык. Но откуда мы говорим о том, что есть? Мы говорим изнутри самих себя. Человек — сторож воображаемого. Быть внутри — значит быть не в мире. Мы смотрим изнутри себя, чтобы увидеть внешний мир, ибо кроме него ничего нет. Но затем мы глазами внешнего мира пытаемся рассмотреть свое присутствие в мире и, конечно, ничего в нем не видим. Вернее, ничего в нем не находим. Почему не находим? Потому что нас в мире нет, мы в нем не существуем. Мы в нем галлюцинируем.
«Итак, пресловутая проблема общения между мыслящей и протяженной сущностью сводится, — пишет Кант в “Критике чистого разума”, — …к вопросу: как вообще возможно в мыслящем субъекте внешнее созерцание, а именно созерцание пространства…» [Кант, 2007: 689].
Созерцание пространства возможно только в одном случае: если наши галлюцинации показывают нам то, чего нет: точку, линию, треугольник, круг и т.д. Если мы когда-нибудь избавимся от галлюцинаций, мы избавим себя одновременно от геометрии и от предметного мира.
Но что же нам тогда дано в наших самоощущениях? В наших самоощущениях, опять же, нам дано то, чего нет, наше небытие. «Кто я?» — спрашиваем мы язык. И язык нам отвечает: я знаю ваше имя, место работы и социальное положение. Но я не знаю, кто вы, вас нет, вы галлюцинация своего существования. Но как же я хожу на работу? — недоумевает человек. На этот вопрос отвечает социум. Для этого грезящего человека нужно воспитывать, то есть дрессировать. Птицу нельзя научить летать. Она летает посредством самонаучения. Посредством самонаучения человек может только грезить.
Сознавать и жить — не одно и то же. Когда мы сознаем, мы не живем, когда мы живем, мы не сознаем. Нельзя жить в природе и одновременно сознавать. Поэтому каждый человек, выбирая одно, выбирает и другое: жить, чтобы сознавать, и, сознавая, жить. Животное живет в мире природы. Человек переделывает природу, ибо живет в картине мира, которую он нарисовал. Жить в картине мира — значит быть в пространстве, согласно Канту, «непреодолимых видимостей».
Иллюзивную материю нашего существования можно измерять галлюцинациями, видениями, представлениями, образами и производными от них гибридными существами. Иллюзивная материя подчиняется одному правилу: призраки только тогда существуют как призраки, когда они воспринимаются как вещи. На молекулярном уровне призраки не существуют. Люди, говорил Платон, изначально смотрят на идеи, но видят в них не идеи, а вещи. И в этом смысле все, что человек считает реальностью, является формой его безумия, ибо статус вещи он приписывает даже своему небытию. Никакой реальности, взятой самой по себе, нет. Равно как не существует и истины. Всякому смыслу предшествует работа по преодолению бессмыслицы мира.
Если всякое существование предполагает то, что существует, то иллюзивная материя отсылает к существованию без указания на то, что существует. Все мы существуем так, как существуют артисты на сцене, где все реально, но эта реальность отсылает не к миру реальному, а к миру воображаемому, к тому, чего нет, но каким-то способом дано уже сознанию зрителя. Объектом зрения зрителя является небытие объекта самого зрения. Время здесь выступает не как качество вещей, а как свойство иллюзивной материи. Неясная сущность времени тем самым прояснилась. Она совпадает с неясной сущностью человека.
Об авторах
Федор Иванович Гиренок
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: girenok@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-5055-7689
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета
Россия, 119991 Москва, Ленинские горы, д. 1Список литературы
- Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 64–368.
- Aristotle. Metafizika [Metaphysics]. Aristotle. Soch. v 4 t. T. 1 [Op. in 4 vol.]. Vol. 1. Moscow: Mysl’ Publ., 1975. P. 64–368.
- Воронов Л., Константинов В. Corvus sapiens? // Наука и жизнь. 2014. № 10. С. 50–54.
- Voronov L., Konstantinov V. Corvus sapiens? [Crow Sage]. Nauka i zhizn’. 2014. N 10. P. 50–54.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М.: Академический проект, 2009.
- Husserl E. Idei k chistoj fenomenologii i fenomenologicheskoj filosofii. Kniga pervaya [Ideas for Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy]. Moscow: Akademicheskij proekt Publ., 2009.
- Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом / Декарт Р. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 3–72.
- Descartes R. Razmyshleniya o pervoj filosofii, v koikh dokazyvaetsya sushchestvovanie Boga i razlichie mezhdu chelovecheskoj dushoj i telom [Reflections on the First Philosophy, which Proves the Existence of God and the Difference between the Human Soul and Body]. Descartes R. Soch. v 2 t. T. 2 [Op. in 2 vol.]. Vol. 2. Moscow: Mysl' Publ., 1994. P. 3–72.
- Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982.
- Zhinkin N.I. Rech’ kak provodnik informacii [Speech as a Conductor of Information]. Moscow: Nauka Publ., 1982.
- Задра А., Стикголд Р. Когда мозг спит: Сновидения с точки зрения науки. М.: Альпина нон-фикшн, 2023.
- Zadra A., Stickgold, R. Kogda mozg spit: Snovideniya s tochki zreniya nauki [When the Brain Sleeps: Dreams from the Point of View of Science]. Moscow: Alpina Non-fiction Publ., 2023.
- Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2007.
- Kant I. Kritika chistogo razuma [Critique of Pure Reason]. Moscow: Eksmo Publ., 2007.
- Монтгомери С. Душа осьминога. Тайны сознания удивительного существа. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
- Montgomery S. Dusha os’minoga. Tayny soznaniya udivitel’nogo sushchestva [The Soul of an Octopus: A Surprising Exploration into the Wonder of Consciousness]. Moscow: Alpina non-fiction Publ., 2018.
- Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М.: Наука, 1989. С. 274–298.
- Parmenides. O prirode [About Nature]. Fragmenty rannkih grecheskih filosofov. Ch. 1. [Fragments of Early Greek Philosophers. Part 1]. Moscow: Nauka Publ., 1989. P. 274–298.
- Парменид. О природе // Эллинские поэты VIII–III вв. до н.э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика. Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. С. 178–182.
- Parmenides. O prirode [About Nature]. Ellinskie poety VIII—III vv. do n. e. Epos. Elegiya. Yamby. Melika [Hellenic Poets of the VIII–III centuries BC. Epos. Elegy. Yambas. Melika], ed. by M.L. Gasparov. Moscow: Ladomir Publ., 1999. P. 178–182.
- Пелевин В. Transhumanism.inc. М.: Эксмо, 2023.
- Pelevin V. Transhumanism.inc. Moscow: Eksmo Publ., 2023.
- Сакс О. Галлюцинации. М.: АСТ, 2022.
- Sacks O. Gallyucinacii [Hallucinations]. Moscow: AST Publ., 2022.
- Сет А. Быть собой. Новая теория сознания. М.: Альпина нон-фикшн, 2023.
- Seth A. Byt' soboj. Novaya teoriya soznaniya [Be Yourself. New Theory of Consciousness]. Moscow: Alpina Non-fiction Publ., 2023.