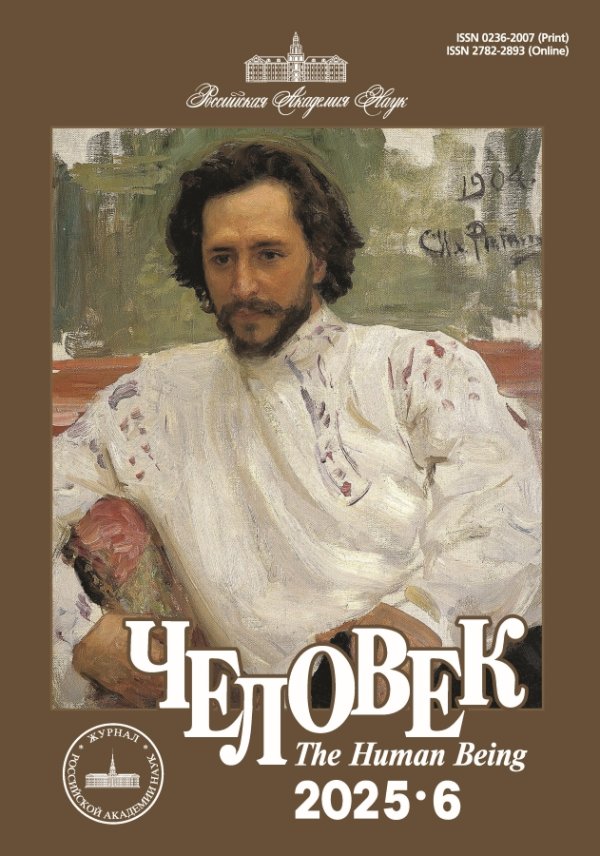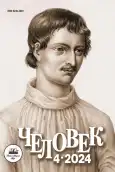Bruno’s Strange New Worlds and the Orphics
- Authors: Afonasin E.V.1
-
Affiliations:
- I. Kant Baltic Federal University
- Issue: Vol 35, No 4 (2024)
- Pages: 149-168
- Section: Times. Morals. Characters
- URL: https://medbiosci.ru/0236-2007/article/view/263539
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724040092
- ID: 263539
Full Text
Abstract
Images of the future in Plato’s philosophy are in one way or another associated with the past. Such are the myth of Atlantis, the Cretan laws or the reformed polis religion. Neoplatonists up to the Renaissance followed the same path, as beautifully shown as early as Frances Yates (1964) in the mid-twentieth century, who, however, preferred to perceive Platonism as part of the widely understood Renaissance Hermeticism. This approach has now been considerably revised (cf., e.g. Gatti 2011 and 2017) and, as far as Giordano Bruno is concerned, it is interesting to compare his perception of “ancient theology” with Orphicism. Indeed, in his “Cena de le ceneri” and “De l’infinito, universo et mondi” Bruno develops a cosmology of multiple worlds, in many ways similar to Orphic, while in Lo spaccio della bestia trionfante and Cabala del cavallo Pegaseo he explicitly uses the methodology of reinterpretation of polis religion inherited by Platonists from Orphic commentators. I am not claiming that all these literary parallels with Orphicism influenced Bruno directly, but the observations made in this article seem likely to contribute to a better understanding of the genesis of his philosophy.
Full Text
Atteso che non e’ cosa nova, che non possa esser vecchia:
et non e’ cosa vecchia, che non sii stata nova.
Giordano Bruno
Новое — это, в сущности, хорошо забытое старое, замечает Теофило в диалоге Джордано Бруно «Пепельная трапеза» (Cena de le ceneri) [Bruno, 2018: 42–43; Бруно, 2019: 60], добавляя, что так думал и Аристотель. Но это верно лишь потому, что истина всегда остается истиной, независимо от того, придерживаетесь ли вы халдейской или египетской мудрости, являетесь ли приверженцем «магов», орфиков или пифагорейцев. Важно не уподобиться тем «логикам и математикам», которые выступают противниками не столько древности, сколько самой истины, и их позиция проблематична не потому что она старая или новая — беда их в том, что они слепо придерживаются ложных предпосылок популярной философии (presuppositi falsi de la comone et volgar philosophia) [Bruno, 2018: 28], поиск истины заменяя бесконечным истолкованием общеизвестных текстов и переводом их с одного языка на другой. Они видят, но не понимают. Именно от этого предостерегал пророк Тересий свою дочь Манто [ibid.]. Так незаметно «вслед за светлым днем древних мудрецов наступила мрачная ночь безрассудных софистов» («О бесконечности, вселенной и мирах», “De l’infinito, universo et mondi”, пер. А.И. Рубина) [Бруно, 2019: 253]. Но теперь настало время, пишет он далее, «срезанным корням» — прорасти, древностям — вернуться, а новому свету «сокрытых истин» — вновь зажечься «на горизонте нашего сознания» [Бруно, 2019: 286].
1.
Аристотель действительно думал подобным образом. Мы не знаем, какое место из произведений Стагирита имел в виду Бруно, однако можем, например, вспомнить его знаменитое рассуждение о том, что «следами (ἐγκαταλείμματα), оставшимися, благодаря своей краткости и разумности, после того, как вся древняя философия погибла во вселенской катастрофе» можно считать пословицы и всевозможные мудрые изречения (Аристотель, фр. 8 Ross, Синесий, Похвала безволосости 22.85с)1. Аналогичным образом Аристотель рассуждает и в Метафизике (1074b1–10). Описав теорию эпициклов Евдокса и Калиппа и объяснив, почему движение планет в его космологии является целью всякого движения и почему небо может быть только одно, он далее замечает, что еще с древнейших времен считалось, что божественное объемлет всю природу и каждое из светил представляет собой божество, причем для соблюдения законов и для выгоды людей это знание было облечено в форму мифов. Но если, отвлекшись от мифологии, попробовать увидеть в нем рациональное зерно, то мы поймем, что перед нами остатки того древнего искусства, которое изобреталось человечеством неоднократно и снова погибало, поэтому современное астрономическое знание можно считать остатками (λείψανα) прошлого [см.: Афонасин, 2017: 32]. Вглядываясь в космос, мы смотрим в прошлое и с точки зрения современной космологии, хотя и в другом смысле.
Развивая мысль Аристотеля, позднеантичный философ Филопон (Комментарий к Введению в арифметику Никомаха 1.1) отмечает, что Аристотель здесь имеет в виду своего рода этапы освоения «мудрости древних», которых он насчитывает пять. Действительно, после каждой глобальной катастрофы2 цивилизация вновь возрождается, так как ничто не может исчезнуть бесследно, и пережившие катаклизм люди вновь осваивают самое необходимое благодаря оставшимся навыкам, считая их древней «мудростью». На следующем этапе развития новой цивилизации и «по подсказке Афины» они открывают искусства, то есть разнообразные ремесла, делающие их жизнь не только сносной, но и удобной и красивой. Затем (вполне в духе мифа Протагора из одноименного диалога Платона) они упорядочивают общественную жизнь и создают «законы, связующие полис». Именно этим прославились семь мудрецов, каждый из которых внес тот или иной вклад в формирование политической мудрости3. Следом, в-четвертых, обеспечив себя всем необходимым, они научились с пользой проводить свободное время, на досуге занимаясь творчеством и изучая окружающий мир. Так возникли неутилитарные искусства и наука о природе, а поэты, художники и ученые мужи также заслуженно стали называться мудрецами. Ну и, наконец, в-пятых, «они приложили это слово к божественному, надмирному и совершенно неизменному, и назвали это знание высшей мудростью».
Эта сравнительно развернутая теория представляет собой результат длительных размышлений античных мыслителей о человеческой истории, восходящих по крайней мере ко временам Ксенофана (ок. 540–537 до н.э.), который полагал, что суша периодически поглощается морем и вместе с нею весь человеческий род благодаря природному процессу смешения воды и земли, что доказывают ракушки, которые находят не только на земле, но и даже высоко в горах (Ипполит, Опровержение всех ересей 1.14.5–6; 21 A 33 DK). Эти процессы, вторит ему Аристотель в Метеорологике (351b10–12), происходят очень медленно, настолько, что целые народы успевают появиться на свет и прекратить свое существование, поэтому мы их не замечаем, однако это так, что нетрудно эмпирически продемонстрировать, если внимательно изучить, например, отложения в дельте Нила или же в Арголиде. В самом деле, тогда окажется, что весь нижний Египет, по сути, возник из ила, который несет великая река, а Аргос, по преданию, во времена Троянской войны был болотистым, тогда как Микены процветали. Ныне же холм, на котором расположены Микены, высох, тогда как долина Аргоса весьма плодородна (352a10–15). Правда, замечает далее Аристотель, эти природные изменения и катаклизмы указывают лишь на локальные изменения в разным местах мира, в то время как сам космос остается неизменным, ведь он неизмеримо больше земли (352a26–30)4. Эллинистические философы, в особенности перипатетики, существенно развили эту теорию. Например, согласно Варрону (О земледелии 2.1.3–5), «…независимо от того, было ли начало рождения животных, как думали Фалес Милетский и Зенон Китийский, или же никакого начала не было, как считали Пифагор Самосский и Аристотель из Стагиры, человеческая жизнь необходимо должна была постепенно (gradatim) распространяться с незапамятных времен (a summa memoria) до наших дней, как пишет Дикеарх, и самый ранний этап был естественным (naturalem), когда люди жили лишь тем, что неизменно и непринужденно давала земля. От этого этапа они перешли к следующему, пастушескому (pastoriciam) <…> Наконец, на третьем этапе от пастушеской жизни они перешли к земледельческой (a vita pastorali ad agri culturam), сохранив многое из того, чего они достигли на предыдущих этапах, и затем в течение длительного времени продвигались (processerunt) на этом этапе до тех пор, пока не достигли нашего времени».
Нечто подобное пишет и неоплатоник Порфирий в трактате О воздержании (4.2.1–9), также соглашаясь с тем, что на каждом из этапов человеческой истории люди, наиболее преуспевшие в полезных, нужных или просто прекрасных делах, по праву считались мудрецами. Приведу, наконец, еще одно свидетельство, в полной мере раскрывающее смысл этой теории (Ватиканский кодекс 435; Плутарх или Цецилий, Римские апофтегмы, Hermes 27 [1892] 119.37–120.26 Arnim): «Древние римляне, о мой славный друг Себосис, не желали казаться мудрецами, поэтому они не стремились приобрести эту репутацию мастерскими речами или проницательными и убедительными речениями (апофтегмами), подобными тем, что изрекали некоторые эллины — тем, которым затем верить начали больше, чем оракулам: “ничего сверх меры”, “следуй богу”, “береги время”, “познай себя”, “поручишься — жди беды” и тому подобным, возможно, и полезным для тех, кто им следует, а также приятным и привлекательным благодаря краткости и красоте слога. Напротив, Дикеарху они вовсе не казались мудрыми мужами, так как древние не “преследовали мудрость” одними лишь словами. Мудрость в те времена, как он думал, была связана со свершением (ἐπιτήδευσις) добрых дел, и лишь со временем было развито искусство произнесения публичных речей. Теперь каждый, говорящий убедительно, считается великим философом, в древности же таковым считался лишь добродетельный человек, даже если он и не занимался составлением замечательных публичных речей. Ведь они [древние] не спрашивали, следует ли заниматься публичными делами в городе (заниматься политикой, πολιτευτέον) и как именно, а просто подобающим образом вели городскую жизнь (ἐπολιτεύοντο), [и не спрашивали,] следует ли создавать семью, но женились как положено и совместно жили со своими женами. Таковы, продолжает он, дела мужей и свершения мудрецов, а составление апофтегм — это пошлое занятие. Мне кажется, что твои праотцы были именно такими. Они стремились быть добрыми и достигали этого на деле, отнюдь не действуя в соответствии с теми краткими и благозвучными речениями, что придуманы ради того, чтобы показать свою исключительность, — и даже не знали о них. Каждый раз исходя из практических соображений (λογισμοῖς), они использовали для этого слова, подходящие случаю, пусть и не специально придуманные краткие изречения, но все же хорошие, если рассмотреть их смысл, не обращая внимания на слог, а также если учесть их полезность в конкретных случаях».
Однако кто эти предшественники и учителя современного человечества? Эллинистический историк Мегасфен в сочинении Об индусах полагал, что «все, сказанное древними о природе, было уже ранее высказано неэллинскими философами, отчасти индийскими брахманами, отчасти так называемыми сирийскими евреями». Это изолированное свидетельство сохранил нам раннехристианский философ Климент Александрийский (Строматы 1.72.4), который и сам, с опорой на «пифагорейца» Филона и «перипатетика» Аристобула, во всех подробностях доказывал, что носителем этой «высшей мудрости» был еврейский народ5.
Египетский («герметический») след в этой традиции можно возвести непосредственно к Платону (Федр 274с–275b)6, однако развитие идея получила в неоплатонизме, после Плотина и, особенно, Ямвлиха, а в позднеантичной традиции, в частности, в глазах средневековых греческих, сирийских и арабских теологов ключевой носитель египетской мудрости Гермес стал не только египетским планетарным божеством, но и «пророком». Именно так пишет о нем христианский сирийский писатель девятого века Феодор Абу Курра. По его словам, именно Гермеса следует считать своего рода универсальным учителем человечества, так как он жил задолго до возникновения всех известных ныне религий. В коранической традиции эта фигура соотносилась с пророком Идрисом, а в иудейской — с Енохом. Если отвлечься от неизбежных в данном случае вариаций, в их представлении Гермес-Идрис-Енох был таинственным путешественником, лично посетившим все небесные сферы и передавшим знание о них людям, а значит перипатетическая философия и астрономия Птолемея переставали, в соответствии с такими воззрениями, быть греческими изобретениями, но возводились к незапамятным временам.
Переводу первых четырнадцати трактатов Герметического корпуса, над которыми флорентийский платоник Марсилио Фичино начал работать в 1463 году, предшествовал интерес к фигуре Гермеса со стороны почти всех за редким исключением средневековых философов, от Фомы Аквинского до Томаса Брадвардина. Можно без преувеличения утверждать, что следующее после Фичино столетие стало наиболее «герметическим» в истории западноевропейской мысли, что отражают два издания греческого текста Герметического корпуса в 1554 и 1574 годах, новый перевод герметики Франческо Патрицы (1591), монументальные комментарии Лефевра д’Этапля (1494), Франческо Джоджи (1625 и 1536), Ганнибала Росселя (1580) и других филологов, философов и теологов, но более всего опусы Роберта Фладда (1574–1637) и Михаэля Майера (1568–1622). Лишь после уничтожающей филологической критики Исаака Казобона (1559–1614) и доктринального анализа Марена Мерсена (1588–1648), Пьера Гассенди (1592–1655), Ренэ Декарта (1596–1650) и других философов семнадцатого века, герметика довольно быстро была вытеснена на окраину научной и философской мысли, сохранив, разумеется, свою привлекательность в качестве «оккультной науки» для менее скрупулезных умов.
Но вернемся к Фичино. «Историческую» перспективу он очерчивает в предисловии к своему переводу «Пимандра», также отмечая, что Гермеса следует считать не только философом и теологом, но и пророком, предсказавшим приход христианства. Внуком Меркурия [Гермеса] Трисмегиста он называет старшего Меркурия, который в свою очередь был внуком астролога Атланта, брата естествоиспытателя Прометея, процветавших тогда, когда родился Моисей. Этот Гермес обучил теологии Орфея, за ним последовал Аглаофем, потом Пифагор с Филолаем, так что этот последний стал учителем великого Платона. Впоследствии Фичино исключил Филолая и поставил перед Гермесом Зороастра, однако сути дела это не меняет [Copenhaver, 1992: xlviii]7. Главная мысль остается неизменной: все новое — это по-прежнему хорошо забытое старое.
2.
Бруно ходит среди этих мыслителей, охотно используя наиболее популярные интеллектуальные течения своего века для развития собственных представлений о мире и человеке, поэтому нас не должно удивлять то, что ключевую идею Бруно также можно возвести к «древним теологам», таким как орфики. Уникальное для всей античной доксографии свидетельство об этом возникает в контексте обсуждения космологических представлений Гераклида Понтийского. Этот ученик Платона, известный своими оригинальными астрономическими воззрениями [Афонасин, 2020: 58], настаивал на беспредельности космоса (ἄπειρον, Стобей, Антология 1.21.3а), а каждую звезду считал отдельным миром, причем, по сообщению Аэтия, такого же мнения придерживались и орфики8. Это изолированное свидетельство присутствует в доксографическом своде в контексте обсуждения вопроса о том, какова по природе материя звезд — огненная она, воздушная, эфирная или, скажем, металлическая? Гераклиду (и пифагорейцу Океллу) доксограф приписывает теорию о том, что Луна представляет собой «землю, окруженную мглой (ὁμίχλη)» (Аэтий 2.25). Учитывая то, что известно о Гераклиде (Аэтий 3.2), «мгла» — это не только облака, но и различные небесные явления, вроде гало и комет, вполне в духе метеорологии Аристотеля. Ну и конечно все доксографы согласны с тем, что каждый из этим миров управляется каким-либо божеством (Цицерон, О природе богов 1.13.34, Минуций Феликс, Октавий 19.9).
Разумеется, это не означает, что источником великого прозрения Бруно, также считавшего, что уникальный малый космос на каждом из небесных тел непрерывно воссоздается тем или иным божеством, образуя динамичную и разнообразную вселенную, заселенную самыми разными существами, обитающими во всевозможных мирах, непременно были «prisci theologi», наиболее почитаемыми из которых, безусловно, считались орфики. Однако точно так же не был им и опирающийся на древних астрономов Коперник, который, по собственным словам Бруно, был скорее «математиком», нежели «естествоиспытателем», из-за чего ему так и не открылись «тайные глубины», которые одни лишь позволяют ученому раз и навсегда отказаться от «пустых и бесплодных спекуляций» (vane inquisitioni, La cena de le ceneri) [Bruno, 2018: 28; Бруно, 2019: 53–54]. Но все же, как пишет Бруно тут же, именно Коперник стал тем «посланником небес», который возвестил восход «солнца истинной древней философии», так что античная астрономическая мысль, появившаяся еще до всевозможных сфер, эпициклов, деферентов и эквантов, вдруг обрела в устах Ноланца новое рождение.
«Землю, нашу кормилицу, он расположил вертящейся на оси, простирающейся через весь мир (ἰλλομένην δὲ τὴν περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον), и сделал ее хранительницей и творцом дня и ночи — древнейшим и почтеннейшим из божеств, когда-либо рожденных во вселенной (ἐντὸς οὐρανοῦ)», — так пишет Платон в своем великом космологическом трактате (Тимей 40b8–с3). Ему вторит, правда, из собственных и несколько отличных соображений Гераклид (Аэтий 3.13), тогда как Филолай полагает, что Земля «совершает обороты вокруг [центрального] огня по наклонной орбите, подобной той, по которой движутся Солнце и Луна» (там же). Разумеется, философ XVI века лучше подготовлен к принятию теории о движениях Земли математически и идеологически, однако неизменным остается увлечение Бруно различными теориями о небесном путешествии души, сближающими его с платонизмом, и тогда небесное тело («другая земля») представляется естественной целью данного путешествия, а Платон с его топографией этой «другой земли», подробно описанной в Федоне (109а сл.)9, — естественным источником. Напомним, Сократ в этом диалоге сначала настойчиво замечает, что путь в Аид душа не в силах пройти в одиночку. Именно поэтому ей свыше предоставляется проводник, и за этим гением разумно последовать, даже если путь, по которому он предложит пойти, сложен и неприятен, так как в противном случае душе предстоит долго блуждать в одиночестве, «во всяческой нужде и стеснении, пока не исполнятся времена, по прошествии коих она силой необходимости водворяется в обиталище, коего заслуживает» (108с, пер. С.П. Маркиша). С древнейших времен проводником душ в Аид считался Гермес, но также и Дионис, как это показано на орфической вазе из Толедо. Кроме того, как широко известно, служители орфического культа снабжали своих приверженцев специальными подробными инструкциями — так называемыми золотыми табличками10.
Что это за «земля»? Как и у Бруно (и в отличие от многих современных ему астрономов, включая Коперника), она свободно висит в пространстве, не нуждаясь ни в какой опоре или поддержке, вроде воздуха. Так что, если теперь платоновский аргумент о том, что занимающая центральное положение земля никуда не падает в силу изотропии пространства, дополнить средневековой герметической формулой, согласно которой центр вселенной везде, а периферия нигде, то он отлично подойдет для миров Бруно.
Далее в диалоге Сократ отмечает, что подлинную землю мы не видим лишь потому, что живем подобно рыбам, которые живут в море, лишь иногда высовывают голову и видят иной мир, отличный от их мира. Аргумент во многом напоминает знаменитый миф о пещере из Государства (514а–517а). «Но если бы кто-нибудь все-таки добрался до края или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир» (109е), похожий на разноцветный мяч (то есть додекаэдр, одно из знаменитых Платоновых тел), сшитый из двенадцати кусков кожи, играющий яркими и чистыми цветами, пурпурным, золотистым, белоснежным и др. Именно такой должна представляться, согласно Сократу, «иная земля» каждому, кто сможет взглянуть на нее со стороны. Присмотревшись, можно увидеть, что там также цветут сады, текут реки, и обитают живые существа, в том числе люди, вот только реки там чисты, природа совершенна и не подвержена тлену, а прекрасный климат, сочетающий зной и прохладу в нужной пропорции, обеспечивает здоровье жителей и продляет их жизнь (111a–b). Вместе с Кингсли [Kingsley, 1995: 106–107] предположу, что Сократ здесь представляет себе образ «иной земли», а не просто идеализированный образ нашей, как это часто утверждается.
Как бы там ни было, после Платона до Бруно немногие пытались посмотреть на Землю со стороны, обнаружить себя «на Солнце, Луне и других светилах, как если бы люди были их первоначальными обитателями» [Бруно, 2019: 56]. В третьем диалоге «Пепельной трапезы», в контексте обсуждения видимых размеров удаленных светящихся тел, он проводит мысленный эксперимент, снабжая свое рассуждение рисунком, сначала описывая вид Земли по мере подъема наблюдателя над ее поверхностью, а затем, правда уже на примере Луны, вид небесного тела по мере удаления от него на большое расстояние [Бруно, 2019: 83–85]. Другие земли представляются Бруно похожими на нашу (хотя и не обязательно столь же удобными для жизни), тогда как звезды — подобными Солнцу [Бруно, 2019: 89]. Следом он переходит к обсуждению вышеупомянутого места из Федона (109а сл.) Платона и соответствующих разделов Метеорологики Аристотеля [Бруно, 2019: 92]11. Действительно, учитывая накрывающие нас воздушные массы, мы, обитающие на поверхности Земли, в действительности должны считаться живущими не «на ней», а «в ней», окруженные воздухом подобно рыбам в воде. Не имея возможности покинуть свою стихию, мы не в силах подняться даже в более чистое воздушное пространство, где обитают «более счастливые животные»,12 и вынуждены довольствоваться лишь своим воображением, которое помогает нам представить то «единое небо, называемое пространством и лоном, в котором имеется много звезд», так что «Луна, Солнце и другие бесчисленные тела держатся в этой эфирной области так же, как и Земля, и не нужно верить в другое основание, на которое опирались бы эти великие животные, участвующие в составе мира, который является истинным субъектом и бесконечной материей, бесконечной божественной и действующей силой» (пер. Я.Г. Емельянова) [Бруно, 2019: 101, ср.: 107]13. «Их орбиты, — продолжает Бруно, — намного большие, не видны», но узнать об этом можно лишь путем длительных наблюдений, «которые не начаты и не продолжаются, так как в такие движения никто не верил, не исследовал их и не предполагал» [Бруно, 2019: 108]14. И снова Бруно повторяет, что виновата в этом Аристотелевская наука, тогда как Гераклит, Демокрит, Эпикур, Пифагор, Парменид и Мелисс об этом догадывались. Нужно лишь правильно прочитать дошедшие до нас фрагменты досократиков, чтобы понять, как именно все эти бесчисленные тела движутся в беспредельном эфире15.
3.
«Если бы Платон, решивши написать о богословии афинян, затем почувствовал отвращение к нему и вменил им в вину все эти сказки о ссорах между богами и песни о том, как одни боги совокупляются со своими детьми, а другие пожирают их, и как дети мстят за это своим отцам, а братья — братьям, и все тому подобное; если бы, говорю я, Платон взял и открыто осудил все эти истории, то он, как мне кажется, сам спровоцировал бы афинян на дурные дела, и они убили бы его так же, как ранее Сократа. Однако вместо того, чтобы выбрать жизнь в ущерб истине, он нашел способ сохранить как жизнь, так и истину. Выразив мнение афинян устами Евтифрона, человека хвастливого и глупого, к тому же совершенно не сведущего в богословии, устами Сократа он говорил сам, в типичной для него манере рассуждая и опровергая других» (Нумений, фр. 23 des Places, Евсевий, Приготовление к Евангелию, XIII, 4, 4–5, 2).
Так платоник Нумений из Апамеи (конец II века) в своей книге «О позорном, согласно Платону» (Περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι ἀπορρήτων) описывает позицию афинского философа по отношению к полисной религии16. Ноланский философ, как мне кажется, полностью бы с ним согласился. Для нас же важно отметить, что, как и в предыдущем случае с космологией, методологический принцип «спасения мифов» также естественнее всего возвести к орфике17.
В своем итальянском диалоге «Изгнание торжествующего зверя» (Lo spaccio della bestia trionfante) Бруно стремится выполнить именно такую задачу. Здесь он, по словам Н. Ордине, предварительно «освободив Землю от оков геоцентризма, а Вселенную — от ограничивающих ее пределов… теперь намеревается воссоединить (religare) человека с человеком посредством создания такого культа, который благоприятствовал бы сплоченности общества» и в то же время освобождал его от «разрушительного безумия педантов-теологов» [Ордине, 2008: 155]. Он не стремится «спасти явления». Его задача — радикальная их реформа и полное обновление. Н. Ордине подробно исследует контекст создания диалога, полагая, что он стал откликом автора на грозные религиозно-политические события современности, обсуждаемые также в «Мемуарах» хорошего знакомого Бруно дипломата Мишеля де Кастельно и в «Рассуждениях о бедствиях нашего времени» поэта Ронсара [Ордине, 2008: 157 сл., особ. 161].
Примечательно, что, хотя по замыслу самого Бруно, новая космология не находит почти никакого отражения в диалоге, центральной для него оказывается орфическая идея «поглощения» мира Зевсом и последующего «воссоздания» его в каждой отдельной частице макро и микромира. Зевс (Юпитер), говорит Бруно в предисловии к диалогу, «изображен у нас управителем и двигателем неба, чтобы дать понять, что в каждом человеке можно видеть некий мир, некую вселенную, где Юпитер, вседержитель, символизирует собою свет разума, который судит и правит, который раздает приказания и места добродетелям и порокам в этом чудесном здании» (пер. А. Золотарева) [Бруно, 1997: 25]. Юпитер управляет духовной субстанцией, началом, которое обеспечивает созидательное и согласованное действие, подобно тому, как это делает кормчий на корабле или глава домохозяйства в доме [Бруно 1997: 21]. Мы видим, что Бруно хорошо знаком платонический постулат о субстанциональности высшей части души, несводимости ее лишь к телесной связности, «которая через разложение целого обращается в ничто вместе со своим составом» (там же: 23).
Именно она подобна фонарю, расположенному «на корме нашей души», ведь с ее помощью всякое разумное существо начинает свое духовное возрождение, изгнав пороки, попирающие в нас божественное начало18.
Итак, Зевс (Юпитер) созывает небесный совет для того, чтобы вынести на нем решения, которые привели бы к морально-правовой реформе на небесах, способствующей последующему всеобщему улучшению нравов19. Событие это он решил приурочить к годовщине победы над Гигантами. Эта победа олимпийских богов над первородными стихийными силами, приведшая к более упорядоченному обществу, описывается как Гесиодом (Теогония 881–885) [см.: Radcliffe, 2018], так и в орфических поэмах, например, в так называемой теогонии Иеронима20.
Когда Уран низверг своих детей в Тартар, это вызвало недовольство их матери Геи. По ее наущению их сын Кронос, оскопив своего отца, занял место верховного правителя. Но история повторилась: сын Кроноса и Реи Зевс также низверг своего отца, выйдя победителем в десятилетней битве как с самими Титанами, так и с пришедшими к ним на помощь Гигантами. Орфический характер этой истории подтверждает и последующее развитие мифа — растерзание Титанами сына Зевса Диониса Загрея, испепеление их Зевсом и создание людей из пепла Титанов, смешанной с кровью бога (Павсаний, Описание Эллады 8.37.5). В эллинистической и римской литературе битва богов с порождениями Урана и Геи Титанами (титаномахия) обычно уже отождествляется с последующей за ней битвой олимпийцев с Гигантами (гигантомахией), поэтому Бруно не различает этих мифологических событий. Ему важен их смысл [см.: Бруно, 1997: 46, и др.]. По точному замечанию Ордине [Ордине, 2008: 170], «годовщина отсылает к событиям, имеющим огромное сходство с религиозными войнами», так как «гиганты воспринимаются как надменные бунтовщики, дерзнувшие нарушить существующий порядок и ввергнуть все в хаос». Не случайно начиная с середины XVI века гигантомахия стала одной из центральных тем французской поэзии, в устах Ронсара олицетворяющая борьбу Генриха III с гугенотами. Точно так же и у Бруно «грамматики», стремящиеся «исправить испорченные законы и религии» (riformare le difformate leggi e religioni), в конечном итоге оказывают медвежью услугу как раз этим законам и религии, проверенное временем старое стремясь заменить ненадежным новым.
Именно поэтому, говорит Юпитер в диалоге, следует вернуться к старым добрым временам и нравам, для чего вернуть законам их былую власть, а «связующей силе» (la potenza di legare) общества, которой он считает религию, — ее былое величие. И совершенно в духе Платона — «зависть вне сонма богов», поэтому все высшие законы создаются на пользу людям, так как «человеческих установлений» для достижения этой цели недостаточно, и все, что делается, делается исключительно в интересах «республик». Но самое полезное для человека — это плоды его собственного труда, поэтому они, по словам Меркурия, заслуживают наибольшей похвалы, и поэтому все те, кто сводит дела религии к одной лишь вере (очевидно, лютеранской iustitia sola fide), необоснованно пренебрегает самым главным — тем, ради чего все делается, благом людей.[21] Посему главным вершителем правовой реформы, затеянной Юпитером, становится Усердие (Fatica), воплощение производительного труда, что, конечно, возвращает нас к самому началу статьи и рассуждению Аристотеля об истоках практической мудрости, ведь если боги дали человеку все средства для избавления от дикости и достижения цивилизованной жизни, то судьба его находится в прямом смысле «в его руках» [Бруно, 1997: 160 сл.]. Именно поэтому речь Фортуны представляется кульминацией диалога. Переосмысливая миф из десятой книги Государства Платона, Бруно рисует себе следующую картину распределения жребиев. Какой жребий обычно извлекает рука Фортуны из общей урны? Обычно дурной. Но почему? Да потому, что благие начала чрезмерно жадничают, так что Умеренность кладет лишь пару жребиев, Мудрость — пять или шесть, а Истина вообще один (и вообще ничего не положила бы, если бы было можно!). Что же удивительного в том, что «среди сотен тысяч имен, положенных в урну, избирающей руке в итоге попалось лишь одно из этих восьми или десяти»? Почему бы не сделать так, говорит Фортуна, чтобы мудрецов было больше, чем глупцов, добродетельных больше, чем порочных, а истина открылась как можно большему числу людей? Иначе получается, что щедрой рукой раздавая жребии врачей и земледельцев, музыкантов и моряков, богиня крайне редко снабжает их любознательностью и трудолюбием, талантом и мужеством. Но ведь все должно быть наоборот, и лишь тогда избравший жребий врачевателя человек станет подлинным мастером своего дела, кормчий безопасно доставит пассажиров и грузы в порт, а пожелавший стать правителем, невзирая на все соблазны, останется порядочным человеком. Иначе, говоря словами Платона, — «это вина избирающего, бог не виновен» (Государство 617е), или, в формулировке Бруно: «Ошибка не в том, что был избран государь, а в том, что им был избран негодяй»22.
1 Здесь и далее стандартная рубрикация классических авторов приводится по TLG [Thesaurus Linguae Graecae]. Переводы мои, если не указано иное.
2 «Ведь следует знать, что люди гибнут разными способами — от болезней и голода, из-за землетрясений и войн, или по другим причинам, но, кроме того, из-за более ужасных катаклизмов, подобных тому, который случился, как говорят, во времена Девкалиона...». Далее Филопон рассказывает историю о мифическом потопе, в результате которого спаслись лишь немногие. Так, Дардана смыло потоком на острове Самофракии и унесло туда, где находится Троя (цитируется Гомер, Илиада 20.215–218).
3 Эту идею подробно развил ученик Аристотеля Дикеарх (фр. 36–38 Mirhadi), который также считал, что мудрость в те века была связана со свершением добрых дел и различными практическими познаниями, в основном, полезными для полиса. По его мнению, мудрецы «были просто разумными людьми и законодателями» (Диоген Лаэртий, Жизни философов 1.40).
4 Бруно подробно пересказывает все это в заключительном диалоге «Пепельной трапезы», дополняя рассуждения Аристотеля современными ему климатическими наблюдениями [Бруно, 2020: 114–116].
5 Подробнее об этой традиции [см.: Ridings, 1995]. О влиянии Филона на Климента [см.: Hoek, 1988].
6 По словам Платона, до Сократа дошла «молва» о древнем египетском божестве, символом которого была птица ибис. Обычно Платон видоизменяет традиционные мифы, приспосабливая их к собственным целям, либо создает новые (подробнее о мифотворчестве Платона [см.: Tofighian, 2016], а также комментированное собрание мифов из его диалогов: [Partenie, 2004]), однако в данном случае он специально подчеркивает, причем дважды, «историчность» сообщения. Неоплатоник Гермий (схолии 2 и 45 к Федру 99.4–8; 176.5–15 [Litwa, 2019]), указывает на то, что, как и «Сивиллы», «Гермесы» не раз приходили на землю, причем этот последний в Египет приходил трижды, потому и называется Трижды Величайшим. Так что, заключает Гермий, «Платон приводит исторические сведения, так как Гермес… жил в этом мире трижды как философ и в третий раз сам сообщил об этом». Подобный ход рассуждений типичен для античной и средневековой литературы и не исключено, что эта популярная теория о тройном воплощении Гермеса восходит в конечном итоге к Платону.
7 О Фичино [см.: Howlett, 2016]. О роли «древних теологов» в философии эпохи Возрождения [см.: Heiser, 2011].
8 «Гераклид и пифагорейцы считают каждую звезду [=планету] космосом, который включает в себя землю, воздух и эфир в беспредельном эфире. Это мнение содержится также в орфических писаниях. Ведь и они делают космосом каждую звезду» (Аэтий, Мнения философов 2.13.15, текст и комм. [Mansfeld, Runia, 2020: 905, 914]).
9 Текст и общий анализ мифа: [Partenie, 2004: 40 sq.; Tofighian, 2016: 111 sq.]. Некоторые авторы прямо называют миф орфическим и пифагорейским [Kingsley, 1995: 109], другие стремятся прочитать его в контексте философии самого Платона [Pender, 2012].
10 О табличках [см.: Graf, Johnston, 2007; Bernabé, Jiménez San Cristóbal, 2008; Edmonds, 2011]. Перевод табличек, иллюстрацию и релевантную библиографию см. в моей предыдущей работе: [Афонасин, 2023]. Платон подробно обсуждает этих орфических прорицателей в Государстве 364b-e.
11 См.: Аристотель, Метеорологика 340 b, 351а, и другие места, где Аристотель проводит аналогии между явлениями природы и физиологией животных. Бруно также неоднократно подчеркивает, что каждый мир — это одушевленный живой организм [Бруно, 2020: 115].
12 То есть боги. Эту идею Бруно развивает со ссылкой на комментатора Аристотеля Александра Афродисийского, который полагал, что гора Олимп настолько возвышается над нашим миром, что там воздух неподвижен и пепел жертвенных животных остается нетронутым многие годы. Это поверье было распространено в античности, и авторы эпохи Ренессанса нередко его повторяли. См. комментарий Х. Гатти к этому месту диалога: [Bruno, 2018: 266].
13 Сама вселенная, как неоднократно подчеркивает Бруно, едина, бесконечна, и неподвижна, не возникла и не может исчезнуть, включает в себя все противоположности и т.д. См., например, начало пятого диалога «О причине, начале и едином» (De la causa, principio e uno) [Бруно, 2020: 196], где это подробно формулируется в духе поэмы Парменида (фр. 8 DK), а также «О бесконечности, вселенной и мирах» (De l’infinito, universo et mondi) [Бруно, 2020: 224, 228 и др.].
14 Другие планеты же, соответственно, не видны, так как «незаметны для нас вследствие большой отдаленности их, или вследствие их небольшой величины» по сравнению со звездами, вокруг которых они движутся по своим орбитам («О бесконечности, вселенной и мирах» [Бруно, 2020: 254]).
15 Последующее рассуждение Бруно о роли эфира в движении тел, конечно же, весьма архаично, но до Ньютона оно и не могло быть правильным. Что же касается непонимания влияния Луны на приливы, то не понял этого и Галилей. Бруно последовательно развивает идею целевой причины, говоря о стремлении всех тел к собственному благу (что естественно, если все они живые организмы), без каких-либо внешних двигателей. Наряду с Платоном, Аристотелем, Плотином и Николаем Кузанским, Орфей, Эмпедокл и Пифагор выступают в качестве источника его представлений о первых элементах и уме в «О причине, начале и едином» [Бруно, 2020: 151, 153, 204], Демокрит и Эпикур, предсказуемо, — о природе материи [Бруно, 2020: 166, 240), упоминаются в разных местах и контекстах также Анаксагор, Сократ [Бруно, 2020: 175; Бруно, 1949: 519], стоики [Бруно, 2020: 176, 232], Ксенофан, Пиррон и академики [Бруно, 1949: 506] и др. О месте атомистов в философии Бруно: [Визгин, 2007].
16 В современном антиковедении дискуссия по этому поводу задана великолепными трудами Люка Бриссона [Brisson, 2000; 2008]. Из более новых работ особенно значима вторая часть книги Доминика O’Мары [O’Meara, 2017]; рецензия: [Афонасина, 2018]. Представления Платона об «идеальной религии для идеального полиса» подробно рассмотрены в серии работ Анны Афонасиной [Афонасина, 2020; 2022]. Последнее из этих исследований посвящено трансформации образа Диониса, прочитываемое в орфическом и мистериальном контексте.
17 Лучший (и древнейший) пример — это, конечно, Папирус из Дервени, в котором неизвестный комментатор орфических стихов стремится объяснить подлинный смысл инцеста Зевса с его матерью, сестрой и дочерью. Перевод текста папируса, комментарий и соответствующую библиографию см. в моих работах: [Афонасин, 2008; 2023].
18 Cр. [Бруно, 1997: 26], а также место из «О причине, начале и едином» [Бруно, 2020: 153]. Используемые им метафоры развивают миф из Федра в неоплатоническом ключе. Ср., например, Ямвлих (О душе, фр. 16 Finamore–Dillon): «Перемещение (φορᾶς) корабля зависит от совместных усилий рулевого и ветра, хотя необходимы также и другие [условия], без которых корабль не сдвинется, однако рулевой и ветер сами по себе представляют собой важнейшие причины, без которых движение невозможно. Так же и душа использует все тело и управляет его действиями, используя тело в качестве инструмента (ὄργανον) или транспортного средства (ὄχημα), однако она способна и на собственные движения, и свободные души, отделившиеся от сложного живого существа, осуществляют (ἐνεργοῦσιν) сущностную жизнь души, боговдохновенную (ἐνθουσιασμῶν), нематериально разумную (τῶν ἀύλων νοήσεων), словом, ту, что связывает нас с богами». Ср. также следующее рассуждение Нумения (фр. 18, Евсевий, Приготовление к Евангелию XI, 18, 24): «Кормчий корабля, плывущего по волнам, возвышается над кормой и управляет судном со своего места, хотя его взор и ум устремляются ввысь, в небесный эфир; определяя свой курс по небу, он плывет внизу по морю. Точно так же и демиург, прочно связав материю гармонией, так, чтобы она не смогла разболтаться и заблудиться, сам располагается над ней, как в корабле над водой. Правя гармонией, он направляет ее с помощью идей, и вместо неба созерцая высшего бога, который притягивает его взор, обретает способность суждения (κριτικὸν) от созерцания, а устремление (ὁρμητικὸν) — от своего желания».
19 Идея такого небесного совета встречается еще в месопотамской литературе, где бог Ану созывает собрание богов, дабы они могли «спросить друг друга» и тем самым разрешить спорные вопросы [Франкфорт и др., 1984: 131–132]. Но в данном случае мы должны вспомнить миф из Политика Платона, где рассказывается о «кормчем вселенной», который, завершив свои дела «отпустил кормило» и ушел на свой «наблюдательный пост», предоставив космосу возможность вращаться по велению судьбы и по собственному желанию (τότε δὴ τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἴακος ἀφέμενος, εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε καὶ σύμφυτος ἐπιθυμία, 272е). Так же, говорится далее, поступили и все остальные боги. Но космический «автопилот» работал плохо, в результате космос, «увлекаемый противоположными стремлениями» и «сотрясаемый мощным внутренним сотрясением» направился по гибельному пути в сторону «древнего беспорядка». Поэтому-то, видя такое положение дел, высшее божество, оно же — метафора главенствующей части души человека — «вновь берет кормило и направляет все больное и разрушенное по прежнему свойственному ему круговороту».
20 Орфика, фр. 82 Bernabé (57+58 Κern, Афинагор, В защиту христиан 18, 6): «Небо (Уран) совокупилось с Землей (Геей) и произвело дочерей — Клото, Лахесис и Атропос (Κλωθώ Λάχεσιν Ἄτροπον), и сыновей — Сторуких (Ἑκατόγχειρας) Котта, Гига и Бриарея (Κόττον Γύγην Βριάρεων), а также киклопов Бронта, Стеропа и Арга (Βρόντην Στερόπην Ἄργην). Сковав, он [Уран] низверг их в Тартар, узнав, что его собственные отпрыски лишат его власти». И в другом месте (фр. 83 Bernabé, 57 Κern, Афинагор, В защиту христиан 18, 6): «Госпожа Земля (Гея) породила Небесных юношей («Уранидов»), которых также именуют Титанами, так как они отомстили огромному звездному Небу (Урану)». Дальнейшая история по сообщению христианского апологета II века развивалась так (фр. 84 Bernabé, 58 Kern, Афинагор, В защиту христиан 20, 3): «… Дела же их, как им кажется, они описали в точности — и как Кронос отсек половой член своего отца и сбросил его с колесницы, и как стал детоубийцей, поглощая своих детей мужского пола, и как Зевс, сковав своего отца, низверг его в Тартар, подобно тому, как Уран своих сыновей, и как боролся за власть с Титанами».
21 Эта тема настолько важна для Бруно, что в другом своем итальянском диалоге «Кабала Пегаса» он еще раз специально подчеркивает, что лишь труд и стремление к знанию способны вывести человека из звериного состояния, культура должна преодолеть природу (перевод: [Бруно, 1949: 505]; комментарий: [Ордине, 2008: 195 сл.]).
22 Идея восходит еще к мифу Протагора из одноименного диалога Платона, где великий абдерит рассуждает о том, что дарованная людям богами практическая премудрость (ἡ ἔντεχνον σοφία) и ремесленное искусство (ἡ δημιουργικὴ τέχνη) недостаточны для того, чтобы они жили мирно и счастливо: «Тогда Зевс, опасаясь, как бы не вымер весь наш род, послал Гермеса принести людям чувства стыда (αἰδῶ) и справедливости (δίκην), дабы стали они основами порядка (κόσμοι) для городов и теми узами (δεσμοί), что порождают дружбу» (Протагор 322с).
About the authors
Eugene V. Afonasin
I. Kant Baltic Federal University
Author for correspondence.
Email: afonasin@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0623-0574
D. Sc. in Philosophy, Professor, Higher School of Philosophy, History and Social Sciences
Russian Federation, KaliningradReferences
- Afonasin E.V. Papirus iz Derveni [The Derveni Papyrus]. ΣΧΟΛΗ (Schole). 2008. Vol. 2. P. 309–336.
- Afonasin E.V. Teksty Aristotelya i ego blizaishikh posledovateley [The Works of Aristotle and his School]. Aristotel’: idei i interpretatsii [Aristotle: Ideas and Interpretations], ed. by M.S. Petrova. Moscow: Akvilon Publ., 2017. P. 13–171.
- Afonasin E.V. Heraclide Pontijskij. Fragmenty i svidetel’stva [Heraclides Ponticus. Fragments and Testimonia]. St. Petersburg: RKHGA Publ., 2020.
- Afonasin E.V. Orphica I: ot papirusa iz Derveni do orficheskikh zolotykh tablichek [Orphica I: from the Derveni Papyrus to the Orphic Gold Tablets]. ΣΧΟΛΗ (Schole). 2013. Vol. 17. P. 87–119.
- Afonasina A.S. Kosmologiya i politika v pozdnikh ravotakh Platona [Cosmology and Politics in Plato’s Later Works]. ΣΧΟΛΗ (Schole). 2018. Vol. 18. P. 721–734.
- Afonasina A.S. Ideal’naya religiya dlya ideal’nogo gosudarstva [Ideal religion for an ideal state]. Idei i idealy [Ideas and Ideals]. 2020. Vol. 12, Part 2. P. 330–350.
- Afonasina A.S. Kak Dionis popal v dialogi Platona i zanyal tam vazhnoe mesto? [How Dionysus Got into Plato’s Dialogues and Occupied such an Important Place in Them?]. Intellektual’nye traditsii v proshlom i nastoyashchem [Intellectual Traditions: Past and Present]. 2022. Issue 6. P. 233–252.
- Bruno G. Dialogi [Dialogues], transl. from Italian. Moscow: Political Literature Publ., 1949.
- Bruno G. Izgnanie torzhestvujuschego zverya [The Expulsion of the Triumphant Beast], transl. from Italian by A. Zolotarev. Samara: Agni Publ., 1997.
- Bruno G. Izbrannoe [Selected Works], transl. from Italian. Samara: Art-Lait Publ., 2020.
- Vizgin V.P. Ideya mnozhestvennosti mirov [Many-world Theory]. Moscow: LKI Publ., 2007.
- Ordine N. Granitsy teni. Literatura, filosofiya i zhivopis’ u Giordano Bruno [The Borders of Shadow. Literature, Philosophy and Arts in Giordano Bruno], transl. from Italian by A. Rossius. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2008.
- Frankfort H., Frankfort H.A., Wilson J., Jacobsen Th. V preddeverii filosofii. Dukhovnye iskaniya drevnego cheloveka [Before Philosophy. The Intellectual Adventure of Ancient Man], transl. from English by T.N. Tolstaya. Moscow: Nauka Publ., 1984.
- Bernabé A. Poetarum epicorum Graecorum testimonia et fragmenta. Stuttgart: Teubner, 2004–2007. Pars. II. Fasc. 1 (2004), 2 (2005), 3 (2007).
- Bernabé A., Jiménez San Cristóbal A.I. Instructions for the Netherworld. The Orphic Gold Tablets. Leiden: Brill, 2008.
- Brisson L. Plato the Myth Maker. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Brisson L. How Philosophers Saved Myths: Allegorical Interpretation and Classical Mythology. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Bruno G. Opere italiane, a cura di Giovanni Aquilecchia, Nuccio Ordine, Nicola Badaloni. Milano: UTET, 2006.
- Bruno G. The Ash Wednesday Supper. A New Translation of “La cena de le ceneri” by H. Gatti. Toronto: University of Toronto Press, 2018.
- Copenhaver B. Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a new English translation. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Edmonds R. III. The “Orphic” Gold Tablets and Greek Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Finamore J., Dillon J. Iamblichus, De anima. Leiden: Brill, 2002.
- Gatti H. Essays on Giordano Bruno. Princeton: Princeton University Press, 2011.
- Gatti H. Giordano Bruno. Philosopher of the Renaissance. London: Routledge, 2017.
- Graf F., Johnston S.I. Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic Gold Tablets. London: Routledge, 2007.
- Heiser James D. Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century. Malone, TX: Repristination Press, 2011.
- Hoek A. van den. Clement of Alexandria and his use of Philo in the Stromateis. Leiden: Brill, 1988.
- Howlett S. Marsilio Ficino and His World. New York: Palgrave Macmillan, 2016.
- Kern O. Orphicorum fragmenta. Berlin: Weidmann, 1922 (repr. 1963, Dublin–Zürich, 1972).
- Kingsley P. Ancient Philosophy, Mystery, and Magic. Empedocles and the Pythagorean Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Litwa M.D. Hermetica II. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Mansfeld J., Runia D. Aetiana V: An edition of the reconstructed text of the Placita with a commentary and a collection of related texts. Leiden: Brill, 2020.
- O’Meara D. Cosmology and Politics in Plato’s Later Works. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Partenie C. Plato. Selected Myths. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Pender E. The Rivers of Tartarus: Plato’s geography of dying and coming-back-to-life. Plato and Myth. Studies on the use and status of Platonic myths, C. Collobert, P. Destrée, F. Gonzalez (eds.). Leiden: Brill, 2012. P. 199–233.
- Radcliffe G. Deviant Origins: Hesiod’s Theogony and the Orphica. The Oxford Handbook of Hesiod, C.L. Alexander, S. Stephen (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 225–242.
- Ridings D. The Attic Moses. The Dependency Theme in Some Early Christian Writers. Goeteborg: Goeteborg University Press, 1995.
- Thesaurus Linguae Graecae. TLG® Digital Library. URL: https://stephanus.tlg.uci.edu/canon.php (date of access: 25.07.2024)
- Tofighian O. Plato and philosophy in Platonic dialogues. London: Palgrave MacMillan, 2016.
- Yates F. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London: Routledge and Kegan Paul, 1964.