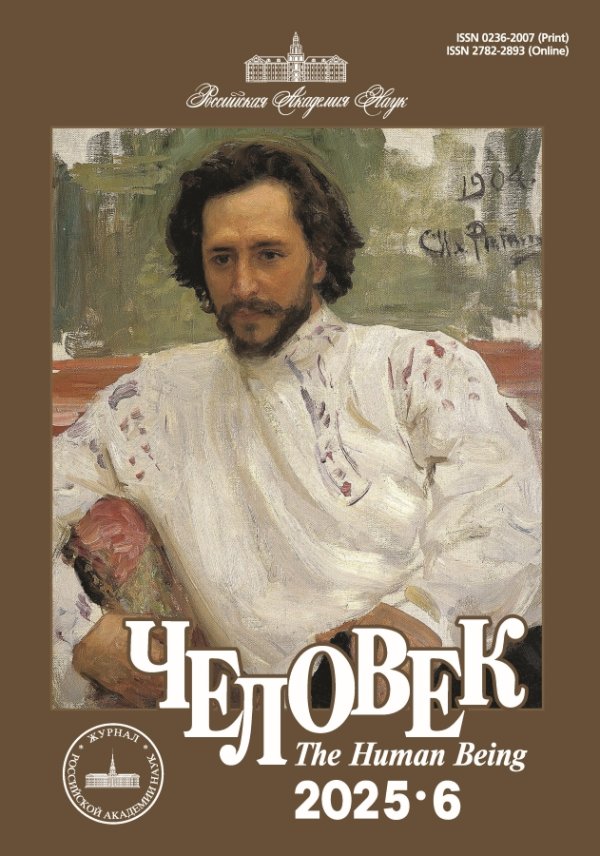Sociality and subjectivity in the soviet man project
- Authors: Tulchinskii G.L.1,2
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- Immanuel Kant Baltic Federal University
- Issue: Vol 35, No 2 (2024)
- Pages: 136-152
- Section: Symbols. Values. Ideals
- URL: https://medbiosci.ru/0236-2007/article/view/257166
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724020088
- ID: 257166
Full Text
Abstract
An attempt has been made to generalize the experience of the understanding the Soviet project of the new man, carried out in the 21st century. The proclaimed creation of a communist society implied not only the elimination of private property, the development of corresponding social relations. These radical transformations simultaneously formed a new consciousness among the participants in this process, required active actors. This radical anthropological experiment was very controversial both in its implementation and in its results. On the one hand, propaganda and the education system formed and transmitted a demand for an individual capable of independent creative actions. On the other hand, the actual practices of social life were regulated by strict control, which suppressed any independent initiative. As a result, the practices of control and corresponding social selection gave rise to a paradoxical combination of infantile irresponsibility and intolerance. Inability to negotiate, inability and unwillingness to build horizontal relationships has become established the experience of resolving all issues exclusively through the power vertical through requests, complaints and denunciations. Society has been stratified into two types of people that complement each other: those who have extremely little opportunity to independently organize their lives, and those who irresponsibly manage this human material. The analysis of the relationship between sociality and self-awareness uses materials from a large-scale socio-philosophical study carried out by S.A. Nikolsky, a number of socio-ethical ideas of A.A. Zinoviev, as well as a pragmasemantic approach, which allows us to consider meaning formation as a result of the interaction of contexts set by socio-cultural practices. The examination carried out shows that the Soviet experience provides a compelling lesson-warning about the consequences of the formalization of social relations. This is especially relevant in relation to the conditions of the modern situation, when socio-cultural practices in digital format reduce meaning-making to normative algorithms, “taming” subjectivity — the main source of the dynamics of meaning-making.
Full Text
Исходные соображения
Каждому человеку, любому обществу в той или иной степени свойственно стремление к развитию, изменению обстоятельств в лучшую сторону. Иногда это стремление вырастает в масштабные проекты переустройства общества путем реформирования или радикального преобразования основ социального существования. Подобные проекты становятся серьезными вызовами их инициаторам, участникам, требуют новых представлений человека о своем месте в мире, социуме, самом себе, возможных и необходимых поступках. Ярчайшим примером такой ситуации является советский опыт в самых различных его проявлениях и измерениях — от экономического и политического до эстетического и персонологического. Не случайно этот социально-культурный инжиниринг вызывает живой, неослабевающий, а то и нарастающий интерес как в России, так и за рубежом. Речь идет не только об исторической фактологии и публицистике апологетического и критического плана. С течением времени все более пристальное внимание уделяется социально-философскому и философско-антропологическому осмыслению феномена советского бытия, его источникам, предпосылкам, роли и месту в истории прошлого столетия, компонентам содержания, актуальным до сих пор, вызывающим споры у представителей как старших поколений, так и молодежи, которая этого опыта личностно не переживала и может судить о нем по артефактам культуры, нарративам гуманитарного образования.
В подавляющем большинстве публикаций о советском опыте до сих пор доминируют два подхода — жестко нормативно-оценочный и описательно-объективистский. На этом общем фоне выделяется, заслуживая особого внимания, серия публикаций С.А. Никольского, связанных с реализацией им программы исследований условий, факторов возникновения, формирования и трансформации советского опыта, а также основных акторов, периодизации и систематизации этого процесса [см.: Никольский, 2023а; 2023б; 2024; Советское бытие, 2022]. Сама тема, а также делаемые автором и его коллегами выводы стимулируют дискуссию, в которой в изрядной степени участвует данная работа. Более того, последняя нацелена дать ответ, чему же научил нас советский опыт, какие можно сделать обобщающие выводы, важные для понимания человека, его перспектив в контексте интенсивнейшей трансформации социального бытия в наше время. Выводы, важные не только для России, но и для современного мира вообще, однако для России в особенности.
Предлагаемые нами выводы не претендуют на исчерпывающую полноту, но, как представляется, могут внести некоторую конкретику. Главное внимание уделяется советскому проекту нового человека, советскому антропологическому идеалу, его неоднозначному содержанию, противоречивой судьбе и послужившим тому причинам. Дело в том, что задача любого развития (а тем более переустройства) общества всегда предполагает изменение в смысловой картине мира, системе целей, намерений, а значит, мотиваций членов общества. Хотя бы в силу того, что человек — социальное существо, а сознание возникает только в процессе освоения социально-культурных практик и коммуникации в этом процессе с другими людьми. Но одно дело, когда эти практики меняются постепенно, «явочным порядком» интегрируя складывающийся опыт в новый социальный порядок, который становится равнодействующей воль и интересов. И другое — когда изменения оказываются программой некоего единого инжиниринга — не только социально-культурного, но и антропологического. А советский проект был именно таким — в ходе его реализации был проведен грандиозный эксперимент создания принципиально иного типа общества, предполагающего не просто культурную революцию, а формирование нового человека. Поэтому в этом случае ключевой вопрос формулируется следующим образом: кто занимается переустройством социума и других людей, откуда берутся такие «прогрессоры», и если они суть порождение этого же социума, то насколько новый проект они предлагают?
Предпосылки анализа
Уникальный советский культурно-исторический феномен с его типологически специфическим образом жизни, социального обустройства, самоопределения и позиционирования личности философско-антропологическими, морально-нравственными, социально-психологическими проявлениями не случаен для российской культуры, поскольку имеет в ней глубокие корни, воплощающие ее в почти эйдетически чистой форме. Предыстория этого проекта довольно основательна. Наверное, следует начать с апофатичности («пасхальности») восточного христианства, в котором позитивная божественная сущность в этом мире не дана — она его покинула, оставив надежду на спасение и воскресение [Есаулов, 2020]. Вследствие чего жизнь в этом мире, как и ее атрибуты (здоровье, благополучие, собственность, труд, право), ценностью не является. «Здесь и сейчас» — юдоль страдания, предуготовления к воздаянию в являющейся ценностью жизни иной: в потустроннем мире, светлом будущем, где-то еще, но не «здесь и сейчас» 1.
Эта глубокая «пасхальная» апофатичность проявилась и в российской художественной культуре, включая предмет ее особой гордости — литературу. Так, обширное исследование А.П. Давыдовым русской классической литературы (содержание и результаты более 20 обстоятельных монографических публикаций обобщены в его работе «Неполитический либерализм в России» [см.: Давыдов, 2012]) показало, что в ней практически нет положительного героя, демонстрирующего способность к самостоятельному конструктивному обустройству своей жизни. Но зато типологической оказывается фигура «лишнего человека», который не может найти применение своим позитивным качествам в обстоятельствах реального социума. Тем самым напрашивается задача не нравственного и прочего совершенствования, достойной жизни, а смены обстоятельств, неправильного общества правильным.
Вопрос заключается в том, кто будет актором такого переустройства. Надежды Д.И. Фонвизина, А.С. Пушкина на просвещенного самодержца оказались несостоятельны. Надежды народников на народ, крестьянскую общину тоже оказались с горизонтом, ограниченным «вопросом о земле». Новую буржуазию («Лопахиных») не признали ни просвещенная аристократия, ни интеллигенция. На этом ценностно-нормативном фундаменте и формировались российское революционно-демократическое движение и его антропологический идеал самоотверженного борца за справедливое общество, способного себя не пощадить и других не пожалеть ради того, чтобы сделать всех счастливыми помимо, а то и вопреки их воле. Что, собственно, и сказалось как в годы подпольной борьбы, так и во время Октябрьского переворота и затем Гражданской войны. И наукообразный марксизм, открывший законы общественного развития, оправдывающий уже не индивидуальное, а классовое насилие, оказался весьма кстати.
Результат проекта: «не лишние люди»
Советский режим укрепился не только победой в Гражданской войне, экономическими успехами НЭПа. Сам отказ от НЭПа, коллективизация, «великий перелом» (1929), последовавшие за ними первые пятилетки индустриализации питались энергетической поддержкой массового энтузиазма, идущего «снизу», обеспечивающего легитимность политического режима и реализацию его планов, «не замечающего» чудовищного насилия и репрессий. Этот энтузиазм был чем-то бόльшим, чем просто открывшиеся социальные лифты, более глубоким, включавшим экзистенциальный смысложизненный мотиватор. Он прежде всего мог быть связан с активной индустриализацией, урбанизацией, что фактически соответствовало общецивилизационному тренду формирования массового общества с его новыми форматами идентичности, требованиями определенного стандарта образования, развития средств массовой коммуникации и участия в социальной жизни. Что, собственно, и обеспечивалось советским режимом в его своеобразной мифократической форме. В Европе этот процесс начался раньше и шел не так бурно. В России же не оказалось ни полноценной элиты, ни гражданского общества — главных корректоров культуры массового общества. «Явился пренебрегший театральной рампой хор и принялся управлять жизнью. Только явился он не в античных одеждах, а в мужицких зипунах, солдатских шинелях и кожанках Чека» [Кантор, 2011: 204].
Однако было еще нечто важное, не улавливаемое с чисто экономической и политической точек зрения. Речь идет о том, что В.К. Кантор называет «фактором Х» [там же: 205], связывая его с определенным антропологическим, психологическим типом, вышедшим на первый план. Речь идет о нарастании акцентирования актерства в реальной жизни. Эта тенденция отмечалась и чувствовалась на рубеже XIX–XX веков многими, а после катастрофы Первой мировой войны даже бросалась в глаза. Актерствовали «святой старец» Г. Распутин и «пишущий босяк» купеческий внук А. Пешков (М. Горький), футурист в «желтой кофте» В. Маяковский и стилизующийся под черного мага В. Брюсов. То же и в политике. Российские революционеры выступали под кличками, за которыми стояли не только требования конспирации. И. Джугашвили взял партийную кличку Коба в честь романтического разбойника из грузинского романа. Потом он стал Сталиным, а сын приказчика и внук купца В. Скрябин — Молотовым. «Театрализованным разбойником» называл Л. Троцкого П. Сорокин. Да и А. Гитлера, Б. Муссолини современники попервоначалу называли шутами и клоунами, а их «перевороты» — буффонадами.
Однако дело даже не в трикстерстве (которое само по себе заслуживает отдельного внимания) — просто музилевский «человек без свойств» становящегося массового общества был очень пластичным и в этой своей пластичности чутко реагирующим на вызовы времени, включая акцентированно декларируемые идеалы. Похоже, дело не столько в каком-то злодее-тиране. Сам он оказывается ответом на масштабный запрос о том, как строить новую жизнь в ситуации рухнувших ориентиров. В ситуации, когда личность, как писал Г.Г. Шпет, «распускается», как кусок масла на сковородке (а когда российская «сковородка» была не раскалена?), возникает не только сладость ощущения «слиянности», но и готовности «слиться» в предлагаемые привлекательные формы.
В контексте обсуждаемой темы важен тот факт, что в первые два послереволюционных десятилетия сформировался особый тип (отчасти даже поколение) советского человека, который можно рассматривать в качестве действительно «нового человека». Возможно, это был реальный главный антропологический результат советского проекта того периода. Об этом поколении писали В.П. Беляев, Ю.В. Бондарев, Ю.М. Нагибин, А.Н. Рыбаков, Б.А. Слуцкий… Речь идет о поколении, детство которого пришлось на Гражданскую войну, юность — на становление советской власти, «великий перелом», коллективизацию и индустриализацию, взросление — на Великую Отечественную войну, пережить которую удалось не всем.
Это были уже не умопостроенные «разумные эгоисты» Н.Г. Чернышевского, не самоотверженные борцы подполья или воины Гражданской войны, а реально обустраивающие новую жизнь в новом социуме, не «лишние», а нужные такому социуму люди, знающие, как эта жизнь может и должна выглядеть, верящие в свои силы это осуществить [Тульчинский, 2022б]. Подобным преследователям истинной и полной справедливости были свойственны специфическое понимание прогрессивности и реакционности, нетерпимости и безальтернативности, ожидание от всех «сознательности» во всем. Помимо прочего, данные свойства служили основой практик бдительности, секретности, доносов, чистки рядов, бесконечной череды собраний и политинформаций [Советское бытие, 2022: 264–289]. А главное, что подтверждается и в упомянутом корпусе исследований С.А. Никольского, — отношение к человеку как расходному материалу реализации идей. И под такое отношение подпали не только «бывшие», «спецы», крестьяне, но и само это поколение.
Часть этого поколения «смыла» волна репрессий, одновременно порушив и энтузиазм реализации утопии, а уцелевших в изрядной степени «прорядила» Великая Отечественная война, победить в которой, собственно, и помогло именно это поколение. К нему принадлежали «ифлийцы», которые создали новую советскую поэзию и философию. Импульс того поколения отчасти реализовался в «оттепели» 1960-х — хотя бы в частичном восстановлении попранного идеала. В философском изводе данный советский антропологический тип представлен яркими примерами фигур А.А. Зиновьева и Г.П. Щедровицкого — таких разных, но с элементами трикстерства, по-советски нетерпимых, постоянно рефлектирующих. Именно им принадлежат два важных обобщения.
Парадоксальность советского опыта: обобщение Г.П. Щедровицкого
Как фиксирует Г.П. Щедровицкий, в нашей стране сложилась весьма неоднозначная ситуация. То, что мы получаем посредством культуры, посредством системы образования, принятой у нас с середины 1930-х годов, принципиально не соответствует тому, что нужно людям в их реальных социальных повседневных ситуациях жизнедеятельности [Щедровицкий, 2001]. И это было очень точное свидетельство. Само становление советского режима — и чем дальше, тем все больше — сопровождалось нарастающей регламентацией, неприятием способности именно к автономному ответственному поведению. В художественной литературе, кино, системе образования, системе пропаганды провозглашался свободный творец, тогда как в реальной социальной жизни практиковались контроль и жесткая регламентация, когда человек с самого детства и до глубоких седин не был хозяином своей собственной жизни.
С.А. Никольский прав: многое зависело от насилия и страха. Но их дополняли мощная пропаганда великих и славных идеалов, провозглашение советского человека как свободного творца, тогда как реальные границы свободы и ответственности сводились к границам кожно-волосяного покрова, хотя даже в них человек не был хозяином своей жизни, не говоря уже о стране. В этом плане кейс советского опыта противоречив. С одной стороны, налицо культурная революция, всеобщее образование, культ здоровья, гигиены (одна система канализации в Петрограде/Ленинграде чего стоит!), физкультура и спорт. С другой — в заорганизованном, идеологически контролируемом социуме это было проявлением заботы о «человеческом материале», но не о потенциале личностной субъектности. Такое общество расслаивалось на «прогрессоров» и этот самый «человеческий материал» — «новых людей», которые свободны, так как познали необходимость. Кто не осознал — тот враг народа, нежелательный элемент, агент, имеет прочие клейма, а то и сразу — 10 лет без права переписки. В результате запуганные люди решают свои проблемы не «горизонтально», а только через «вертикаль» самозванных «прогрессоров».
Сей усиленный властным нажимом процесс в конечном счете породил глубоко коренящиеся до наших дней, парадоксально сочетающиеся друг с другом инфантилизм, безответственность («выученная гражданская беспомощность») и нетерпимость. Люди оказались не способны к выстраиванию «горизонтальных» отношений, решению своих проблем самостоятельно. Была выработана привычка все вопросы — от производственных до личных — решать через «вертикаль», с помощью либо жалобы, либо доноса. В этом кроется и удивительная недоговороспособность. В спорах — и в бизнесе, и в политике, и в личной жизни — играются игры «с нулевой суммой»: все либо мне, либо тебе. Подготовленные медиаторы — специалисты по посредничеству для решения конфликтов в досудебном формате — оказываются невостребованными. И дело не только и не столько в том, что этому противятся адвокаты и судейские, у которых возможно сокращение рынка их услуг, — просто сами люди привыкли к решению всех проблем в жанре игр «с нулевой суммой», причем руками и волей вышестоящих инстанций.
Обобщение А.А. Зиновьева
Если Г.П. Щедровицкий фактически констатировал парадоксальную трагичность реализации советского антропологического идеала как практики укрощения субъектности «не лишних людей», то А.А. Зиновьев, исходя из советского опыта и опыта «западнизма», предложил общецивилизационное обобщение, согласно которому сообщества, в которых живут люди (Зиновьев называет такие сообщества «человейниками»), характеризуются тремя аспектами: деловым (экономическим, обеспечивающим совместное существование), коммунальным (отношениями между членами сообщества) и ментальным (сознанием, обеспечивающим каждому индивиду оптимальное поведение в рамках сообщества) [Зиновьев, 2022]. Каждый из аспектов развертывается по своим объективным и универсальным законам экономики и социологии. Если в западном социуме акцент делается на экономическом аспекте, то в советском («реальном коммунизме») — на коммунальном.
Что касается трактовки социума как «человейника», то она близка не только современной урбанистике, где это слово закрепилось как название городских многоэтажек, но и тому обстоятельству, что главным героем XX века стала масса, а термины «массовое общество», «массовый человек», «массовое потребление» прочно вошли в современную социологию, социальную психологию, экономику. Данное обстоятельство как проявление давно и хорошо известной идеи о социальной природе человека ярко иллюстрируется в творчестве Андрея Платонова — наверное, единственного гения в русской прозе прошлого века (если понимать под гением человека, сказавшего нечто новое о человеческой природе), открывшего, что главное в человеке — его духовное и физическое (!) тяготение к слиянию, «слипанию» с другими. Собственно, главная тема Платонова — описание, как эта масса формируется, действует, «слипается» (включая слияние жертв и палачей), когда люди ищут возможность стать этой массой, слиться с ней и только в этом качестве достигают оправдания и смысла существования. Это состояние слиянности, расплавленности индивидов в социуме, изучаемое В. Тернером на материале древних ритуалов, было названо «communitas» [Turner, 2012] и получило новое осмысление на материале майских событий 1968 года во Франции [Agamben, 1993; Nancy, 1991]. Такое состояние выходит на первый план во время революций, войн, иногда во время массовых мероприятий, грандиозных кампаний (например, коллективной травли).
Что же касается трех аспектов, векторов реализации социальности в жизни «человейников», то это зиновьевское обобщение порождает ассоциации с фроммовскими модусами бытия «иметь» и «быть», западными и восточными культурами управления и коммуникации у Г. Хофстеде [Hofstede, 2001] и Р. Льюиса [Lewis, 2018], двумя форматами этики В. Лефевра [Лефевр, 2003]. Поэтому (пост)советская коммунальность — не срыв в архаику, а акцентированный вектор социального бытия. Показательно совпадение этого различения и с недавним социологическим исследованием мотивации стартаперов в России и их коллег в Финляндии, Китае, Корее [Фантастические миры, 2019]. Иностранные стартаперы ориентируются на конечный результат (внедрение и монетизацию), отечественные — на процесс и признание таланта (но не конечного результата, так как выскочек не любят). Это объясняет, почему при таком большом количестве талантов российский бизнес и технологии не реализуются на родине, где остается удручающе низкий уровень производительности труда. А для конечного успеха надо выезжать (как, к примеру, П. Яблочков, И. Сикорский, В. Зворыкин… вплоть до Д. Бутерина).
Однако дело, очевидно, не столько в различении коммунального («быть») и делового («иметь») принципов управления по целям (по-американски) и по ценностным нормам (по-японски), сколько в их соотношении и дополнении, балансе. Цели определяются по шкале ценностей, которые задают поле возможного выбора, как дорожные правила задают общие правила, руководство которыми позволяет водителям достигать целей. Аналогичны соотношение и дополнительность целей бизнеса и норм корпоративной культуры. Да и А.А. Зиновьев полагал, что «хрен» западнизма не слаще «редьки» реального коммунизма: оба они насаждают консолидирующий ментальный план, обеспечивающий легитимность власти.
Такого рода социальности у А.А. Зиновьева противостоит индивидуальная мораль человека, выживающего в социальности. Либо растворяющегося в ней (отказ от субъектности человека «массового», «убежденного», по Р. Хофферу [см.: Хоффер, 2017]), либо использующего законы социальности в своих целях для реализации своего автопроекта 2. Но и жизненные стратегии человека «убежденного» и автора проекта своей жизни тоже дополнительны. Первому нужны образцы и лидеры, а второму — ведόмые исполнители.
Этой коварной дополнительности А.А. Зиновьев не касается, но зато он обращает внимание на то, что обе социальности — коммунальная (коммунистическая) и деловая (западнистская) — сближаются в бездушном механическом формате. У Зиновьева есть абзацы, наполненные фактическим пророчеством цифровизации, которую он не застал, но уже отмечал перспективы освоения компьютерными технологиями личностно-ментальных характеристик пользователя и обезличенно алгоритмизированную систему управления и контроля реализации требований социальности [Зиновьев, 2022].
В данной связи в новом формате предстает значение менталитетного аспекта социальности, когда задача «научить и приучать людей видеть и понимать окружающий мир и самих себя не такими, какими они являются сами по себе, а так, как это требуется…» [там же: 312] получает невиданные ранее возможности решения.
Цифровой формат схождения векторов социальности как антропологический вызов субъектности
В упоминавшихся исследованиях С.А. Никольского с коллегами при всем масштабе и широком горизонте тематики прослеживается очень твердый стержень советского опыта — характеристики и роли человеческого материала, взаимодополнительности насилия и покорности. Последняя предстает состоянием выживания и дистанцирования от политики, концентрацией на сиюминутных бытовых проблемах. Насилие и покорность, по сути дела, — гремучая смесь безответственной нетерпимости, доходящей до кровожадности готовности к погромам и «распускания» личности, как куска масла на сковородке, по российским меркам всегда раскаленной. Страждущая масса не только дышит рессентиментом, но и хочет жертв, виноватых… А исконный апофатизм, исходящий не из признания реально сущего, а из его отрицания, оборачивается наполнением смысловой пустоты этого отрицания властной волей, претендующей на творение сущего из его отсутствия. Закрепленный Гражданской войной, коллективизацией, идеологией усиления классовой борьбы, которая подкреплялась репрессиями, этот опыт сказывается до сих пор. Более того, применительно к новым цивилизационным условиям он оказывается «пробой пера».
Информационно-коммуникативные технологии в цифровых форматах, пронизывающие все сферы современной социальной жизни, отчетливо выявляют две технологически подкрепляемые тенденции. С одной стороны, это невиданный ранее жизненный комфорт, обеспечиваемый широкой доступностью к каналам коммуникации. Одним из его следствий становится возможность непосредственной презентации эмоциональных переживаний, что оборачивается обилием непроверенной, ложной информации, порождающей конфликтность и агрессивность, доходящую до травли, практик «отмены» и т.п. Будучи подкрепленными широким использованием ИИ, эти процессы становятся мощным инструментом манипулирования, угрозой ущерба репутации, здоровью, благосостоянию, жизни. С другой стороны, это все разрастающаяся тенденция обеспечения безопасности, контроля, которая, опять-таки подкрепляемая технологически, порождает колоссальное искушение власти властью такого всеобъемлющего контроля.
Относительно проблемы субъектности обе тенденции технологически сливаются в формировании целостной, алгоритмически выстроенной среды, которую ее создатели называют «экосистемой» или «метавселенной». Здесь человек вынужден встраиваться в созданные заранее алгоритмы поведения и мысли, во все большей степени становясь не столько пользователем, сколько опцией этой среды [Тульчинский, 2023]. В рыночной среде большие данные порождает новый вид ренты («экзистенциальной»), когда самим фактом своего существования, включая потребление, человек оставляет данные, которые аккумулируются, обрабатываются и монетизируются. А в социальной среде личность вынуждена встраиваться в жесткие рамки контроля — от системы образования, сводящегося к тестам, до форматов социального рейтинга своего поведения, образа жизни. От человека требуется не осмысляющая рефлексия, а геймерская реакция, реализующая правильный алгоритм. Поле субъектности сужается до ее сердцевины и истока — эмоционального переживания жизненного процесса, восходящего к телесному опыту. «Новая животность» и «homo sacer», о которых ярко и убедительно пишет Д. Агамбен, обретают отчетливые формы [Агамбен, 2011].
В терминологии А.А. Зиновьева, западнистский «человейник», акцентированный на экономические аспекты своего существования, в своем цифровом изводе порождает очередную модификацию капитализма — бес- и внечеловечного способа хозяйствования, ориентированного на самовозрастание капитала. А «человейник», акцентированный коммунальным аспектом, реализует не менее эйдетически чистый механизм подавления и укрощения субъектности.
В определенном смысле оба формата сближаются, реализуя отмеченное в свое время Ф. Энгельсом, Р. Бёрнхемом, М. Джиласом, М. Восленским новое качество управления социумом — выход на первый план профессиональных управленцев, которые распоряжаются не принадлежащей им собственностью, но от решений которых все более усложняющийся социальный механизм проявляет возрастающую зависимость. В этом процессе находит отражение возникшая в свое время теория конвергенции капитализма и «развитого социализма» [Гэлбрейт, 1988].
Цифровые форматы закрепляют некую универсальную социальность в духе А.А. Зиновьева, построенную на базовом расслоении любого социума и «укрощении субъектности». Советский опыт сыграл свою важную роль на пути России к данным форматам. Примером могут служить практики публичного клеймения на уровне класса, пионерской дружины, трудового коллектива, союза писателей, открытого судебного процесса, СМИ. Это была практика не только публичной критики с обязательным признанием обсуждаемым своей неправоты и обещанием исправиться, но и осуждения «отщепенца» как недостойного быть членом социума. Тем самым решалась задача не только и не столько «перевоспитания», осуждения зла, сколько удовлетворения принадлежности, сопричастности коммунальной социальности и агрессивности. Остракизм, охота на еретиков и «ведьм» всегда имели место в истории, но именно в советское время они приобрели особый масштаб и глубину.
Благодаря интернету и социальным сетям указанные практики обрели новые горизонты. Сетевой буллинг, «новая этика» с ее практиками «удаления» (кэнселинга) — это опыт вроде бы ненасильственного, но жестокого укрощения субъектности, ее «распускания» на раскаленной сетевой «сковородке» реализующейся социальности.
Ergo
В принципе, процессы социализации и индивидуализации дополняют, предполагают друг друга в едином процессе развития социума. Опыт советского социально-культурного инжиниринга с акцентом на жесткую формализацию социальности важен для понимания человека, перспектив культуры и личности в контексте интенсивнейшей трансформации социального бытия в наше время. Цифровые технологии, формализующие социально-культурные практики, меняют не только экономику, политику, образование, но и весь образ жизни, в результате чего намечается некоторый дисбаланс в сторону технологически обеспеченного «укрощения» вменяемой субъектности. В этико-правовом вызове это выражается в соотношении технологии контроля и личностной парресии, в политэкономическом вызове — в экзистенциальной ренте, в метафизическом — в полюсах человека-опции и «не-человеческой» субъектности, в социальном — в перспективах расслоения социума в зависимости от степени принятия и реализации ответственной субъектности (при этом здесь на первый план выходит «менталитетный» аспект — специфика смысловой картины мира, консолидирующей конкретный социум, не способной к конструктивному взаимодействию с другими, зачастую им исключительно противостоящей).
Все вышеозначенное, как представляется, порождает новый запрос на гуманитарное знание, на институционализацию комплексной гуманитарной экспертизы не только и не столько последствий реализации новых технологий, но и целей, содержания и хода их разработок, а также процесса их внедрения, включая участие во всех этих этапах.
1 В катафатичесом западном христианстве главным праздником является Рождество — празднование прихода божественной сущности в этот мир, в каждый дом, а дизайн храма носит изобразительно-телесный характер. Наверное, неспроста именно в рамках этой традиции возникло позитивное естественнонаучное знание. Роли практик накопления в возникновении и эволюции катафатичности посвящены некоторые работы [подробнее см.: Травин, 2022; Тульчинский, 2022а].
2 У А.А. Зиновьева часто упоминается та метафора, что человек способен летать, преодолевая силу тяготения, в самолете, который взлетает благодаря использованию других законов природы, а А.А. Гусейнов применяет эту же метафору к жизненному опыту самого А.А. Зиновьева [Гусейнов, 2023].
About the authors
Grigorii L. Tulchinskii
National Research University Higher School of Economics; Immanuel Kant Baltic Federal University
Author for correspondence.
Email: gtul@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5820-7333
DSc in Philosophy, professor, professor of the Department of Public Administration, Researcher of the Institute of Education and Humanities
Russian Federation, 16 Soyuza Pechatnikov Str., St. Petersburg 190008; 14 Alexander Nevsky Str., Kaliningrad 236041References
- Agamben D. Homo sacer. Suverennaya vlast’ i golaya zhizn’ [Homo Sacer. Sovereign Power and Naked Life], transl. from Ital. by M. Velizhev, O. Dubitskaya, S. Kozlov et al. Moscow: Evropa Publ., 2011.
- Guseinov A.A. Moi Zinoviev [My Zinoviev]. Moscow: JSK Publ., 2023.
- Galbraith J., Men’shikov S. Kapitalism, sotsialism, sosushchestvovanie [Capitalism, Communism and Coexistence]. Moscow: Progress Publ., 1988.
- Davydov A.P. Nepoliticheskii liberalism v Rossii [Non-political Liberalism in Russia]. Moscow: Mysl′ Publ., 2012.
- Esaulov I.A. Paskhal’nost’ russkoi slovesnosti [The Easter of Russian Literature]. Magadan: Novoe vremya Publ., 2020.
- Zinoviev A.A. Faktor ponimaniya [Understanding Factor]. Moscow: Kanon+ Publ., 2022.
- Kantor V.K. “Krushenie kumirov”, ili Odolenie soblaznov (stanovlenie filosofskogo prostranstva v Rossii) [“The Crash of Idols”, or Overcoming Temptations (The Formation of Philosophical Space in Russia]. Moscow: ROSSPEN Publ., 2011.
- Lefebvre V.A. Algebra sovesti [Algebra of Conscience], transl. from Engl. by V. Lefevr, E. Yudina. Moscow: Kogito-Tsentr Publ., 2003.
- Nikolsky S.A. Pereustroistvo obshchestva, peresozdanie cheloveka: кrakh illyuzii [The Reorganization of Society, the Re-Creation of Human: The Collapse of Illusions]. Filosofiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki. 2023a. Vol. 7, N 2. P. 203–222.
- Nikolsky S.A. Sovetskoe. Ideya i praktika [Soviet. Idea and Рractice]. Moscow; St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ Publ., 2023b.
- Nikolsky S.A. Sovetskoe. Filosofsko-literaturnyi analiz [Philosophical and Literary Analysis]. Moscow; St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ Publ., 2024.
- Sovetskoe bytie: Ot ukoreneniya do preodoleniya: Kollektivnaya nauchnaya monografiya [Soviet Life: From Rooting to Overcoming: Collective Scientific Monograph], ed. by T.S. Zlotnikova, S.A. Nikolsky. Yaroslavl′: YGPU Publ., 2022.
- Travin D.Yа. Kak gosudarstvo bogateet: putevoditel’ po istoricheskoi sotsiologii [How a State Gets Rich: A Guide to Historical Sociology]. Moscow: The Gaydar Institute Publ., 2022.
- Tulchinskii G.L. Apofatika i institutsionalizatsiya: pragmasemanticheskii analiz [Apophatics and Institutionalization: Pragmasemantical Analysis]. Politicheskaya kontseptologiya. 2022a. N 3. P. 29–48. doi: 10.18522/2218-5518.2022.3.2948
- Tulchinskii G.L. Mal’chik byl: istochniki i sud’ba sovetskogo antropologicheskogo ideala [The Boy Was: The Sources and Fate of the Soviet Anthropological Ideal]. SSSR v dostizheniyakh i katastrofakh. Razmyshleniya po sluchayu 100-letiya [The USSR in Achievements and Disasters. Reflections on the Occasion of the 100th Anniversary]. Moscow: Golos Publ., 2022b. P. 53–79.
- Tulchinskii G.L. Smysl, sub”ektnost’ i otvetstvennost’ v tsifrovykh kommunikatsiyakh [Meaning, Subjectness and Responsibility in Digital Communications]. Chelovek. 2023. Vol. 34, N 3. P. 74–93. doi: 10.31857/S023620070026106-3
- Fantasticheskie miry rossiiskogo khai-teka [Fantastic Worlds of Russian High-tech], ed. by O. Bychkova. St. Petersburg: European University at St. Petersburg Publ., 2019.
- Hoffer E. Chelovek ubezhdennyi: Lichnost’, vlast’ i massovye dvizheniya: per. s angl. [The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements: transl. from Engl.], ed. by A.A. Mikhailov. Moscow: Alpina Publ., 2017.
- Shchedrovitskii G.P. Ya vsegda byl idealistom… [I’ve Always Been an Idealist...]. Moscow: Put’ Publ., 2001.
- Agamben G. The Coming Community. Minnesota: University of Minnesota Press, 1993.
- Hofstede G. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Cage Publications, 2001.
- Lewis R.D. When Cultures Collide: Leading Across Cultures. Boston; London: Nicholas Brealey Publishing, 2018.
- Nancy J.-L. The Inoperative Community. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
- Turner E. Communitas: The Anthropology of Collective Joy. New York: Palgrave Macmillan, 2012.