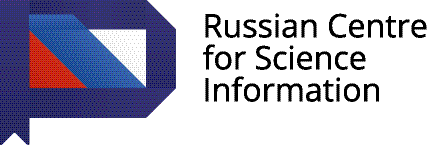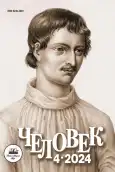The Formula of Man, or the Abstract Double of Phenomenology
- Autores: Miroshnichenko M.D.1
-
Afiliações:
- Higher School of Economics
- Edição: Volume 35, Nº 4 (2024)
- Páginas: 26-45
- Seção: The philosophy of the himan being
- URL: https://medbiosci.ru/0236-2007/article/view/263532
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724040025
- ID: 263532
Texto integral
Resumo
Contemporary thinkers believe that human individuality is defined by an inhuman, abstract, and anonymous beginning emancipated from human experience, transforming thinking into one of multiple forms of existence. Inhumanism requires describing the structure of subjects capable of connecting to space or reasons. This structure includes abilities manifested through a technolinguistic infrastructure and algorithmic intelligence that intertwine abstraction and materiality. This explanation of consciousness redefines individuality through objective laws, relegating phenomenological understanding to the background. This paper explores scenarios of inhuman thinking, emphasizing the distinction between the scientific image’s epistemological primacy and the manifest image’s genetic precedence. It considers inhumanism as an alternative to phenomenology that seeks abstraction and liberation from corporeality and analyzes Soviet cybernetics’ approaches to extracting the inhuman component from mental life. The paper analyzes the philosophical and psychological ideas of Vladimir Lefebvre, including the desire to encrust consciousness with cosmological processes, which distinguishes his approach from posthumanist philosophers. Lefebvre seeks to integrate human consciousness with the cosmos, while posthumanists see humans through the lens of artificial intelligence and intelligent machines, emphasizing abstraction and the absolutism of pure concept. Both approaches offer a vision of human beings that goes beyond conventional understandings, affirming their connection to more complex cosmic entities. Lefebvre emphasizes the similarity of reflexive processes to recursive functions, where consciousness, returning to itself and possessing invariance, forms an objectified structure that distinguishes mental objects. He introduces the notion of the demiurge, eidos-navigator, as the object’s constructor, objectifying the scheme in materiality and allowing the observer to use this scheme for systemic representation.
Palavras-chave
Texto integral
Некоторые современные мыслители считают: то, что определяет человека, человеческим не является. Это значит, что сознанию, действию, мысли предшествует — не хронологически, а генетически в смысле трансцендентального генезиса — инстанция чистой анонимности и абстракции. Она лишена феноменологического измерения, ей не нужно осознавать себя привычным нам способом высших психических функций. Можно обозначить эту инстанцию как внечеловеческое (inhuman), имея в виду более обширную когнитивную способность, превосходящую человеческую и не принадлежащую людям как безраздельным ее владельцам.
Внечеловеческое наделено свойствами разума — такими, как речь, мышление или способность к этическому суждению, — хотя его когнитивные процедуры автономны от его материализации в мозге, теле, культуре, обществе. Сепарация внечеловеческого отчуждает человека от его «сущности», воспроизводя кантианское разграничение трансцендентального и эмпирического: есть контингентно несущийся поток чувственных данных, а есть то, что привносит в него смысл и порядок, некий набор ненатурализуемых априорных инвариантов: «Ингуманизм — это именно активация пересматривающей программы разума против автопортрета человечества. <…> Разрушая связующее звено между нынешними обязательствами и их прошлым и рассматривая нынешние обязательства с точки зрения их последствий, пересмотр заставляет обновлять нынешние обязательства каскадным образом, который глобально распространяется по всей системе. <…> Как только вы принимаете обязательство перед человеческим, вы фактически начинаете стирать его канонический портрет, возвращаясь из будущего в Прошлое» [Negarestani, 2014: 445].
Анонимная самость эмансипируется от человеческого опыта, сознания, истории или их детерминаций, знаменуя пришествие чужеродного интеллекта [Brassier, 2014]. Преображается и человеческое мышление: это не мера всех вещей, а одна из множества реализаций внечеловечества.
Суть человека чужда унаследованным или приобретенным интуициям самопознания; говоря точнее, самопознание должно вывести человека на его внечеловеческий остов, не имеющий предпосылок в проживаемом опыте. Отчуждающая установка тем не менее уже имела прецедент в аналитическом разграничении сознания (sentience) и разумности (sapience), где первой соответствует селективная «отзывчивость» на стимулы (например, восприятие цвета и серия «растормаживаемых» им поведенчески-когнитивных реакций), а второй — понимание и способность производить осмысленные разграничения в мире.
Поэтапно производится раздел между человеческой способностью ощущать и воспринимать нечто и внечеловеческой способностью вовлекаться в дискурс, ведущий к коллективному самоопределению автономных систем. Первое формируется эволюционно, второе итожит порыв свободы, прочь от природы и ее детерминаций, прочь от просто налично данного. Внечеловеческая разумность воплощается в технолингвистической инфраструктуре, отступающей на задний план человеческой жизни и затененной феноменологическим опытом интерсубъективности.
Получается, что внечеловеческое есть и скрытая структура, и тень человеческого, его двойник, который ему синхроничен (действуя одновременно с ним) и диахроничен (безусловно обусловливающий его, трансцендентально опережающий). Не стоит сводить эту анонимную силу к простой метафизической абстракции. Извлекая человека из эволюционной участи, внечеловеческое дарует человеку свободу — в первую очередь, свободу преображать данное в неданное, то, что есть, в то, что должно быть и что соотносится с некой универсализированной аксиологической матрицей. Эта истина человеческого не равна пониманию его самим себя; то, что конституирует наше интерсубъективное «мы», феноменологической самости совершенно внеположно. Более того, человеком = разумным существом могут стать «люди, животные, пришельцы и машины» [Вульфендейл, 2023], способные принять на себя роль агентов мышления, речи и действия, подключаясь к материально-дискурсивным сетям коммуникации.
То, чего в этой связи требует ингуманизм — минимально возможное описание обобщенной структуры таких субъектов, которые в принципе могут подключаться к смысловому пространству делокализованной человечности. Немаловажно и долженствование преобразить наличное в должное: мы должны преодолеть значимые для нас характеристики, дабы прорваться к свободе тотального абстрагирования.
Как следствие, этическим идеалом здесь становится «субъективность без самости», агентность, выражающая себя не в потоке сознания и его структурах, а в опустошенных функциональностях алгоритмов, умозаключений, вычислений и операций с понятиями: «Разум есть только то, что он делает; и то, что он делает, прежде всего реализуется через социальность агентов, которая сама по себе первично и онтологически обусловлена семантическим пространством публичного языка. То, что делает разум, — это структурирование вселенной, к которой он принадлежит, и структура — это сам регистр понимания, относящийся к миру и интеллекту. Только благодаря многоуровневой семантической структуре языка социальность становится нормативным пространством рациональных агентов, способных к признанию и познанию; и предполагаемые “приватные” переживания и мысли участвующих агентов структурируются как переживания и мысли только настолько, насколько они вовлечены в это нормативное пространство — одновременно интерсубъективное и объективное» [Negarestani, 2019: 1].
Стоит подчеркнуть, что такими инстанциями разные авторы объявляют совершенно разные явления, в зависимости от бэкграунда самих исследователей и того, какие именно этико-политические или эпистемологические цели ими преследуются1. У Лучаны Паризи вычислительная архитектура отсылает к структуре нового способа мышления, который она называет «мягким» (soft) мышлением. Мягкое мышление, в сущности, представляет собой ментальность алгоритмов, которую при этом нельзя имитировать ни архитектурой мозга, ни нейрофеноменологией разума (рефлексивной способностью разума осознавать свои действия). Следовательно, мягкое мышление автономно от познания и восприятия в человеческом его понимании и представляет собой нечто невоспроизводимое. Человеческое абстрактное мышление представляет собой один из эпифеноменов мышления алгоритмов: «Мягкое мышление не является абстрактным механизмом мышления, который нужно конкретизировать (например) в нейрокомпьютерной архитектуре, происхождение которой может быть найдено в нейронной архитектуре мозга, из которой мягкое мышление как будто выведено» [Parisi, 2013: 173].
Специфика «мягкости» проявляется в сбоях, аномалиях и поломках, которые суть не нарушения, а, напротив, манифестируют совершенно чуждую человеку логику алгоритмических вычислений. Стоит сказать, что мягкое мышление — это не аналог функциональной программы, запускаемой на «железе» машины в качестве ее программного обеспечения. Совсем наоборот, само функционирование алгоритмического разума основано на самовоспроизводимости и том, что философы Юк Хуэй и Йен Хэмилтон Грант назвали «абстрактной материальностью» рекурсивной природы [Хуэй, 2020: 85]. Соответственно, абстракция и материальность алгоритмов оказываются переплетенными в безличной и анонимной агентности технологий.
Точкой входа в ингуманизм стала аналитическая философия. В частности, речь идет о различении нормативного и фактического. На первый взгляд наивное и даже редукционистское разграничение таит в себе глубокую проблематику. Попытка философского осмысления положения человека в мире и его ключевых характеристик сталкивается, как утверждает цитируемый Рэем Брасье классик аналитической традиции Уилфрид Селларс, с двумя способами его осмысления, образами, каждый из которых стремится к созданию целостной и исчерпывающей картины [Brassier, 2007: 3‒31]. Философской задачей является сведение этих двух образов мира и человека к одному основополагающему. Один из этих образов называется манифестным, а второй — научным.
Манифестный образ выражает донаучное понимание человеком себя и своего положения в мире: как рационального субъекта, обладающего «внутренними» состояниями, которые не могут быть сведены к физическим процессам «внешнего» мира. Научный образ дает каузальное объяснение человека как сложной физической системы на языке естествознания. Каждый из них имеет собственную историю, и манифестный образ возник ранее, чем научный, будучи более привычным в силу своей взаимосвязи с седиментациями здравого смысла.
Сегодня именно философия в предельном виде излагает манифестный образ через идею нормативности. Манифестный образ — это концептуальный каркас (framework), в пределах которого мы способны осмыслить себя как людей. Формирование манифестного образа связано с возникновением понятийного мышления, потому его разделимость с другими предполагает открытую возможность критики и опровержения.
Манифестный образ задает минимальные необходимые рамки для определения того или иного агента как разумного существа, обладающего «внутренними» состояниями. Рациональное самопостижение высвечивает диалектическое напряжение между философским образом человека как рационального агента и научной методологией, которая одновременно расколдовывала последнего и вскрывала доселе невиданные сущности и процессы — гравитационные поля или электромагнитные излучения.
Это напряжение сталкивает образ человека как сознающей рациональной субъективности и образ его как системы пространственно-временной навигации в материальном мире. Манифестный образ формирует самопонимание человека посредством понятийного мышления и его языковой артикуляции. Переход в нормативность был обусловлен постулированием ненаблюдаемых сущностей, таких как ценности, мысли, эмоции, душа и другие корреляты мыслительной активности в манифестном образе. Это позволило объяснять наблюдаемое через ненаблюдаемое, конституируя «внесуществующее» (inexistent) пространство абстракции.
Если рациональность переплетена с субъективностью, а та всегда связана отношениями необходимости с самостью, то не означает ли отказ от сознания как релевантной анализу категории исчезновение рацио как такового? Как считает Томас Метцингер, мы уже умеем создавать системы, способные к когнитивному поведению безо всякого самосознания. Такие субъекты хорошо известны: это роботы и искусственный интеллект. Искусственный разум, по Метцингеру, вращается вокруг немоцентрической перспективы: он лишен самосознающей инстанции, хотя способен к построению моделей реальности, позволяющих ему успешно ориентироваться в окружающем мире и принимать подобающие решения [Метцингер, 2017]. Соответственно, отграничение нормативного от феноменологического может иметь плоды.
Если мы отделим следование правилам и вовлечение в сети коммуникации от обладания сложным феноменологическим сознанием, мы получим картину мира, в которой «природные» и «синтетические» агенты окажутся равными в правах на вхождение в общество разумных существ. Не говоря о том, что для нейрофилософии, да и естествознания в целом, психологическая самость человека является иллюзией, эволюционно сформированной мозгом, что, конечно, требует отдельного тщательного доказательства, неустанно предоставляемого нейрофилософией.
Иными словами, ингуманизму нужна субъективность, лишенная самости: чистая абстрактная агентность, в которой нет никаких наслоений психической жизни. Жест более чем классический, учитывая интерес ингуманистов к трансцендентальной философии: мы очищаем трансцендентальную архитектонику от напластований личностного опыта, истории и политики, чтобы вскрыть универсальную сердцевину субъекта. В донаучную эпоху, по Селларсу, общепринятым было приписывание интенциональности всем неодушевленным предметам. С развитием науки и ее расхождением с манифестным образом референции к ненаблюдаемой внутренней жизни вытеснялись экспликациями, сводящими ее к физическим закономерностям.
Последним оплотом манифестного образа является человеческое сознание. В перспективе постепенного «поглощения» научным образом манифестного и неизбежного переосмысления человека-в-мире, феноменологическая экспликация человека как обладателя самосознания будет устранена в пользу научного понимания. Примером такого научного самообъяснения можно считать рассуждение из начала книги Патрисии Чёрчленд: «Мой мозг и я неразделимы. Я есть я, потому что мой мозг есть то, что он есть. И все же зачастую я думаю о моем мозге с иной точки зрения, чем когда я думаю о самом себе. Я думаю о моем мозге как об этом (that), а о себе как обо мне (me). Я думаю о своем мозге как об обладающем нейронами, но о себе я думаю, как об обладателе памяти. Однако же я знаю, что моя память заключается в нейронах моего мозга» [Churchland, 2013: 11]2.
Сторонниками эпистемологического приоритета научного образа человека в мире можно считать энтузиастов нейрофилософии и элиминативного материализма; к сторонникам же генетического первенства манифестного образа можно отнести феноменологов, которые предлагают отождествить манифестный образ и жизненный мир, а научный образ — с естествознанием после Галилея. Так, манифестный образ, так же как и у Гуссерля, оказывается миром приблизительных, неточных определений. Научный же образ определяется стремлением к созданию точных определений, в пределе дающих исчерпывающую картину объекта. Для феноменологии важно рекурсивное отсылание к проживаемому «Я», в то время как нейрофилософия настаивает на «запаздывающем» статусе сознания относительно нейрофизиологических процессов.
Я сосредоточусь на таких сценариях внечеловеческого мышления, которые стремятся возвести мысль к универсалиям и абстракциям, прибегая к подходам, заимствованным из «точных» наук – математики, информатики, логики. В сущности, ингуманизм культивирует своего рода двойника феноменологии: где та говорит о примате сознания, он вводит в игру интеллект; где феноменология говорит о вотелесненности, ингуманизм требует освобождения от телесности и т.д. Так выводится императив говорить о человеке посредством того, чем человек не является и что конституирует его как феноменологическую сингулярность. Как я постараюсь показать в данной статье, извлечение внечеловеческой компоненты из психической жизни индивида можно найти в советской кибернетике, в частности — у психолога Владимира Лефевра.
В его философско-психологической картине ярко выражена интенция инкрустировать сознание в космологические процессы:
самоорганизующиеся системы пока не включаются в физическую картину мира. Функционирование гигантских космических цивилизаций хотя и допускается, но всегда противопоставляется «естественным» процессам.
В течение последних двух десятилетий объективно происходит зарождение новой космологии, которая противостоит физической. Ее задача — включить биологическую действительность в картину мира как некоторую «норму», которая в ней естественна и необходима.
Представляется целесообразными рассмотреть возможные модели и некоторые принципы их построения, в которых, с одной стороны, — «живые организмы» и «цивилизации», а с другой стороны — феномены «физической картины» выступили бы как различные проявления некоторой единой конструкции [Лефевр, 1973: 120].
Согласно Лефевру, всякое взаимодействие есть взаимодействие двух мыслящих систем. При научном их изучении нередки случаи, когда изучаемая система оказывается «сложнее» самого исследователя, т.е. частично или полностью выходит за пределы познаваемости. В таких случаях объект, превосходящий исследователя по совершенству, сопротивляется, препятствует исследователю познать себя — поскольку сама структура объекта оказывается объекту навязанной и не обязательно совпадает с тем, как этот объект видит самого себя [Лефевр, 1965]. Таково условие научного описания системы: оно не изоморфно ее феноменологическому опыту.
Тогда, по Лефевру, следует говорить о противоречии картин мира объекта-наблюдателя и наблюдаемого объекта. «Феномен психики» возникает как характеристика особого класса объектов, чье «совершенство» соразмерно наблюдателю или превосходит его, а изучение опирается на «незаконную измерительную технику». Психика оказывается «смонтированной» из особой «субстанции», оставаясь чисто функциональной абстракцией, сводящей воедино «духовную» и «материальную» феноменологию [Лефевр, 1973: 8]. Разграничение последних всегда производится изнутри конкретной инженерной задачи. Редукция психики к физическим проявлениям частично вызвана «кибернетической идеологией», которая «на некоторое время стерла различие между человеком и машиной. Человека стали рассматривать или как некоторый “вход в систему”, или как “информационный фильтр”. Этот подход, несмотря на свою эффективность, при решении многих задач не позволял учесть одной особенности человека. Человек обладает психикой… <…> как правило, инженеру, получившему образование в новое время, идея реальности духовной феноменологии чужда» [Лефевр, 1971: 12].
Это отличает Лефевра от объективистской позиции философа-постгуманиста Резы Негарестани, который, следуя Гегелю, постулирует фундаментальным уровнем анализа Абсолют, не имеющий ни пространственной, ни темпоральной локализации, хотя и наполняющий собой пространство-время как структуры чистого созерцания. Ингуманизм, по Негарестани, должен анализировать человека как прототип ИИ и разумной машины: «именно создав искусственного агента, способного не только самостоятельно говорить с нами, но и общаться с другими искусственными агентами, обладающими такой же способностью, мы сможем одновременно развенчать природу языка и признать его незаменимую — пока еще не до конца осознанную — роль в освобождении интеллекта от оков его контингентной истории» [Negarestani, 2019: 88]. Абстракционизмы Лефевра и Негарестани основаны на инженерном прагматизме и абсолютизме чистого понятия. Признание легитимности изучения «духовной субстанции» в объектах, превышающих в сложности наблюдателя, приводит к тому, что человек находится скорее на периферии, чем в ее верхней точке.
Максимума интенсивности психическое достигает в «космических субъектах» — самоорганизованных объектах, чьей материальной основой становятся магнитно-плазменные образования, родственные магнитосферам планет и звезд. Электромагнитные процессы в таких объектах аналогичны тем, что передают сигналы по нервным системам организмов, распространяя их вдоль магнитных силовых линий [Лефевр, 2003: 153–154]. Проблемой становится перенос психических процессов, знакомых человеку, на такие сложные системы.
Очевидно, что проецирование «схемы психики» происходит через самого исследователя: одушевленное познает другое одушевленное. Рефлексия определяется как способность встать на позицию наблюдателя по отношению к своим или чужим действиям, мыслям и телесным проявлениям. Рефлексивные процессы представляют собой феномен, который определяет специфику взаимоотношений объектов-исследователей. Рефлексивная система уподобляется Лефевром системе зеркал, отражающих друг друга. В преломлении множества отражений можно увидеть и фигуру наблюдателя; он всегда часть наблюдаемого процесса, его персонаж, как и другие объекты-соучастники.
Лефевр — сторонник идеи объективного изучения субъективных процессов посредством их формальной фиксации в особом математическом языке: «Основную задачу мы видим в нахождении специфического и стандартного языка для описания внутреннего мира оператора и смен картин этого мира в результате актов рефлексии. Язык должен обладать двумя особенностями. С одной стороны, отражать некоторые черты информационного процесса, протекающего в большой системе, иначе он окажется непригодным как вспомогательное средство проектирования автоматизирования больших систем. С другой стороны, этот язык должен позволить исследователю хотя бы в какой-то мере становиться в позицию оператора, позволить увидеть хотя бы некоторые черты той картины мира, которая лежит перед ним. Таким образом, необходим особый конфигуратор, позволяющий объединить “интроспективную феноменологию” и техническую» [Лефевр, 1971: 3–4].
В другой работе он утверждает: «двигаясь по рациональному пути и пытаясь постигнуть самих себя, мы не должны ограничиваться напряженным всматриванием в глубины своего сознания. Мы должны создать отделенный от себя портрет, превратить себя в некоторую вещь, которую можно рассматривать отстраненно» [Лефевр, 1973: 145].
По его мнению, существует формальное сходство между рефлексивными процессами и рекурсивными функциями. Сознание возвращается к самому себе, что означает: оно инвариантно относительно переживаний, ощущений, мыслей или эмоций. Инвариантность формирует объективированную структуру, обладание которой отличает психические объекты от прочих. Объект, наделенный психикой, способен осознавать себя, выстраивая модели своих и чужих внутренних состояний.
Моделирование аналогично вложенным друг в друга функциям, где «вложенная» функция выступает аргументом для «обрамляющей» ее; сознание описывается рекурсивными функциями описания-конструирования объектов. Кибернетик и философ Хайнц фон Ферстер назвал такие функции собственными функциями (eigenfunctions), а порождаемые ими формы – собственными формами (eigenforms) [von Foerster, 2003]. Собственная функция может быть применена к самой себе, становясь функцией функции и т.д., а собственная форма — это то, что производится в таких метаморфозах структур [Гаспарян, 2018; Kauffman, 2009].
Сознание — это собственная форма, поскольку всегда возвращается к себе как к инварианту сквозь серию преобразований, это устойчивая структура в потоке ощущений и опытов. Согласно Юку Хуэю, это функция, которая вызывает себя на каждой итерации до тех пор, пока не будет достигнута остановка процесса — не будет найден некий итоговый объект в зависимости от контекста инженерной задачи [Хуэй, 2020: 21]. Это циклическое возвращение того же самого на новых витках развития, которое определяет себя через повторяемость. Она характерна для нелинейных органических систем и отличает их от линейных автоматов, одновременно даруя возможность телеологического самополагания.
Вместе с тем эта телеология может быть вписана в формальную структуру научного описания объектов, наделенных психикой. Лефевр стремился описать условия свободного действия, которые при этом совпадали бы с налагаемыми на него ограничениями. Описать свободу значит описать операторы, которые накладывают границы на действия системы и помещают ее в фиксируемые и контролируемые условия. Такие операторы Лефевр называл операторами осознания: многочленами, преображающими системы и дающими им способность динамически переходить из одного состояния в другое. Тем не менее эти операторы скорее налагают предел свободе системы [Щедровицкий, Лефевр, 2006: 10]. Переход состояний не позволяет системе действовать, как ей захочется. В описании вычленяются инвариантные траектории поведения, которым объект следует как имманентным необходимостям. Оператор осознания производит рефлексивное замыкание: объект мыслит себя только в тех категориях, которые были заданы ему оператором. Здесь неизбежность работает как ограничитель свободы, а описание ограничений есть единственный способ описать свободу как таковую. Так понятие из манифестного образа переходит в научный образ и объективируется, не теряя своего значения.
Последовательность актов осознания, рекурсивно вложенных друг в друга, образует структуру мыслящей системы. Лефевр уподобляет ее последовательности термодинамических машин, где тепло, отдаваемое одной машиной, разогревает другую машину, позволяя той осуществлять свою работу. Термодинамическая аналогия позволила Лефевру заявить, что задача разума в космологической перспективе — это преодоление энтропии [Лефевр, 2003: 290]. За этим очевидно космистским тезисом скрывается стремление показать, что материальной природе изначально присуще стремление к самоосознанию. Чтобы прояснить это, я проанализирую один из ранних текстов Лефевра.
Лефевр считает, что, начиная с 40-х годов XX века, средства представления технических устройств стали использоваться как средства изображения объектов. Как он пишет в статье 1965 года «О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их исследовании», на которой мы сконцентрируемся далее, следует различать представление объекта как системы и конструирование системы по проекту. Это значит: одно дело изображать объект как имеющий системность, состоящий из определенных составляющих, переплетенных согласно логической форме, делающей наглядные связи необходимыми для существования этого объекта; и другое — конструировать объект согласно некоторой инструкции [Лефевр, 1965: 62].
Можно по-разному расчленять одну и ту же вещь в зависимости от имеющихся задач. Причем «трафареты», «сквозь» которые объект рассматривается, могут изменяться исторически или от одной научной культуры к другой. Каждый «трафарет» делает свою проекцию одного и того же объекта, и они могут оказаться несовместимыми друг с другом. Объект как система расчленяется на элементы, и эта расчлененная форма проецируется на плоскость. Системное видение предполагает наличие у наблюдаемого объекта структуры, элементов и связи между элементами — как целого или как совокупности составных частей, связи между которыми образуют структуру. Отображение объекта как системы должно фиксировать связи и отношения, которые могут превратить сочлененные и контингентно связанные друг с другом элементы в органическую целостность, где все элементы гармонично соотнесены друг с другом в общем функционировании объекта.
Расчленение никогда не производится из ниоткуда. Оно соотносится с определенным стандартом. Используется определенная система измерений, с которой соотносится объект как исследуемая система, и исходя из нее расчленяется на составляющие. Например, в метрической системе объект состоит не из тех же самых элементов, чем если бы он измерялся футами или дюймами. Физика видит объект иначе, чем химия: они нарезают его на разные составляющие, упорядоченные согласно разным принципам.
Согласно Лефевру, расчленение объекта может стать общепринятым, превращаясь в самоочевидность: тогда при анализе способ членения неотделим от самого объекта и воспринимается не как инструмент познания, а как имманентное объекту. Даже «объект как таковой» является системным представлением с позиции исследователя. Новые задачи предполагают новые способы членения объекта в рамках системного видения. Получается, что в разных контекстах объект конструируется по-разному, когда из выделенного набора деталей, согласно схеме, собирается вещь, соответствующая определенному проекту. Например, видение организма как состоящего из органов и тканей кажется чем-то самоочевидным, и нам трудно представить себе другое членение органического тела, скажем, как упорядоченного газа.
Лефевр вводит понятие особой фигуры демиурга в своей онтологии, к которому он вернется в позднейшей работе «Что такое одушевленность?» 2012 года. Конструктор объекта, как демиург, следуя определенному идеалу, вылепляет из материала вещь, которую затем можно именовать и исследовать. Конструктор овеществляет схему в материале, воссоздавая в нем определенную структуру. Эту структуру можно перерисовать, и так мы получим схему, в которой просматриваются составляющие элементы объекта. Исследователь должен заимствовать проект конструктора и использовать его в качестве средства системного представления. Получить схему автомобиля значит зафиксировать в изображении структуру, которую наблюдатель в ней увидел и счел подходящей его задачам.
Кто же здесь конструктор, а кто исследователь? Конструктор — это механизм, который реализует проект объекта, структурируя его материал. «Должен ли “конструктор” с необходимостью быть человеком (или его порождением)? У нас нет оснований для признания такой необходимости. “Конструктором” может считаться любой механизм, который реализует некоторый проект, структурируя некоторый материал» [Лефевр, 1965: 63]. Он создает объект, осуществляя выбор между всеми возможными структурами и выбирая только одну из распределенных возможностей. Он решает, какая именно возможность актуализируется. Из множества возможных структур он выбирает ту, которая впоследствии будет удерживающей внутренней силой, сцепляющей объект как целое. Именно ее исследователь срисовывает как системность объекта, где наносимая средствами системного представления схема реферирует к изначальной, предположительно адекватно наблюдаемой в картине мира исследователя структурированности.
Отсюда выводится понятие организующейся системы. Это система двух элементов, где один из элементов структурирует второй в соответствии с проектом. Он наделяет структурой другой элемент на основе имеющейся в его распоряжении инструкции.
Организованность, которую наблюдает и срисовывает исследователь, называется системностью — тем порядком, который наблюдатель способен считать и зафиксировать располагаемыми им средствами. Между организованностью и системностью имеют место неравноправные отношения. Организованность — это то, что один элемент получает от другого, это его характеристика как элемента целого, но не всей системы как таковой. Организованность он получает «толчками» детерминирующего элемента, с которым он связан отношением зависимости. Организованность дается проектом, который как бы впечатывается в элемент системы, придавая ему определенную форму и определяя его необходимое местоположение и функциональность в контексте целостного существования системы.
Напротив, системность — это то, что наблюдатель способен углядеть в процессе структурирования, привнесения организации, что доступно его взору и что он способен зарисовать в своей схеме. Организованность зависит от элементов системы, системность — от средств системного представления. Системность наследует ограничения изобразительных средств, организованность, по сути, ограничивается разве что возможностями структурируемого материала, его пластичностью.
Что собой представляют системы, где конструктор структурирует всю систему как целое? Система, где один из элементов работает как проект целого — самоорганизующаяся, в ней особый механизм-конструктор структурирует целое по образцу проекта. Представим себе систему, в которой один из элементов занимает такую регулирующую позицию. Тогда система, со всеми ее составляющими и связями между ними, определяется активностью конструктора. Структура целого порождается реализацией проекта.
Средства изображения такой системы должны ориентироваться на стандарт изображения, позаимствованный из самой системы. Нужны средства схематизации системы, извлеченные из нее самой и ее самоорганизующего принципа. Алгоритм здесь прост: (1) нужно выделить из системы ее проект — системность, которая доступна пониманию исследователя; (2) включить проект в арсенал средств системного представления; (3) рассмотреть систему с точки зрения самой этой системы — где точка зрения системы имитируется через заимствование проекта конструктора.
В свою очередь, система, где один из элементов отображает целое, работает как внутреннее зеркало системы, в котором она может увидеть себя, называется рефлексивной системой. В сущности, это означает, что самоорганизация связана с работой конструктора, который наделяет структурой связанную с ним систему и играет роль органа ее рефлексии. В книге «Что такое одушевленность?» [Лефевр, 2012: 13‒16] Лефевр утверждает, что в случае органической жизни роль конструктора выполняет сознание. Сознание появляется здесь совсем не случайно. Одушевленность, субъективность, витальность возникают как элементы упорядочивания систем и одновременно искомые характеристики класса систем как целостных формирований.
Так мы можем разграничить физические и психические системы. Физические системы — это системы, связи между элементами которых сильнее, чем их связи с элементами среды. Представим себе траекторию движения физического тела в рамках теории динамических систем. Некоторые траектории движения могут быть неустойчивыми. Малейшее воздействие на тело приводит к изменению его траектории; им может быть исчезающе малое воздействие, остающееся за бортом поля наблюдаемости.
Тогда можно предположить, что физическое тело оснащено идеальной компонентой — малой силой, которая подталкивает его в движении по фазовому пространству, направляет его движение от одного состояния к другому. Эта сила детерминирует поведение объекта в точках неустойчивости двояким способом: она генерирует распределение вероятностей и переводит тело в новое состояние в соответствии с этим распределением. Лефевр назвал эту силу эйдос-навигатором, продолжая, по его мнению, интуиции философии Платона и Аристотеля [Лефевр, 2010: 25]. В точке, где движение физического тела становится неустойчивым, появляется пучок возможных движений, некая виртуальность возможных состояний системы. Детерминирующая сила называется навигатором, она задает распределение вероятностей перехода к новым состояниям и производит выбор траектории, оказывает на тело бесконечно малое воздействие — идеальное, эйдетическое.
Навигатор участвует в динамическом процессе, когда в нем возникают точки неустойчивости и процесс становится недетерминированным. Таким образом, эйдос-навигатор — это производитель вероятностных распределений и бесконечно малых толчков, направляющих эволюцию состояния тела. Каждому телу соответствует только один навигатор, чье функционирование соответствует минимальному сознанию объекта.
Это и есть конструктор объекта как самоорганизующейся системы, служащий ее органом рефлексии. Одушевленным может быть любое тело, имеющее по крайней мере одну особую точку бифуркации, в которой его поведение не детерминировано. Степень одушевленности зависит от сложности соответствующего физического процесса. Живой организм — это клубок физических процессов с большим количеством точек неустойчивости.
Такое видение применимо и к человеку как единице эволюции в фазовом пространстве. У человека есть материальное тело. У этого тела есть эйдос-навигатор. В навигаторе идет идеальный физический процесс. Этот процесс есть сознание человека. Сознание обладает структурой и функциональной организацией физического процесса, это форма существования идеального процесса.
По словам Лефевра, гипотеза конструктора = эйдос-навигатора придерживается дуалистического видения, но при этом не нарушает законов физики: сознание воздействует на тело только тогда, когда оно находится в неустойчивом состоянии и для изменения его состояния достаточно бесконечно малого воздействия; это воздействие ненаблюдаемо, оно проявляет себя в эффектах типа смены состояния в точках бифуркации. Функция эйдос-навигатора — порождение распределения вероятностей и стремление к росту числа точек, в которых возможно ветвление динамических траекторий, а также увеличение возможностей детерминации поведения тела без нарушения законов природы.
Мир, согласно Лефевру, можно воспринимать как живое и непредсказуемое единство. Внутри живой материи ее оживляет основополагающий принцип — нематериальное ядро. Это ядро становится наблюдаемым, когда оно взаимодействует с физической материей, вызывая изменения в ее форме или структуре. В кантовской философии существует понятие Bildungstrieb, отсылающее к склонности к формированию или развитию [Беннет, 2018: 93]. Если верить исследовательнице Джейн Беннет, это нематериальная сила, которая придает материи согласованность, где каждый компонент влияет на другие и находится под их влиянием. Однако у Bildungstrieb есть свои ограничения. Оно не может привести к появлению новых сущностей, которые значительно отклоняются от устоявшихся эволюционных путей. Прежде чем организм обретет форму, существует богатое разнообразие или «интенсивная множественность», которая формирует основу для его последующей дифференциации.
С точки зрения такого «панпротопсихизма», все что угодно, будь то Земля в рамках гипотезы Геи, мыльные пузыри, трещины в твердых телах, черные дыры, Солнце, галактики или туманности, обладает некоторой степенью осознания. Реальный вопрос заключается не в наличии или отсутствии познания в системе, поскольку оно присуще каждой системе. Вместо этого вопрос касается степени или глубины этого осознания. Каждый физический объект обладает массой, но вопрос заключается не в том, существует ли она, а скорее в том, какова она. В определенных теоретических ситуациях можно было бы утверждать о наличии «нулевой степени» познания — как, например, в иммунологии Франсиско Варелы [Varela, 1994], биогенном или панкогнитивистском подходе в когнитивной науке [McGregor, 2018] или онтологическом полипсихизме Грэма Хармана [Harman, 2009]. Однако обнаружению аналогов концепции Лефевра в современной философско-научной мысли следует посвятить отдельное исследование3.
1 Скажем, для Катерины Колозовой основа киборгической диады животное/машина, через которую она определяет человека, проявляется как долингвистическое, лишенное рационального смысла перво-Я, недоступное философскому осмыслению [Kolozova, 2020]. Для Маргрит Шилдрик это висцеральные протезные технологии, расширяющие изначально проницаемые и уязвимые биомедицинские тела [Shildrick, 2015]. Для Марка Хансена это экологическая агентность современных технологий, работающих в фоновом режиме и конструирующих человека как феноменологический осадок своего функционирования [Hansen, 2017].
2 Здесь стоит оговориться, что отношения между манифестным и научным образами значительно сложнее и отнюдь не исчерпываются простым противопоставлением – как не противопоставлены друг другу жизненный мир и мир математических абстракций в феноменологии. В этом смысле нельзя говорить о манифестном образе, который не был бы «затронут» научными истинами, «осевшими» в них — как и научная экспликация, несмотря на надежды на построение «универсального языка науки», обращается к смеси повседневного языка и терминологического дискурса. С одной стороны, трудно отрицать генетическую преемственность научного и манифестного образов; с другой, кажется очевидным факт постепенного проникновения научных объяснений в наши повседневные самоописания.
3 Стоит выделить и несколько аргументов против ингуманизма, на которые указал анонимный рецензент данной статьи. Первый состоит в том, что сам статус неприуроченности известного нам познавательного процесса к нам самим не может пройти аподиктическую проверку и в принципе не может быть аподиктическим. На это можно ответить отсылкой к понятию контингентности Квентина Мейясу. Его метафизический подход предполагает равновозможные необходимость и не-необходимость того или иного способа представления мира субъекта («корреляции»); соответственно, мы можем представить себе как большую, так и меньшую степень приуроченности картины мира субъекту, чему соответствует амбиция собственно спекулятивного реализма — говорить о возможном и невозможном как равных виртуальных возможностях. Метафизика здесь предшествует теории познания. Второй аргумент, вытекающий из первого, состоит в том, что моделирование представлений, которые превышают «наши» представления, грешат нерелевантностью «мета-априорных» гипотез, как если бы говорили «иная логика», «другое время\пространство». Насколько я понимаю, здесь можно возразить, вновь сославшись на силу контингентности, которая, как следствие, открывает пространство чистой спекуляции, где буквально возможно что угодно. Наконец, третий аргумент состоит в том, что представление об Истине может рассматриваться как экзистенциальная ценность, и выведение ее из-под феноменологического влияния не сработает. Однако же у того же Негарестани можно найти развернутые экспликации по поводу внечеловеческой аксиологии, которая определяется не столько экзистенциально, сколько рационалистически.
Sobre autores
Maxim Miroshnichenko
Higher School of Economics
Autor responsável pela correspondência
Email: jaberwokky@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1374-1599
Cand. Sc. in Philosophy, Researcher, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities
Rússia, MoscowBibliografia
- Bennet J. Pul’sirujushhaja materija: politicheskaja jekologija veshhej [Vibrant Matter: The Political Ecology of Things]. Perm': Gile Press Publ., 2018.
- Wolfendale P. Racionalisticheskij ingumanizm [Rationalist Inhumanism]. Braidotti R., Hlavajova M. Postchelovek: glossarij [The Posthuman Glossary]. Moscow: Garazh Publ., 2023.
- Gasparyan D. Jazyk kak sobstvennaja forma (Eigenform) i rekursija oznachajushhih [Language as Eigenform and the Recursion of Signifiers]. Filosofskie nauki. 2018. N 8. P. 125‒143.
- Lefevr V.A. O samoorganizuyushchihsya i samorefleksivnyh sistemah i ih issledovanii [On Self-organizing and Self-reflexive Systems and their Study]. The problems of studying systems and structures: Conference proceedings. Moscow: Akademija Nauk SSSR Publ., 1965. P. 61–68.
- Lefevr V.A. Inzhenerno-psihologicheskie aspekty issledovanija refleksivnyh processov [Engineering-psychological Aspects of the Study of Reflexive Processes]. Moscow: Moscow State University Publ., 1971.
- Lefevr V.A. Konfliktujushhie struktury [The Conflicting Structures]. Moscow: Sovetskoe radio Publ., 1973.
- Lefevr V.A. Kosmicheskij subject [Cosmic Subject]. Moscow: Kogito-Center Publ., 2003. P. 135‒310.
- Lefevr V.A. Chto esli Platon byl prav? [What if Plato was Right?]. Refleksivnye processy i upravlenie. 2010. Vol. 10, N 1‒2. P. 23–32.
- Lefevr V.A. Chto takoe odushevlennost’? [What is Mentality?]. Moscow: Cogito Center Publ., 2012.
- Metzinger T. Tonnel’ Jego: nauka o mozge i mif o svoem Ja [The Ego Tunnel. The Science of the Mind and the Myth of the Self]. Мoscow: AST Publ., 2017.
- Hui Y. Rekursivnost’ i kontingentnost’ [Recursivity and Contingency]. Мoscow: V—A—C Press Publ., 2020.
- Shchedrovitsky G.P. Refleksiya i Lefevr. Iz doklada G.P. Shchedrovitskogo na seminare MMK (1972 g.) i kommentarij V.A. Lefevra [Reflexion and Lefevr. From G.P. Shchedrovitsky’s Report at the MMK Seminar (1972) and V.A. Lefevr’s Commentary]. Reflexive Processes and Management. 2006. Vol. 6, N 1. P. 5‒11.
- Brassier R. Nihil Unbound. L.: Palgrave Macmillan, 2007.
- Brassier R. Prometheanism and its Critics. #Accelerate: The Accelerationist Reader. Ed. by R. Mackay, A. Avanessian. Falmouth, Berlin: Urbanomic, 2014. P. 467–488.
- Churchland P.S. Touching a Nerve: The Self as Brain. NY, L.: W.W. Norton & Company, 2013.
- Foerster H. von. Understanding understanding: Essays on cybernetics and cognition. NY: Springer, 2003.
- Hansen M. The Media Entangled Phenomenology. Philosophy after Nature. Ed. by R. Braidotti and R. Dolphijn. L., NY: Rowman & Littlefield, 2017. P. 73–98.
- Harman G. Zero-Person and the Psyche. Mind That Abides: Panpsychism in the New Millennium. Ed. by D. Skrbina. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2006.
- Kauffman L. Reflexivity and Eigenform: The Shape of Process. Constructivist Foundations. 2009. Vol. 4, N 3. P. 121–137.
- Kolozova K. Capitalism’s Holocaust of Animals: A Non-Marxist Critique of Capital, Philosophy and Patriarchy. L., Bloomsbury Publishing, 2020.
- McGregor, S. Cognition is not exceptional. Adaptive Behavior. 2018. Vol. 26, N 1. P. 33–36.
- Negarestani R. Intelligence and Spirit. Urbanomic/Sequence Press, 2019.
- Negarestani, R. The Labour of the Inhuman. #Accelerate: The Accelerationist Reader. Ed. by R. Mackay, A. Avanessian. Falmouth, Berlin: Urbanomic, 2014. P. 425–466.
- Parisi L. Contagious Architecture: Computation, Aesthetics, and Space. L., Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2013.
- Shildrick M. Why should our bodies end at the skin? Embodiment, boundaries, and somatechnics. Hypatia. 2015. Vol. 30, N 1. P. 13–29.
- Varela F.J. A Cognitive View of the Immune System. World Futures: Journal of General Evolution. 1994. Vol. 42. N 1–2. P. 31–40.