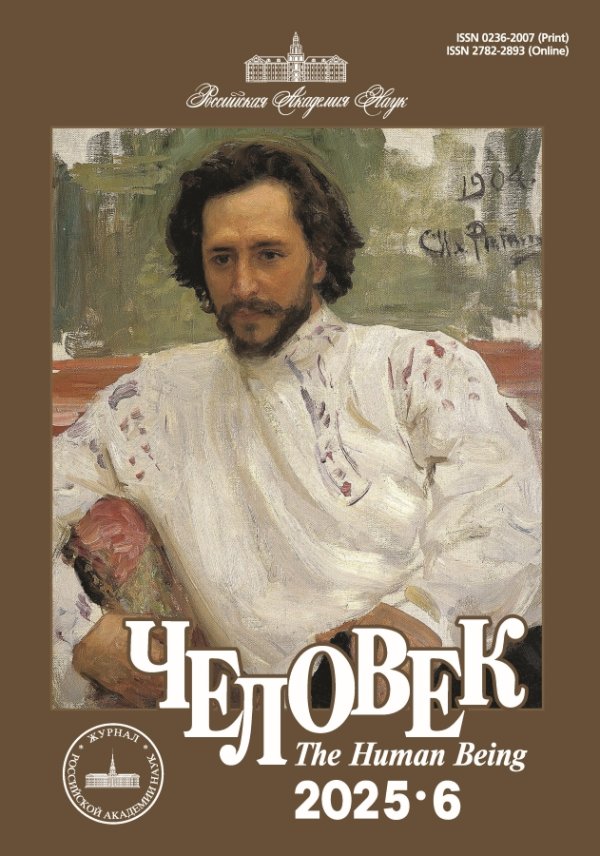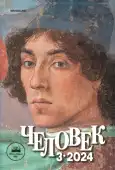Homo рictor in the anthropological dimension
- Authors: Krutkin V.L.1
-
Affiliations:
- Udmurt State University
- Issue: Vol 35, No 3 (2024)
- Pages: 157-177
- Section: Symbols. Values. Ideals
- URL: https://medbiosci.ru/0236-2007/article/view/259614
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724030106
- ID: 259614
Full Text
Abstract
A drawing is a graphic artifact; it is formed on a plane as a figure, from connected lines, dots, strokes and spots. The article examines the anthropological role of such artifacts in history. As a new species, man creates an artificial reality from objects, acting as Homo faber. On the basis of signs, he creates a language and acts as Homo symbolicum. Based on images, he forms systems of images that allow him to express emotions and feelings, acting as Homo pictor, or “the мan drawing”. The identified spheres intersect in reality, but for research purposes they can be differentiated. The article considers drawing as a media, as a mediator in the processes of perception and expressive activity. The ability of people to create things is associated with a counter movement, when things change a person, these processes give rise to a practical expansion of the sphere of contacts with the world, the process of expanding the mind. A phenomenological consideration of images involves studying the influence of human corporeality on the practices of producing graphic artifacts. Here, a person’s encounter with the world begins with the touch of a pencil to paper. A drawing made of lines and dots is not a copy of an object, it is a version of the thing made from special materials. The purpose of the article is to expand the panorama of the anthropological vision of man, to reveal the connections between the characteristics of Homo рictor and other features of Homo sapiens — the transformation of the objective world and the transformation of oneself. Images play an important role in the formation of visual media in culture, in the development of visual thinking, the processes of mastering the space and time of the life world, and the development of individual reflection. To study drawing is to study our speech about drawing, to study drawing as thinking.
Keywords
Full Text
Человека в истории мы находим окруженным различными артефактами, к их числу можно отнести и рисунки — искусственные конструкции на плоскости, состоящие из графических линий, штрихов, пятен, точек. Способность создавать и рассматривать изображения относится к одной из загадочных черт нашего вида, этого нет у эволюционно близких к нам существ.
Рисование дает о себе знать уже на заре культуры, но в близкие к нам эпохи навыки работы с изображениями будут объединяться с грамотностью, умением считать, мастерством пения, танца, рассказывания историй и т.д. Когда мы говорим «рисунок», то в этот тип изображения включаем не только монохромную графику, но и расширительно все то, что на ее основе со временем появляется, — живопись, фотографию, фильм и т.д. Рисование у современных художников перестает ассоциироваться с фигурами на двухмерной плоскости, такие фигуры получают место в объемном пространстве — тем самым стираются границы между рисованием, скульптурой, фотографией, танцем и т.д.
Рисование разворачивается в жизненном мире. И не стоит автоматически возводить такого рода деятельность к достижениям высокого духа. Область духа — это смысловые миры, а смыслы бывают разными. Рисование — это и каракули учеников на полях учебных конспектов, и буйство любителей граффити в подворотнях городов, и отчаянные усилия почитателей тату по орнаментации своей кожи чернилами. Люди преследуют смысловые значимости, и такие значимости, как можно видеть, подвергаются рационализации в разной степени.
Человек окружен миром природы и культуры. В эпоху модерна сложилась привычка думать, что искусственные предметы — это прежде всего инструменты. Важное замечание на этот счет сделал французский антрополог А. Леруа-Гуран: «Человеческая фактичность по преимуществу состоит не столько в создании инструментов, сколько в одомашнивании времени и пространства, то есть в создании человеческого времени и пространства» [Leroi-Gourhan,1993: 313]. Пространство и время — важнейшие измерения жизненного мира. Они не просто примыкают к физическим реальностям, а создаются здесь заново; они сотканы из инициатив людей, их потребностей и желаний; они насыщают жизненный мир новыми определенностями, которые предполагают готовность людей им же следовать. Пространство и время, наконец, несут в себе особую принудительную силу. Люди находят себя в мире, который ими же создается и обновляется. Жизненный мир пронизан такими объективациями и субъективациями.
По словам Х. Тилли, «быть человеком означает одновременно создавать расстояние между собой и тем, что находится за его пределами, и пытаться преодолеть это расстояние с помощью различных средств — через восприятие (зрение, слух, прикосновение), телесные действия и движения, а также интенциональность, эмоции и осознание, находящиеся в системах веры и принятия решений, памяти и оценки» [Tilly, 1994: 17]. Рисование — один из способов установления и преодоления таких расстояний.
Первые рисунки открыты археологами в культурных слоях позд- него палеолита. Древность изображений позволяет соотносить процесс рисования со становлением человека как вида. Рисование опирается на практические инициативы людей и материалы природы. Изображения связаны с такими факторами вещного мира, которые всегда под рукой, — глина, дерево, камень, уголь, мел. Здесь под рукой не только материалы природы, но и само тело человека в обличье разных техник его (тела) использования. Материалы природы применяются в роли медиа, они способны оставлять следы, когда люди создают подходящее пространство для таких следов.
М.-Ж. Мондзен считает, что во времена палеолита обозначился вид, которому предстояло стать человеком. Преобразованию подлежало тело, которое будет не только более подвижным, но и самым хрупким и наименее интегрированным организмом в своей естественной среде обитания. Жесты прежнего существа оказывались абсолютно непригодными «с того самого момента, когда рука и рот начинали служить другому голоду, голоду символов и знаков» [Mondzain, 2010: 308]. Человек вписывался в мир, полагает исследовательница, не по законам природы, но посредством символических операций. Операции по созданию образов делали это вписывание возможным. Пещерные росписи превращали людей в зрителей с новой ролью говорящих и желающих субъектов. По мысли Мондзен, мы видим мир не потому, что у нас есть глаза. Недостаточно просто открыть глаза, чтобы увидеть нечто. Человеческому глазу нужны медийные опоры, смысл которых — быть промежуточными звеньями.
Как показал в своей теории восприятия Д. Гибсон, восприятие опирается не просто на открытые глаза — здесь нужна голова, которая может поворачиваться на шее, нужен мозг, чтобы ориентировать тело [Гибсон, 1988]. У нашего восприятия есть руки и ноги. Рисунок — это телесно организованные медиа именно с такой функцией — быть опорой зрению. Рисунок в жизненном мире — это не цель, но медиа. История в поздние по сравнению с палеолитом времена найдет много применений для подобных практик. В техническом проектировании и архитектуре станет очевидной роль последних в моделировании, в религии раскроется эффект особой магии изображений в опыте откровения, в изобразительном искусстве проявится эстетическая выразительность образа, в психологии будет осваиваться ресурс изображений для развития языка, памяти и воображения, в рекламе будет открыт эффект влияния изображений на процент продаж.
Нас интересует антропологический смысл рисования. Как способность создавать изображения связана с более известными характеристиками, какие отображаются в абстракции Homo sapiens? В ней обобщаются важные черты человека — данный вид создает искусственную реальность из артефактов, создает на базе знаков язык, позволяющий развивать мышление, создает системы образов, дающих возможность развивать эмоции и чувства.
Основные гипотезы, касающиеся проблемы происхождения рисования, будут связаны с анализом отношений между сторонами в треугольнике, который составляют знаки, образы, артефакты. Одна из трудностей задачи заключается в том, что, говоря о повседневности, мы часто некритично пользуемся языком повседневности. Чтобы вести речь о рисовании, понадобится критичность в этом отношении. Согласно обыденному традиционному взгляду, рисовальщик сначала мысленно проецирует на бумагу образ, который сформировался в его сознании, затем физически прослеживает объективированные контуры в рисунке. Такой взгляд приводит к вычислительной модели разума, в его основе угадывается работа компьютера, занятого внутренней обработкой информации с целью выдачи команд. Здесь мозг и нервная система выступают границами интеллекта. Задача, которую ставят перед рисованием, — это «отражение реальности». В повседневном обиходе такое выражение, видимо, приемлемо, но для научного подхода нужно определиться, что именуется «реальностью». Конечно же, нарисованный дом в чем-то «похож» на дом, который рисовальщик лицезрел и потом вспоминал, о котором грезил. Но тогда в объем «реальности» нужно включать, кроме самого строения, все мысли, эмоции и чувства рисовальщика, тип культуры, который он усвоил. Рисунок — это не копия предмета, скорее его версия. Это продолжение физического мира особыми средствами. Рисунок не отражает реальность, он делает какие-то части реальности видимыми. После талантливого рисовальщика или фотографа видимый мир «прирастает» в своем объеме.
К разряду метафор относится и понятие «образный язык». Всякий язык регулируется словарем и грамматикой, но в рисунке мы находим линии и точки, штрихи и пятна. Ряд соображений говорят в пользу тезиса о том, что образы вообще имеют принципиально неязыковую природу. Немалое число исследователей, тяготеющих к педагогике, предлагают рассматривать рисование как одну из ветвей мышления, поясняя, что это «образное мышление». Отведение мышлению центральной роли — это характерная установка общества модерна, воодушевленного научным познанием и промышленным покорением природы. Здесь приходят к такому пониманию разума человека, поскольку логическое познание доминирует. Чем же тогда является рисование? Здесь его тоже считают мышлением, даже готовы подобрать классы задач, которые будут подлежать решению. Если мышление — это деятельность, в которой решаются какие-то задачи, то такая деятельность должна ориентироваться на получение истины. Однако все изображения избирательны, в них что-то включают из предмета, а что-то из него исключают. «Неистинность — одно из главных онтологических качеств изображения» [Ямпольский, 2019: 21], — полемически замечает М. Ямпольский. Повторим еще раз: необходима ревизия наших «речей» о рисовании. Отмеченные примеры подчеркивают важность критической работы с понятиями.
Графические артефакты древних пещер давно привлекают внимание ученых. А. Леруа-Гуран — один из классиков антропологии ХХ века, автор многих работ по культуре палеолита, в их числе — фундаментальный труд «Жест и речь» [см.: Leroi-Gourhan, 1993]. Упомянутая книга содержит важные подходы, касающиеся ответов на вопросы о становлении вида Homo sapiens. В частности, Леруа-Гуран показывает, что орудийное поведение — не монополия человека. Животные тоже используют орудия, они весьма виртуозно управляются рогами и копытами, крыльями и плавниками, клыками и когтями. В отличие от нас, инструменты животных слиты с их телами. Человек, выбравший вертикальное хождение, которое освободило руки, способен отделять инструменты от своего тела. На первый план выдвигается особая роль руки в функции жеста.
Жестом начинается цепочка операций с предметами. Жест выступает не только выражением знаний и переживаний, эмоций и чувств, но и их осуществлением. Техника есть одновременно инструменты и жесты, организованные в определенной последовательности, — такой синтаксис придает сериям действий как стабильность, так и гибкость [ibid.: 231–233]. С возможностью отделения инструментов от тела развиваются мотивирующие жесты, раскрывается их коммуникативный потенциал. Формируются указательные и иконические жесты. Зрение и речь связываются с артефактами — изображениями и словами. Артефакты складываются на основе жестов нового существа. По мнению Леруа-Гурана, следует преодолевать деление культуры на духовную и утилитарную. В частности, «всякое искусство утилитарно: скипетр, символ королевской власти, посох епископа, любовная песня, патриотический гимн, статуя, в которой власть богов выражена материально, фреска, которая напоминает прихожанину ужас ада, — все это имеет практическое значение» [ibid.: 363]. Привлекая идею жеста, Леруа-Гуран показывает, что инструменты и тела глубоко «прорастают» друг в друга. Выходя за рамки задачи адаптироваться к ситуации, жесты способны создавать свою ситуацию.
Жест — не вид языка, это часть любого языка. Наш вербальный язык опирается на артикуляционные жесты. Было бы неверно видеть в жесте только архаическое наследие и тем самым постулировать дуализм телесного и интеллектуального. Ведь, по словам Т. Ингольда, «интеллект лежит в жесте самом по себе, как совместная деятельность человеческого существа, инструмента и сырой материальности» [Ingold, 1999: 413]. Такое замечание тем более важно, что интеллектуальная активность не ограничивается сферой рациональной. Это сегодня не всегда учитывают в разработках искусственного интеллекта.
А. Дамасио, развивая экологический подход к исследованию эмоций и чувств, не противопоставляет тело человека эмоциям и чувствам. Карты и схемы нейронных сетей, лежащие в основе действий человека, создают базу эмоций и чувств, решают задачу гомеостаза, образуют основу того, что традиционно именовалось душой и духом, — здесь, по мысли ученого, складывается база эмоционального и рационального интеллекта [Дамасио, 2018]. Схемы, карты, паттерны человеческих намерений обычно развиваются на уровне нервной ткани в форме химических и электрических процессов. Но карты, схемы и паттерны могут быть объективированы вовне в форме действий, конфигураций речи, жестов и движений, приводящих в том числе и к изображениям. В прикосновении карандаша к бумаге жесты превращаются в точки, линии, штрихи, пятна. Изображения — это вынесенные вовне паттерны восприятия, опирающиеся на движения руки. Жест мы находим в практических действиях, у истоков речи, в действиях с изображениями.
А. Леруа-Гуран считает, что у древних истоков культуры роли руки и лицевых органов (отвечающих за вербальный язык) были относительно уравновешены. Непосредственно перед появлением Homo sapiens рука начала играть более заметную роль в создании графического способа выражения. Рука стала творцом образов, символов, не зависящих напрямую от развития вербального языка, но реально параллельных ему. Язык, который складывается таким образом, Леруа-Гуран предлагает назвать «мифографическим». Язык этот имеет порядок, соответствующий языку мифов, — люди опираются на сеть, где переплетаются мифологическое и мифографическое [Leroi-Gourhan, 1993: 188].
В культурной истории люди не раз переживали смену ориентиров в отношениях языковых и образных систем. Первой формой графизма эпохи каменного века, согласно мнению Леруа-Гурана, была концентрическая организация изображений, когда они развивались из центра к периферии. Здесь линии и точки были связаны больше с ритмами магии, нежели с представлением вещей. Поэтому первые изображения были, скорее всего, абстрактными. Концентрический графизм стал вытесняться линейным, когда округлый космос человеческого жилища с фигурой человека в центре, от которой расходятся все линии, стал заменяться «интеллектуальным процессом, состоящим из букв, где части соединены в линию» [ibid.: 200].
Человечество в процессе своей эволюции освоило множество расширений — от орудий до одежды, от речи до систем письма. Каждое значимое расширение сопровождалось социальными изменениями, новыми изобретениями с антропологическими следствиями [Маклюэн, 2003: 213–229]. Прикосновение к миру осуществляется через разнообразные медиа. Медиа расширяют тело человека, создают свое пространство. Рисунок обладает двойственной природой: как процесс — это деятельный акт, как результат — это графический артефакт. Есть способы несколько отстраниться от мира и как бы со стороны понаблюдать за тем, как мы его воспринимаем.
Ф. Роусон отмечает, что «рисунок создается с помощью движущейся точки», оставляющей след своего перемещения в виде линии [Rawson, 1987: 15]. Новые артефакты, окружающие людей, явно усложнили перцептивный опыт: он удваивается [Ashton, 2014: 49]. Если восприятие представляет собой вхождение в мир, то рисование позволяет сделать предметом само это вхождение. В рисунке воспринятое подвергается как рациональной интерпретации, так и аффективному переживанию. Обе стороны входят в деятельность рисования как совокупная интеллектуальность. Интеллект включает в себя как рациональную, так и эмоциональную составляющую. Человек — монополист в сфере развития научного познания. Но познание — гораздо более широкая область, чем наука. Любое взаимодействие биологической системы со средой оказывается познанием, этим заняты не только люди. В понимании Роусона, рисование есть наиболее субъективный вид визуальной выразительности. Действительно, природа может вдохновлять рисовальщика цветом закатного неба, но «природа нигде не показывает нашим глазам линии и отношения между линиями, которые являются исходным материалом для рисования» [Rawson, 1987: 2]. В природе нет линий, пока не включается наше воображение.
Предметы расширяют границы человека, но речь идет не только о физическом пространстве. Предметы расширяют границы символической вселенной. Тем самым расширяются границы личности, границы разума, который перестает отождествляться с границами мозга. «При антропологическом взгляде человек воспринимается уже не господином своих образов, а чем-то совсем иным — “местом образов”, занимающих его тело: человек попадает в руки им же порожденных образов, даже если пытается снова ими овладеть» [Бельтинг, 2005: 3].
Исследования в социальной антропологии показывают, что значения вещей отличаются от значений слов, какие открываются в лингвистике [Miller, 1994: 397]. Значения слов оставляют нас в пределах языка, тогда как значения вещей выводят нас за его пределы. Значения вещей заключаются не в связях словарных определений, а в значимости вещей для человека. Значения слов предполагают их понимание, значения же артефактов — их материальную вовлеченность в жизнь человека.
Человек окружен природными объектами и артефактами. Вос- приятию открываются не отдельные качества объектов, которые можно моделировать в лаборатории, но содержащиеся в них возможности. «Окружающий мир не состоит из объектов. Он состоит из земли и неба, из объектов на земле и в небе, из холмов и облаков, огней и закатов, булыжников и звезд» [Гибсон, 1988: 108]. Все это коррелирует с сознанием, задача которого — быть в режиме ожидания. По замечанию М. Мерло-Понти, «сознание есть бытие в отношении вещи при посредстве тела» [Мерло-Понти, 1999: 186]. Активность вещей заставляет к ним прислушиваться, они наделены спектром предоставляемых возможностей. Люди упорядочивают объекты и сами оказываются ими же упорядоченными. Для Мерло-Понти быть разумным означает открыться миру, откликнуться на его озарения.
Будучи опосредствованными в деятельности, предметы продолжают жить и своей прежней жизнью, поэтому нельзя забывать, что в предметах пребывает и неопосредствованное. Мы повинуемся вещам, а не знаниям о вещах [Miller, 1994: 409].
Графические артефакты построены из линий и точек. Как сделать линию предметом исследования? Т. Ингольд считает, что «размышление о линиях принадлежит предметам очень широкого круга, сюда будут включаться ходьба, ткачество, наблюдение, пение, рассказывание историй, рисование и письмо» [Ingold, 2015: 54]. Такой достаточно пестрый перечень объединяет то обстоятельство, что во всех этих практиках мы имеем дело с мышлением. Пешеход думает в движении, равно как и танцор, и дело не в том, что поток мысли в обоих случаях течет кинетически. Такой поток и есть мысль сама по себе, мысль двигательная насквозь [ibid.: 49]. В применении к рисованию нередко говорят о том, что в рисунке выражена мысль. Это не означает, что мысль прежде пребывала где-то в другом месте. Рисование и есть мышление.
Движение, а не сознание должно быть стартовой точкой изучения восприятия. П. Клее явно прибегает к подобному сравнению в своем знаменитом определении рисования как «прогулки по линии» [цит. по: ibid.: 61].
По свидетельству рисовальщиков, во время рисования они нередко чувствуют, будто бы они не одни. «Существует взгляд, обращенный к миру, но существует взгляд, обращенный извне на меня. Возникает странное чувство, что когда я смотрю на мир, то и мир смотрит на меня» [Ямпольский, 2019: 34]. Означает ли это, что когда художник рисует деревья, которые он видит «вон там, на пригорке», то и деревья его тоже видят? Да, это так, но не потому, что у деревьев есть глаза. Нарисованные предметы участвуют в процессе изображения, они не пассивны. Будучи увиденными «мною», они далее участвуют в процессе создания изображений, без них картина была бы невозможна [Ingold, 2015: 85]. Воспринимать вещи — значит одновременно восприниматься ими, видеть — значит быть увиденным, слышать — значит быть услышанным. Чтобы понять, как изображения происходят из образов, необходимо взять на себя труд учесть все эти обстоятельства.
Может быть, будет правильнее изображение выводить не из образов, но из знаков? Такого рода идеи находим, например, в работах Я. Дэвидсона. На взгляд исследователя, вначале в истории появляются знаки, они являются побочными продуктами жизни, затем знаки обретают устойчивые значения — по теории Пирса становятся индексами. Наряду с индексами возникают иконические знаки. Они-то и приведут к изображениям. «В семиотических терминах нам нужно искать знаки-индексы, которые могли бы рассматриваться как таковые и трансформироваться в иконические знаки других объектов. Именно эта трансформация знаков лежит в основе происхождения изображений» [Davidson, 2013: 29].
Изображения в разных контекстах могут выполнять функции как знака, так и образа. Их не следует отождествлять. «Мы имеем дело с образом, когда воспринимаем нечто там, где на самом деле есть либо нечто другое (например, холст), либо там вообще ничего нет (образы сновидений). Образ — подобие, подражание, мимесис, в нем как сходство, так и различие. Это не копия, не клон, а сенсорно уменьшенная версия оригинала» [Beyst, 2010], — полагает С. Бейст. Другое дело — знак. «Знак — это сенсорная конфигурация, которая функционирует как замена чего-то другого — объекта, идеи, положения вещей и т.д., являющегося референтом или значением» [ibid]. Образы и знаки различаются: образ предполагает длительное рассматривание, тогда как знак перестает притягивать внимание, как только опознается. Рассматривать долго — это привлекать другие изображения. Ни один рисунок не существует в одиночестве, он существует в соотнесении с другими рисунками. Когда рисунок соотносят только с изображенным предметом, он превращается в знак. Рассматривать изображения только как знаки, ставить задачу «чтения образов» — значит «брать» их в неполном объеме, подчинять лингвистическому пониманию.
Знаковая теория рисунка отдаляется от вопроса о том, где разворачиваются события, которые эти знаки обозначают. Значения отсылают нас к образам событий в сознании, в душе, в голове, в мозге. Но мы видим события изображения перед собой, «на стене пещеры». Поэтому П. Мэйнард прав, когда отмечает, что в исследовании рисования не стоит сразу опираться на готовые понятия «символ», «ссылка», «обозначение», «сходство», «условность», правильнее исходить из посылки, что рисунок — это просто артефакт [Maynard, 2020: 33].
Рисование свидетельствует о возникновении визуального сознания. Первый шаг такого сознания — это глубокое разделение на «здесь» и «там»: мы стоим здесь, где стоим, и одновременно мы там, далеко, «на пригорке, где растут деревья». Субъект и объект, «я» и «не я» глубоко разделены. Верно ли, что такая дихотомия необратима и второй шаг не может ситуацию радикально изменить?
Один из классиков философской антропологии — Х. Плесснер высказывает идею о способности человека к «эксцентричной позиционности» [Плесснер, 1988: 122–134]. Исходной позицией для всех природных существ выступает ситуация, которая имеется «здесь и теперь». Но человек способен отказаться от такой позиционности. Человек наделен способностью фокусироваться на ситуациях, которых в настоящее время нет (в том числе на прошлых или будущих ситуациях), — они могут быть вымышленными, гипотетическими, противоречащими фактам. Можно предположить, что создание изображения — это совершение некоего эксцентрического перехода. Такой переход отталкивается от контекста. Данная идея находит сегодня своих сторонников: «Антропологическая функция изображений заключается в передаче первоначального построения контекста, то есть генезиса способности фокусироваться на ситуациях, которых в настоящее время нет» [Schirra, 2013: 21].
Для вычислительной модели разума (связывающей прогресс познания с эволюцией мозга, опирающейся на дихотомию души и тела человека) эксцентрическая позиционность глубоко чужда — здесь утверждается другая модель субъекта. Для обработки информации и выдачи команд не обязательно быть живым существом. Установки «думать» и «быть живым» в данном случае могут существовать отдельно друг от друга. В то время как для феноменологической модели разума эти интенции существуют неразрывно друг от друга.
Т. Ингольд делает важное наблюдение: поверхность, на которой могут размещаться изображения, отнюдь не свободна от предварительной символической проработанности. Такие поверхности — это всевозможные карты. Карты — это древнейший вид изображений, которые хранят информацию о предметах в пространстве; они наделены возможностью размещать на себе любые изображения. Без подобного ресурса рисунки невозможны — в нем содержатся опыт размещения фигур и опыт их рассматривания. В своем наблюдении Т. Ингольд опирается на идеи А. Леруа-Гурана, которые высоко оценивает: рука, освобожденная в процессе анатомической эволюции от функции поддержки тела, может свободно манипулировать пишущим инструментом, который может оставить след в качестве более или менее устойчивой записи своих жестов [Ingold, 2015: 62].
Вопросам антропологии древних изображений посвящены многие работы Л. Малафуриса, представителя влиятельной школы когнитивной науки. Сторонники этого направления настаивают на рассмотрении разума как воплощенного, расширенного и отвергают перспективу выводить картину мира из эволюции механизмов мозга. Малафурис предлагает рассматривать факторы, благодаря которым вещи становились когнитивными продолжениями человеческого тела, и основания изменений данных факторов с самых ранних доисторических времен до настоящего времени. Исследователь полагает необходимым включать материальность мира вещей, артефактов и материальных знаков в мышление. Он исходит из того, что как воплощенные существа мы взаимодействуем с миром и наши познавательные способности возникают в результате этого взаимодействия. Однако главное движение к фигуре Homo рictor, или «человека рисующего», начинается от такой фигуры, как Homo faber.
Определение человека как Homo faber отражает способность людей создавать вещи, но также и встречную способность вещей участвовать в процессе формирования человека. Изображения как артефакты присутствуют в этом процессе, их роль — быть активными материальными агентами. Новизна здесь заключается в том, что в прежних подходах роль изображений учитывалась, но они допускались в процесс как знаки, имеющие значение. Такие значения раскрывались через понятие репрезентации, то есть вторичной презентации, или представляющего отражения. Но Малафурис показывает, что логика такого понимания возвращает исследование к работе мозга и нервной системы. Вот почему он занимает антирепрезентативную позицию. Исследователь не отвергает понятие репрезентации, но не согласен с тем, чтобы это событие помещалось в начальную точку [см.: Malafouris, 2007]. Такой ход не позволяет объясняющее понятие сделать понятием объясненным.
Что же такое репрезентация? Определение образа, данное Х. Бельтингом, разделяют многие исследователи: «…образ — это присутствие отсутствия» [Belting, 2005: 312]. Здесь оба слова («рresence of absence») важны, они отражают двойственность изображений: это и артефакт, и акт, то есть предмет и действие. Интересно, что с древних времен людей завораживали таинственные эффекты изображений, когда они ощущали исходящее от материального изображения нечто вроде «духовной силы». Такая «сила» выходила за пределы физического наличия. Эффект подобного «приписывания» не следует понимать как злонамеренный обман или наивную ошибку. Многие изобретения людей в истории культуры оказывались сделанными к лучшему или худшему. Практики иконоборчества или иконопочитания по отношению к изображениям возникали не на пустом месте.
Как об этом пишет Г. Бём, работа просвещения сокращает былые страхи, перенаправляет эти переживания. Аудитории теперь часто бывают очарованы магией изображений, такие картины в глазах людей обладают более чем физическим «присутствием» [Boehm, 2012: 18]. А. Гелл наряду с технологиями производства и воспроизводства особо выделяет технологии третьего рода — именно они используются для создания медиа, которые помогают установлению отношений преданности и доверительности в личных отношениях людей друг с другом и со сферой трансцендентного [Gell, 1988: 7–8]. Гелл называет такие технологии «enchantment» — технологиями волшебства, очарования, колдовства, магии.
Физические образы присутствуют, просто пребывая под рукой. Но если над некоторыми образами «поколдовать», через изощренную наблюдательность внести в каждый из них редкую выразительность, то есть сделать из образа образец, то получится эффект «усиленного» присутствия. Такие артефакты будут наделены особой силой, они будут объектами, которые несут и сохраняют дополнительный смысл. В «усиленном» присутствии через изображение пользователь переживает свое пребывание там как правду происходящего. Репрезентация заключается не в том, чтобы представить нечто снова, — приставка «ре» означает не повтор, но интенсификацию. По мнению Г. Бёма, эта интенсификация прибавляет излишек к существованию изображаемого. Последнее выходит за рамки документальной функции [Boehm, 2012: 18].
В изображении прошлой жизни отсутствующее не просто присутствует, но и действует. Знаменитые фаюмские портреты (2–3 века н.э.) — тому подтверждение. Назначение этих портретов — участие в египетском погребальном обряде. Для создания портрета требовался рисовальщик, люди ему позировали, смотрели на него, когда тот работал, участвовали в создании своего прижизненного (последнего?) портрета. Теперь мы встречаем их взгляд, передающий непростые чувства, — это как послания из вечности. Естественно, что не всем рисовальщикам колдовство успешно удавалось. Тем не менее отсутствующие люди своими взглядами и теперь структурируют наше восприятие. Образы наделены силой. Этот феномен все чаще привлекает внимание современных исследователей [Диди-Юберман, 2001].
Загадочен первый импульс, когда линии и пятна, на которые смотрим, нами уже определяются как изображение, представление чего-то. И это определение совершается на уровне чувства, культурного навыка, интуитивного решения нашего «насмотренного» зрения — оно опирается на невидимые подсказки. Такими инструментами (протезами, каркасами) выступают сами древние изображения. Такие изображения — это «эпистемические действия»; их цель состоит не в том, чтобы изменить мир, но в том, чтобы обеспечить устройство строительных лесов, предложить подходящие протезы, изменить мышление, расширить сознание. Традиционный взгляд рассматривает пещерные рисунки как события «разума внутри головы». Но если исходить из расширенного разума, то пещерные рисунки будут материальной оболочкой «разума внутри пещеры». Теория расширенного разума позволяет выдвинуть гипотезу: разумное использование материальной культуры предшествует разумному мышлению [Malafouris, 2007: 293].
Дух репрезентации заключается не в воспроизведении на стене копии носорогов, но в демонстрации обладания ими чем-то вроде «духовной силы», харизмой физического тела. Это доступно колдуну, поэтому образы наделялись силой, их уважали и даже боялись — только с таким ментальным набором можно было быть человеком позднего палеолита. Стандартные вопросы, какие обычно ставит гид на экскурсии в картинной галерее (где царит приоритет репрезентации и символизма), таковы: «Что изображено?», «Что это значит?» Традиционно звучит вопрос: «Каким был тот разум, который смог создать такие изображения?» С точки зрения М. Малафуриса, в применении к расширенному разуму вопрос следует ставить иначе: «Какие виды разума создаются восприятием этих изображений?» [ibid.: 296].
В своей классической работе «Око и дух» М. Мерло-Понти показывает, что в создании изображения связываются воедино язык, объект и телесность [Мерло-Понти, 1992]. Рисование — это не просто средство выражения мышления, как если бы мышление было где-то в другом месте. Рисование — это само осуществление мышления. Стремится ли такое мышление стать речью? Скорее всего, нет — мышление, занятое изображениями, эволюционирует в другую сторону от речи. По-новому увиденный мир способен дифференцировать области, подлежащие речи, как и области тишины и молчания, и здесь есть свои нормы.
Рисовальщик упорядочивает свою мысль, через линии, точки, штрихи и пятна проясняет для себя, что делает. Его перцептивный опыт расширяется, что передается и пользователям изображений. Платформа появления рисунка намного шире рационального мышления. Думать о практиках, где возникают и рассматриваются изображения, замечает Д. Элкинс, «следует вместе с такими видами деятельности, как чистописание, танец, мышление, молитва или колдовство» [Элкинс, 2010: 233].
Художники, у которых есть интерес еще и к философии, считают, что в обыденном мнении сильно преувеличивается степень рациональной интенциональности рисовальщика. Это не означает, что рисовальщики понятия не имеют о том, что они делают. Но их представления не похожи на логические концепты и умозаключения из суждений. Если делать упор на «идее», то изображение начинает пониматься как логическое решение познавательной задачи [Bailey, 1982; Crowther, 2017]. Известный художник, историк искусства Д. Бёрджер отмечает, что импульс нарисовать что-то во многом связан с расширением разума за счет предметов природы, артефактов, других людей. Он прибегает к шокирующим метафорам, сравнивая рисование с органическими функциями человека (типа пищеварения). Но рисовать для обученного человека — все равно что дышать. А дышат люди всем существом своим — телом и душой. В шутливой манере Бёрджер находит определенное сходство между актом вождения мотоцикла и актом рисования. «Здесь есть секрет — связь между перемещением и ви́дением. Смотреть — означает сближаться». Мотоцикл следует за тем, на чем сосредоточены «твои» глаза, стремится отклоняться вслед за ними. «Он гонится за твоим взглядом, а не мыслями. Ты управляешь мотоциклом с помощью глаз, запястий, наклонов тела. Самые упрямые из трех — твои глаза» [Бёрджер, 2012: 115].
О реконструкции пути к изображению повествует феноменология Г. Йонаса. На начальном этапе этого пути обнаруживаются подобие или сходство. «Изображение — это объект, который имеет явно узнаваемое или, по желанию, различимое сходство с другим объектом» [Jonas, 1962: 203]. В случае рисунка первая отметка «рождается в слепоте». Рисовальщик может начать с фигуры в голове или контура фигуры, которую намеревается реализовать на бумаге. Идут поиски инструмента. Изначально на листе нечего смотреть. Только по мере развития картины слепота уступает место зрению, хотя и не полностью, в то время как ментальный образ постепенно исчезает [см.: Ingold, 2015: 61].
Мы живем в окружении людей и артефактов, они нам интересны через их намерения. Намерение создателя изображения продолжает жить как внутренняя «интенциональность» полученного продукта, которая сообщается пользователю изображения. Рисунок несет в себе движения и жесты рисовальщика. Рисовальщик начинает со сходства или подобия производимых линий оригиналу; подобия не бывают полными. Дублирование всех свойств оригинала приведет к дублированию самого объекта. В изображении нужно представлять, а не имитировать объект, считает Г. Йонас. Эта неполнота означает пропуск, выбор наиболее репрезентативных признаков объекта — тут включается аналитика. Репрезентация здесь тоже имеет место, но она не является тотальной процедурой.
Через символическое подобие в изображении становится доступной эмансипация от «буквальности» [Jonas, 1962: 206]. В результате «в визуальных образах большое может быть представлено малым, малое — большим, сплошное — плоскостью, цветное — черно-белым, непрерывное — дискретным и, наоборот, многообразное — простым» [ibid.]. Художник видит больше, чем не-художник, не потому, что имеет лучшее зрение, а потому, что выполняет работу художника, а именно переделывает то, что видит, переделывает зрение. Изображаемый предмет преобразуется в предметность изображения. Поэтому про изображаемый предмет можно говорить, что он «самоуничтожается»; на его месте остается изображение как форма, отделенная от материи, эйдос как образ, отделенный от реальности [ibid.: 207]. Из таких образов как образцов складывается виртуальный мир. Изображение может быть более или менее верным объекту. Но создатель артефактов, утверждает Г. Йонас, потенциально также является создателем новых артефактов, и эти способности равноправны. «Свобода, которая решает изобразить подобие, может с таким же успехом отказаться от этого» [ibid.: 217]. Создатель изображения — отнюдь не пленник мира изображаемых вещей, хотя известно, что он часто испытывает давление со стороны идеологий или рынка.
Мимесис в Античности рассматривался как отношение «по вертикали» двух вещей, одна из которых выступает в роли образца, другая — в роли копии. Эта древняя традиция, казалось бы, навсегда прочно связала понимание мимесиса с имитацией. Но в ХХI веке предложено совершенно иное понимание мимесиса. От «вертикального» отношения оригинала и копии исследователи переходят к «горизонтальному» отношению двух производств как отношению двух деятелей, двух свобод [Зенкин, 2020]. К. Уолтен — один из авторов, развивающих подобные идеи. Он рассматривает мимесис не как копирование реальности, а как деятельностное производство убеждений, побуждение к вере, что происходит, например, в игре. Побуждение к вере, побуждение к убеждению побеждают благодаря силам или ресурсам, заключенным в игре: «Чтобы понять живопись, пьесы, фильмы и романы, мы должны чаще всего сначала смотреть на кукол, лошадок, игрушечных грузовиков и плюшевых мишек в руках играющих детей» [Walton, 1990: 12]. И обязательным правилом «горизонтального» мимесиса является принятие условных обстоятельств как самых реальных, то есть безусловных. Детское выражение «понарошку» не будет лишним, не будет принижением проблемы.
Дети получают игровое удовольствие, перемещаясь «туда», в мир картинки, отказываясь от мира «здесь и теперь». Расширяется субъективность маленького человека, обретающего в игре более полное и цельное бытие, когда мелом на асфальте он создает этот мир понарошку.
Рисунок выступает как реквизит такого уже или еще не существующего мира, но который может осуществиться через воображение. В рисовании возникает не только то, чего прежде не было, но и тот, кого не было до этого, — происходит обретение человеком телесной, моторно-двигательной, познавательной и эмоциональной субъективности. Рисование раскрывает присущую всем людям способность дистанцироваться от ситуации, отключать сознание от потока переживаемого опыта, относиться к этому опыту как к объекту размышления.
Посредством еще чего кроме рисования может быть передано первоначальное построение контекста? Такой контекст передается через многообразные движения, действия, жесты. Люди умеют ходить и бегать, танцевать и петь, смеяться и смешить, говорить правду и лукавить. По утверждению М. Щитс-Джонстоун, человек обнаруживает себя в движениях, здесь он расширяет свой кинетический репертуар «я могу» [Sheets-Johnstone, 2011: 136].
Благодаря движениям мы осуществляем пожизненное путешествие по созданию смыслов, формируем фундаментальные представления как о себе, так и о мире. Рисунок — это виртуальное пространство для таких путешествий.
Рисование приоткрывает завесу существования особого рода молчаливого мышления — это во многом сфера эмоционального интеллекта. В рисовании такой интеллект не просто выражается, он здесь едва ли не впервые в визуальной форме осуществляется. Как в кинестетической форме для танца и в мелодической форме для музыки. Есть общий рациональный опыт. Он опосредуется особыми медиа — языком слов. Через этот язык мы думаем, мыслим с помощью концептов. Но есть опыт чувственный, эмоциональный. Это опыт, которым мы живем, а не просто думаем.
Древний рисунок выступает в роли активного материального агента — это инструмент, выполняющий роль образца, он используется символически. Раскрытые характеристики рисования ставят вопросы к современности, где создание изображений во многом становится техногенным. По многим признакам символическое использование материальной культуры и сегодня предшествует символическому мышлению. «Человек рисующий» тесно связан с развитием материальности культуры в ее нынешнем понимании.
* * *
Способность человека создавать изображения и их рассматривать образует область исследований, которая относится к философии творчества. Человек на практике вызывает к жизни искусственную реальность — артефакты, знаки мышления, образы чувств. Состоящие из линий, штрихов, пятен и точек графические артефакты не просто отражают мир, они выступают его продолжением. Человек — не просто разум, заключенный в теле, а разум, наделенный огромным числом выходов в мир предметов и других людей. Человек — телесно воплощенное существо. Восприятия начинаются не с сознания, но с движений. Движения и жесты связаны с картами, схемами, паттернами нервных центров. Эти карты и схемы могут быть объективированы вовне, в движениях тела, движениях высказываний, могут быть объективированы в изображениях. Изображения создают контекст для воображения, служат опорой эмоциям и чувствам, развивают эмоциональный интеллект. Через графические артефакты осуществляется образная встреча человека с реальностью и другими людьми. Здесь раскрывается особое доязыковое мышление, оформляются разнообразные формы интенций, участвующие в коммуникации. Исследования «человека рисующего» — это не узкая область эстетического опыта и художественного воспитания, это проблема философской антропологии. Рисованные изображения выступают в роли медиа, способных порождать новую субъективность, создавать прообразы новых вещей в сфере проективных технологий и новые изображения в эстетической сфере.
About the authors
Viktor L. Krutkin
Udmurt State University
Author for correspondence.
Email: krutkin1@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0433-4927
DSc in Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Humanities
Russian Federation, 1 Universitetskaya Str., Izhevsk 426034References
- Бельтинг Х. Антропология образа / пер. с англ. С.С. Ванеянa // Искусствознание: журнал по истории и теории искусства. 2005. № 1.
- Belting H. Antropologiya obraza [Anthropology of Image], transl. from Engl. by S.S. Vaneyan. Iskusstvoznanie: zhurnal po istorii i teorii iskusstva. 2005. N 1.
- Бёрджер Д. Блокнот Бенто: Как зарождается импульс что-нибудь нарисовать? / пер. с англ. А. Асланян. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С.113–116.
- Berger D. Bloknot Bento: Кak zarozhdaetsya impuls chto-nibud′ narisovat′? [Bento’s Sketchbook: How Does the Impulse to Draw Something Begin?], transl. from Engl. by A. Aslanian. Moscow: Ad Marginem Press Publ., 2012. P. 113–116.
- Гибсон Д. Экологический подход к зрительному восприятию / пер. с англ. А.Д. Логвиненко. М.: Наука, 1988.
- Gibson D. Ehkologicheskii podhod k zritel′nomu vospriyatiu [An Ecological Approach to Visual Реrception], transl. from Engl. by A.D. Logvinenko. Moscow: Nauka Publ., 1988.
- Дамасио А. Так начинается Я. Мозг и возникновение сознания / пер. с англ. И. Ющенко. М.: Карьера Пресс, 2018.
- Damacio A. Tak nachinaetsya Ya. Mozg i vozniknovenie soznaniya [Self Comes to Mind. Constructing the Conscious Brain], transl. from Engl. by I. Yushchenko. Moscow: Kar'era Press Publ., 2018.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / пер. с фр. А. Шестакова. СПб.: Наука, 2001.
- Didi-Uberman J. To, chto my vidim, to, chto smotrit na nas [What We See, what Looks at Us], transl. from French by A. Shestakov. St. Petersburg: Nauka Publ., 2001.
- Зенкин С.Н. Аффективный мимесис в искусстве // Миргород. 2020. № 1(15). С. 137–152.
- Zenkin S.N. Affektivnyi mimesis v iskusstve [Affective Mimesis in Art]. Mirgorod. 2020. N 1(15). P. 137–152.
- Маклюэн M. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2003.
- McLuhan M. Ponimanie media: vneshnie rasshireniya cheloveka [Undestanding Media: The Extensions of Man], transl. from Engl. by V. Nikolaev. Moscow; Zhukovskii: KANON-press-TS; Kuchkovo pole Publ., 2003.
- Мерло-Понти М. Око и дух / пер. с фр. А.В. Густыря. М.: Искусство, 1992.
- Merleau-Ponty M. Oko i dukh [The Eye and the Mind], transl. from French by A.V. Gustyr’. Moscow: Iskusstvo Publ., 1992.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. СПб.: Ювента; Наука, 1999.
- Merleau-Ponty M. Fenomenologiya vospriyatiya [Phenomenology of Рerception], transl. from French ed. by I.S. Vdovina, S.L. Fokin. St. Petersburg: Yuventa; Nauka Publ., 1999.
- Плесснер Х. Ступени органического и человек / пер. с нем. А. Филиппова // Проблема человека в западной философии / сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. М.: Прогресс, 1988.
- Plessner H. Stupeni organicheskogo i chelovek [The Stages of Organic and Human], transl. from Germ. by A. Filippov. Problema cheloveka v zapadnoi filosofii [The Problem of Man in Western Philosophy], compil. and afterw. by P.S. Gurevich; ed. by Yu.N. Popov. Moscow: Progress Publ., 1988.
- Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир / пер. с англ. А. Денищик и др. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2010.
- Elkins J. Issleduya visual′nyi mir [Exploring the Visual World], transl. from Engl. by A. Denishchik et al. Vilnius: European Humanities University Publ., 2010.
- Ямпольский М. Изображение: Курс лекций. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
- Yampolsky M. Izobrachenie: Kurs lektsii [Image: A course of Lectures]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2019.
- Ashton A. Drawing on the “Lived Experience”. An Investigation of Perception, Ideation and Praxis. Art and Design Review. 2014. Vol. 2, N 3. P. 46–61 [Electronic resource]. URL: http://dx.doi.org/ 10.4236/adr.2014.23007 (date of access: 19.04.2023).
- Bailey G.H. Drawing and the Drawing Activity: A Phenomenological Investigation. Doctoral Thesis. London: Institute of education, University of London, 1982 [Electronic resource]. URL: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos (date of access: 19.04.2023).
- Belting H. Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology. Critical Inquiry. 2005. Vol. 31, N 2. P. 302–319.
- Beyst S. Mimesis and Semiosis. An Inquiry into the Relation Between Image and Sign. 2010 [Electronic resource]. URL: http://dsites.net›english/ mimesissemiosis.html (date of access: 19.04.2023).
- Boehm G. Representation, Presentation, Presence: Tracing the Homo Pictor. Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life, ed. by C.A. Jeffrey, D. Bartmanski, B. Giesen. New York.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 15–23.
- Crowther P. What Drawing and Painting Really Mean: A Phenomenology of the Image. New York: Routledge, 2017.
- Davidson I. Origins of Pictures: An Argument for Transformation of Signs. 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/279174506 (date of access: 19.04.2023).
- Gell A. Technology and Magic. Anthropology Today. 1988. Vol. 4, Iss. 2. Р. 5–12.
- Ingold T. The Life of Lines. New York: Routledge, 2015.
- Ingold T. “Tools for the Hand, Language for the Face”: An Appreciation of Leroi Gourhan’s Gesture and Speech. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 1999. Vol. 30, N 4. P. 411–453.
- Jonas H. Homo Pictor and Differentia of Man. Social Research. 1962. Vol. 29, N 2. P. 201–220.
- Leroi-Gourhan A. Gesture and Speech, transl. from French by A. Bostock Berger; introd. by R. White. Cambridge: MIT Press, 1993.
- Malafouris L. Before and Beyond Representation: Towards an Enactive Conception of the Palaeolithic Image. Image and Imagination: A Global History of Figurative Representation, С. Renfrew, I. Morley (eds.). Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2007. Р. 287–300.
- Maynard P. Drawn Together. Graphics & Collective Intentionality. Theory and Criticism of Social Regulation. 2020. Vol. 1, N 20 [Electronic resource]. URL: http://mimesisjournals.com›ojs/index.php/tcrs/article/ (date of access: 09.02.2023).
- Miller D. Artefacts and the Meaning of Things. Companion Encyclopedia of Anthropology, ed. by T. Ingold. London; New York: Routledge, 1994. Р. 396–419.
- Mondzain M.J. What Does Seeing an Image Mean? Journal of Visual Culture. 2010. Vol. 9(3). P. 307–315.
- Rawson P. Drawing. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1987.
- Schirra R.J., Sachs-Hombach K. The Anthropological Function of Pictures. Origins of Pictures: Anthropological Discourses in Image Science. Koln: Herbert von Halem Verlag, 2013. P. 132–159.
- Sheets-Johnstone M. The Primacy of Movement: Maxine Sheets-Johnstone. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011.
- Tilley C. A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. Oxford, UK; Providence, USA: Berg Publishers,1994.
- Walton K. Mimesis Аs Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.