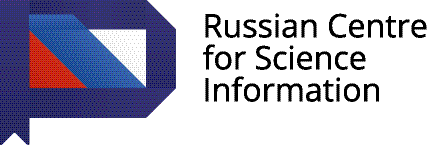Formation of complex particles at absorption of π–-meson in a “live” silicon target
- Autores: Gurov Y.B.1,2, Evseev S.A.1, Rozov S.V.1, Sandukovsky V.G.1, Chernyshev B.A.2
-
Afiliações:
- Joint Institute for Nuclear Research
- National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
- Edição: Volume 88, Nº 8 (2024)
- Páginas: 1177-1181
- Seção: Fundamental problems and applications of physics of atomic nucleus
- URL: https://medbiosci.ru/0367-6765/article/view/279553
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524080033
- EDN: https://elibrary.ru/ORVMYD
- ID: 279553
Citar
Texto integral
Resumo
Spectra of deuterons and tritons were measured at the absorption of stopped π — mesons on a “live” target (analog of the 28Si target). It is shown that the application of this method makes it possible to identify “direct” mechanisms of the formation of deuterons and tritons. An estimate of the proportion of these particles in total yields was obtained, which was ~ 30 %.
Palavras-chave
Texto integral
ВВЕДЕНИЕ
Эмиссия нуклонов, образующихся при поглощении остановившихся π–-мезонов ядрами, может быть объяснена на основе двух-нуклонного механизма поглощения с учетом последующих вторичных процессов [1, 2]. Ситуация с происхождением сложных частиц (d, t) менее ясна. Образование этих частиц может происходить как в результате поглощения пиона на более сложных кластерах (например, 3,4He), так и в результате вторичных процессов после двух-нуклонного поглощения. Среди этих стадий реакции поглощения можно выделить процессы выбивания, коалесценции (слияния), подхвата на поверхности ядра и испарения, которое происходит при достижении остаточным ядром термодинамического равновесия.
Сложность выделения вклада отдельных механизмов в образование сложных частиц обусловлена тем, что различные модели практически с одинаковой степенью достоверности воспроизводят инклюзивные спектры частиц, образующихся в реакции поглощения. Более отчетливо механизмы реакции проявляются в корреляционных данных по вылету двух частиц под углами близкими к 180°. Но для всех ядер, кроме самых легких, вероятность вылета первичных частиц без вторичных взаимодействий мала, что делает затруднительным распространение результатов, полученных в этих измерениях, на всю реакцию в целом. В такой ситуации представляет интерес использование корреляционных данных “энергия частицы — энерговыделение в мишени”, позволяющих получить информацию обо всем процессе поглощения в целом. С этой целью в измерениях в качестве мишени используется кремниевый детектор (“живая” мишень). Возможность использования этого метода для выделения вклада различных механизмов была продемонстрирована нами в работе [3] при описании данных по эмиссии протонов.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Эксперимент был выполнен на синхроциклотроне НИЦ “Курчатовский институт” — ПИЯФ с помощью полупроводникового спектрометра [4]. Пионный пучок с импульсом 100 МэВ/с тормозился графитовым замедлителем, после чего проходил через мониторную систему [4], представляющую собой два кремниевых (Si) детектора толщиной ∼ 300 мкм, и останавливался в мишени. Мишень располагалась под углом 45◦ к пучку и представляла собой пластинку из исследуемого материала толщиной ~ 0.1 г/см2. В качестве “живой” мишени устанавливался Si-детектор (аналог мишени 28Si).
Вторичные частицы, образованные в результате поглощения пионов ядрами мишени, регистрировались с помощью двух телескопов на основе кремниевых детекторов. Телескопы, угол между которыми 180о, размещались на расстоянии 8 см от мишени. Каждый телескоп состоял из двух тонких п. п. д. с толщинами 200 и 600 мкм, и двенадцати толстых п. п. д. с толщинами ∼ 3.5 мм. Диаметр чувствительной области всех детекторов 32 мм. Чувствительная суммарная толщина каждого телескопа ∼ 43 мм кремния, что обеспечивало регистрацию однозарядных частиц (p, d, t) вплоть до кинематических границ реакции поглощения (Е ∼ 100 МэВ). Телесный угол при регистрации частиц, останавливающихся в последнем детекторе телескопа, составлял 0.03 стер. Пороговые энергии идентификации дейтронов и тритонов 10 МэВ. Энергетическое разрешение (FWHM) спектрометра при регистрации однозарядных частиц составило 0.6 МэВ.
Энергия частиц определялась методом суммирования потерь энергии в детекторах. Идентификация частиц, а также вопросы отбраковки событий с нарушением ионизационной зависимости потерь энергии вследствие выхода частиц из детектирующего объема, краевых эффектов и ядерных реакций решался с помощью критерия c2. Слоистая структура п. п. д.-телескопа обеспечивала идентификацию частиц во всем диапазоне энергий.
Использование в эксперименте “живой” мишени, позволяет одновременно с регистрацией частицы измерять энерговыделение в самой мишени. Энерговыделение в чувствительном объеме “живой” мишени складывается из потерь энергии налетающего пиона и образующихся заряженных частиц, в том числе и ядра отдачи. Показания мониторных детекторов позволяют определить глубину остановки пиона и вычесть из энерговыделения вклады пиона и регистрируемой частицы. Спектрометрическая информация с “живой” мишени позволяла решать как методические вопросы, такие анализ эффективности отбора полезных событий, выполнение абсолютной нормировки, так и получать дополнительные корреляционные данные об исследуемых реакцией со статистикой эквивалентной инклюзивным измерениям.
Энергетические спектры, измеренные на “живой” мишени, интересны с точки зрения проверки гипотез о механизмах образования сложных частиц. Большие энерговыделения в мишени обусловлены высокой множественностью частиц в конечном состоянии и свидетельствуют о значительной роли некогерентных процессов в этих реакциях. В то же время для каналов реакции, в которых вторичные процессы подавлены, энерговыделение в мишени находится вблизи нуля.
АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Численное моделирование процесса поглощения π–-мезонов ядрами 28Si проводилось в рамках разработанной нами феноменологической модели [5, 6], в которой рассматриваются три стации протекания реакции: первичное поглощение на внутриядерных кластерах, предравновесная и испарительная стадии.
Под первичным поглощением понимается поглощение на внутриядерном кластере, внутриядерный импульс которого описывается Ферми-распределением. В настоящей работе в качестве первичного поглощения рассматривалось только двух-нуклонное поглощение. Модельные спектры и выходы рассчитаны при значении параметра R = 7.5, где R — отношение вероятностей поглощения остановившихся пионов на pn- и pp-парах [6, 7]. Этот параметр удобно представить в виде произведения двух сомножителей: R = Rst·Rʹ = (2N/Z - 1)Rʹ, где Rst — статистический множитель, равный отношению числа pn- и pp-пар в ядре мишени; Rʹ — отношение элементарных ширин поглощения на pn- и pp-парах. Значение R = ∞ соответствует случаю поглощения исключительно на pn-парах, R = 0 соответствует поглощению исключительно на pp-парах.
После вылета из ядра первичных частиц образуется высоковозбужденное состояние остаточного ядра. Дальнейшая релаксация этого ядерного состояния происходит на предравновесной стадии реакции и сопровождается вылетом каскадных частиц и распадом образующейся частично-дырочной конфигурации. После установления термодинамического равновесия остаточное возбуждение снимается испарением частиц с поверхности ядра на испарительной стадии реакции. Отметим, что в представленной модели не рассматриваются когерентные вторичные процессы типа подхвата частиц на поверхности ядра.
На рис. 1 показаны расчетные и измеренные инклюзивные спектры сложных частиц дейтронов и тритонов. В таблице 1 представлены выходы этих частиц, наряду с выходами протонов [3].
Рис. 1. Энергетические спектры дейтронов и тритонов при поглощении −-мезонов ядрами 28Si. Экспериментальные точки: — дейтроны, — тритоны, сплошные кривые — расчет: 1 — d, 2 — t.
Таблица 1. Экспериментальные и расчетные выходы (%/ост. −) частиц при поглощении остановившихся — мезонов ядрами 28Si для интервалов энергий 10—70 МэВ и 40—70 МэВ
Интервал | Условие | Yp | Yd | Yt |
10—70 МэВ | Эксперимент | 18.0 ± 1.8 | 7.4 ± 0.7 | 1.8 ± 0.2 |
Расчет R = 7.5 | 21.0 ± 0.2 | 5.5 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | |
Расчет R = ∞ | 16.9 ± 0.2 | 5.4 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | |
40—70 МэВ | Эксперимент | 6.8 ± 0.7 | 2.6 ± 0.3 | 0.47 ± 0.05 |
Расчет R = 7.5 | 8.2 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | 0.40 ± 0.06 | |
Расчет R = ∞ | 5.3 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 0.38 ± 0.06 |
Необходимо отметить, что абсолютная нормировка результатов по выходам частиц основана на непосредственной регистрации остановок в «живой» мишени — кремниевом детекторе. Неопределенность в нормировке выходов для изотопов водорода на 28Si (“живая” мишень) составляла 7 %. Это значение определялось 4 % погрешностью в определении числа остановок и 6 % погрешностью, связанной с неопределенностью в эффективности регистрации и отбраковкой событий при обработке.
Сравнение спектров, представленных на рис. 1, показывает, что наблюдается согласие между расчетными и экспериментальными данными, за исключением завышенных расчетных выходов дейтронов и тритонов с энергиями ниже 30 МэВ. Кроме того, из таблицы 1 видно, что абсолютные выходы протонов и сложных частиц малочувствительны к значению величины R (при R >>1).
На рис. 2 и 3 представлены спектры с “живой” мишени для различных интервалов энергий дейтронов и тритонов. Наиболее важной особенностью полученных результатов является отличие в форме расчетных и измеренных распределений в области низких энерговыделений в “живой” мишени. В этой области вторичные некогерентные процессы подавлены, и образование низкоэнергетических частиц связано с процессами без вторичных взаимодействий (“прямыми”), к которым можно отнести первичное поглощение и когерентный подхват на поверхности ядра.
Рис. 2. Экспериментальные и расчетные спектры энерговыделений в “живой” мишени при регистрации дейтронов в энергетических интервалах: а) 10—30; б) 30—50; в) 50—70; г) 70—90 МэВ. Кривые — расчет, гистограммы — результаты эксперимента.
Рис. 3. Экспериментальные и расчетные спектры энерговыделений в “живой” мишени при регистрации тритонов в энергетических интервалах: а) 10—20; б) 20—30; в) 30—40; г) 40—50 МэВ. Кривые — расчет, гистограммы — результаты эксперимента.
Для дейтронов пик наиболее отчетливо проявляется при энергиях 30—70 МэВ, что соответствует области максимума энергетического распределения первичных нуклонов при двух-нуклонном механизме пионного захвата [1]. Следует отметить, что формы спектров энерговыделений в «живой» мишени для дейтронов и протонов [3] практически идентичны. Данный факт является указанием на то, что заметная доля дейтронов возникает в результате когерентного подхвата “первичными” нуклонами [(n, d) и (p, d)] на поверхности ядра [7].
Спектры с “живой” мишени для тритонов отличаются от протонных [3] и дейтронных спектров, в частности максимум в области малых энерговыделений проявляется не так ярко, что может указывать на другой механизм их образования. При этом для тритонов усиление в области малых значений энерговыделения в мишени наблюдается вблизи энергий 30 МэВ, что кинематически соответствует образованию тритонов в результате α-кластерного механизма поглощения пиона [1].
Сравнение экспериментальных и расчетных спектров позволяет по вероятности событий с малыми энерговыделениями оценить вклад “прямых” (без возбуждения остаточного ядра) механизмов формирования сложных частиц. Оценка вклада таких механизмов в образование сложных частиц по отношению к полному выходу этих частиц с энергиями E ≥ 10 МэВ составляет ~ 30 %. Подчеркнем, что этот результат не зависит от абсолютной нормировки экспериментальных данных. В то же время с помощью сопоставления экспериментальных и расчетных инклюзивных выходов частиц такие оценки сделать затруднительно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным результатом исследования эмиссии сложных частиц является обнаружение вклада “прямых” механизмов образования дейтронов и тритонов и оценка доли в выходах этих частиц на уровне 30 %. Получены указания на то, что основным механизмом образования “первичных” дейтронов является подхват на поверхности ядра, а “первичные” тритоны образуются в результате a-кластерного поглощения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект FSWU-2023-0073).
Sobre autores
Yu. Gurov
Joint Institute for Nuclear Research; National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
Autor responsável pela correspondência
Email: gurov54@mail.ru
Rússia, Dubna, 141980; Moscow, 115409
S. Evseev
Joint Institute for Nuclear Research
Email: gurov54@mail.ru
Rússia, Dubna, 141980
S. Rozov
Joint Institute for Nuclear Research
Email: gurov54@mail.ru
Rússia, Dubna, 141980
V. Sandukovsky
Joint Institute for Nuclear Research
Email: gurov54@mail.ru
Rússia, Dubna, 141980
B. Chernyshev
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
Email: gurov54@mail.ru
Rússia, Moscow, 115409
Bibliografia
- Weyer H.G. // Phys. Reports. 1990. V. 195. P. 295.
- Lee T.-S., Redwine R.P. // Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 2002. V. 22. P. 23.
- Гуров Ю.Б., Евсеев С.А., Леонова Т.И. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 8. С. 1116; Gurov Yu.B., Evseev S.A., Leonova T.I. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No 8. P. 1134.
- Гуров Ю.Б., Лапушкин С.В., Розов С.В. и др. // ПТЭ. 2021. № 4. С. 18; Gurov Yu.B., Lapushkin S.V., Rozov S.V. et al. // Instrum. Exp. Tech. 2021. V. 64. No. 4. P. 516.
- Гуров Ю.Б., Карпухин В.С., Короткова Л.Ю. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2015. Т. 79. № 4. С. 520; Gurov Yu.B., Karpukhin V.S., Korotkova L. Yu. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2015. V. 79. No 4. P. 478.
- Гуров Ю.Б., Карпухин В.С., Лапушкин С.В. и др. // ЯФ. 2019. Т. 82. С. 305; Gurov Yu.B., Karpukhin V.S., Lapushkin S.V. et al. // Phys. Atom. Nucl. 2019. V. 82. P. 351.
- Гуров Ю.Б., Короткова Л.Ю., Лапушкин С.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2013. Т. 77. № 4. С. 415; Gurov Yu.B., Korotkova L. Yu., Lapushkin S.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2013. V. 77. No 4. P. 370.
Arquivos suplementares