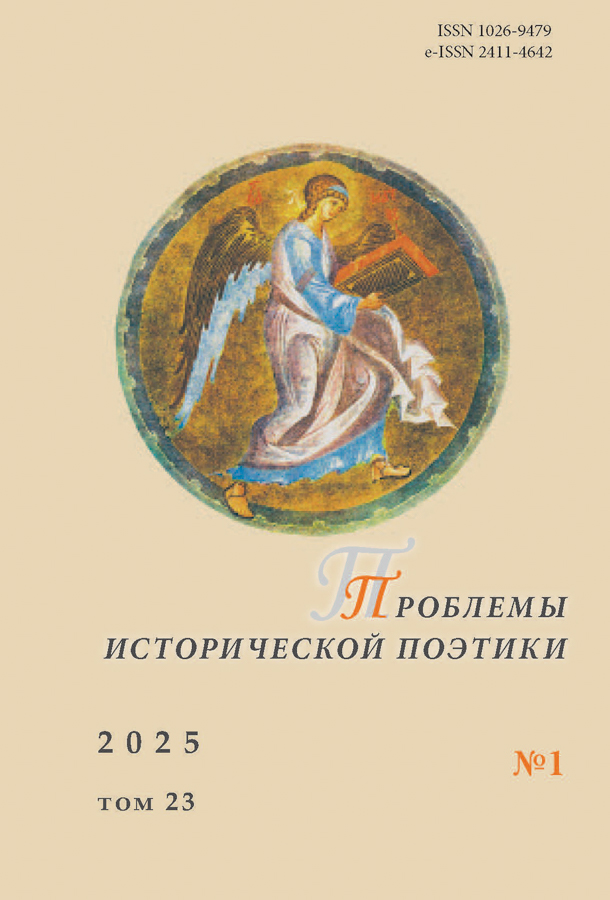Заметки Н. В. Гоголя «К 1-й части» «Мертвых душ»: проблемы поэтики и текстологии
- Авторы: Виноградов И.А.1
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Российская академия наук
- Выпуск: Том 22, № 2 (2024)
- Страницы: 50-87
- Раздел: Статьи
- URL: https://medbiosci.ru/1026-9479/article/view/264463
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.13843
- EDN: https://elibrary.ru/PIHVCZ
- ID: 264463
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Главной проблемой, решаемой в статье, явился вопрос о датировке черновых набросков Гоголя с авторским «рабочим» названием «К 1-й части». На протяжении почти ста лет принято было считать, что эти наброски, относящиеся к первому тому «Мертвых душ», написаны после выхода в свет этого тома в 1842 г. Произвольная датировка заметок «К 1-й части» 1845–1846 гг. опровергается многочисленными фактами, свидетельствующими, что образы и мотивы заметок были «вкраплены» Гоголем в общую ткань поэмы. Впервые на эти переклички указал в 1987 г. В. А. Воропаев, датировавший наброски 1839–1840 гг. К текстологическим наблюдениям, сделанным исследователем, в статье добавлены новые, позволяющие проследить эволюцию текста. Проанализирован также авторский замысел, каким он предстал в набросках, и то, с помощью каких средств он реализован в поэме. Совокупные данные текстологии и поэтики позволяют уточнить датировку заметок, приурочив их к первым месяцам 1841 г. В заметках содержится план автора выразить в «сплетнях» и «безделье» города N. в первом томе поэмы широкое прообразовательное значение, придав картине выражение общего «безделья» мира. Для воплощения этого замысла Гоголь наметил привести в поэме несколько аналогий к «бездельной» жизни «мертвых душ» — «включить все сходства и внести постепенный ход». В окончательном тексте поэмы такими «сходствами» стали типологически «родственные» сплетням гадательные «ученые рассуждения», предсказания лжепророков и псевдо-духовная литература. Все они, вместе взятые, объясняют, по Гоголю, многочисленные заблуждения человечества в мировой истории — следование «болотным огням», «заносящим далеко в сторону дорогам». Слухи об антихристе, возникающие в «пустоте» города, подсказывают, что в заключительных главах первого тома писатель изображает, как ранее в «Ревизоре», предапокалиптическое состояние общества, приближение последних времен, которое для некоторых в действительности становится «последним часом» (смерть прокурора).
Ключевые слова
Полный текст
Заметки «К 1-й части» и заключительные главы «Мертвых душ»
Среди сравнительно ограниченного объема гоголевских рукописей сохранились черновые наброски, позволяющие детально проследить сам процесс художественного творчества, войти в лабораторию писателя. Эти уникальные заметки являют собой подготовительный этап работы Гоголя над его главным произведением — поэмой «Мертвые души». Заметки дают возможность увидеть конкретные приготовления к реализации замысла, или, как шутил Гоголь, «возню» на писательской «кухне», где художник готовит свое литературное «блюдо» (письмо к С. Т. Аксакову от 6 марта (н. ст.) 1847 г.)1. Сохранив эти наброски от уничтожения, Гоголь словно сам «пригласил» читателей в свою мастерскую, чтобы те «могли вывести заключенье об обеде», увидев «множество таких странных и необыкновенных кастрюль и <…> таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовленья обеда, что у них закружилась голова» (14: 149).
Сходным образом еще в 1834 г., т. е. за год до начала работы над «Мертвыми душами», Гоголь по поводу «самых сильнорелигиозных христианских» Средних веков (6: 274) замечал:
«Все, что мы имеем, <…> — все это <…> образовалось в темные, закрытые для нас Средние века. <…> …без глубокого и внимательного исследования их <…> не полна Новая история; и слушатели ее похожи на посетителей фабрики, которые изумляются быстрой отделке изделий, совершающейся почти перед глазами их, но позабывают заглянуть в темное подземелье, где скрыты первые всемогущие колеса, дающие толчок всему: такая история похожа на статую художника, не изучившего анатомии человека» (7: 177).
Сохранившиеся уникальные гоголевские заметки, носящие «рабочее» заглавие «К 1-й части», позволяют наглядно увидеть в знаменитой поэме Гоголя «первые всемогущие колеса, дающие толчок всему», дают возможность постичь ее духовную «анатомию», а это заставляет анализировать их содержание с особой тщательностью, быть предельно внимательным к интерпретации и датировке рукописи, к той художественной логике, которая пронизывает сам творческий процесс.
История интерпретаций заметок «К 1-й части» насчитывает уже более ста лет. Вследствие долгого господства в обществе негативного отношения к духовному наследию Гоголя (этот недоброжелательный взгляд является «наследием» В. Г. Белинского) значительных успехов в постижении сути гоголевских заметок достигнуто, однако, не было. Напротив, под влиянием радикальной идеологии утвердилось мнение, будто никакого отношения к созданию первого тома «Мертвых душ», напечатанного в 1842 г., эти заметки не имеют, но представляют собой будто бы позднейшие «аллегорические» домыслы Гоголя к уже написанному ранее произведению.
Подобные мнения долго являлись господствующими и в отношении других гоголевских текстов духовно-нравственного содержания. Там, где писатель открыто указывал на религиозный смысл своей литературной деятельности, принято было видеть выражение попыток автора «переписать» свое прежнее творчество, придать ему якобы не существовавший в нем изначально смысл. Надуманной «аллегорией», к примеру, предлагалось считать «Развязку Ревизора», подлинное отношение которой к гоголевской комедии открывается лишь в самое последнее время [Виноградов, 2000: 275–312; 2018: 67–84]. Еще одним способом «реинтерпретации» гоголевского наследия на радикально-политический лад были попытки отнести те его произведения, где духовная проблематика очевидна, к позднему, «болезненному» периоду. Сторонники таких мнений старались не замечать тот факт, что часть этих произведений была написана Гоголем в расцвете сил. Ангажированная «датировка» сопровождала, например, гоголевское «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"» — важный писательский «документ», нравственное пояснение автора к комедии. Вместо реального времени создания «Предуведомления...» — 1841 г. — предлагалась дата гораздо более поздняя — 1846 г. (подробнее см.: [Виноградов, 2018]).
Сходная судьба постигла и авторские заметки «К 1-й части». С самых первых толкований этих гоголевских набросков утверждалось, будто они относятся к позднему этапу творчества писателя — к тому периоду, когда тот будто бы принялся «переосмыслять» свои прежние сочинения, пытаясь «навязать» «Ревизору» и «Мертвым душам» иной, отличный от прежнего, радикально-политического, смысл.
Между тем даже по общему содержанию заметки «К 1-й части» с очевидностью являются несомненными предварительными набросками к «городским» главам первого тома «Мертвых душ» 1842 г. (восьмой — десятой и, частично, одиннадцатой). Не заметить это может только очень предвзятый взгляд.
Относительно небольшой объем заметок позволяет привести текст в полном объеме:
«К 1-й части
Идея Города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие, Сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей. [Как с сп<летнями>2]
Частности в разговорах дам. Как к общим сплетням примешиваются частные сплетни, как в них не щадят одна другую. Как созидаются соображения, как эти соображения восходят до верха смешного. Как все невольно занимаются сплетнями, и какого рода Бабичи и юпки образуются.
Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. — И еще сильнее между тем должна предстать читателю Мертвая бесчувственность жизни.
Проходит [жизнь] страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление. Жизнь бунтующая, праздная, не страшно ли великое она явленье. Бал слепи<т>. Золото. Танец. Плечи. При бальном сиянии, при фраках, [при] сплетнях и визитных билетах [никто не заметит] никто не угадает последн<его часа>.
________
Частности. Дамы ссорятся именно из-за того, что одной хочется, чтобы Чичиков был [вот что] тем-то, другой тем-то, и потому принимает только те слухи, которые сообразны с ее идеями.
Явление других дам на сцену.
Дама приятная во всех отношениях имеет чувственные наклонности и любит рассказывать, как она иногда побеждала чувственные наклонности, и посредством ума своего, и чем умела не допустить до слишком коротких с нею изъяснений... Впрочем, это случалось само собою, очень невинным образом. До коротких объяснений никто не доходил уже потому, что она и в молодости своей имела что-то похожее на будочника, несмотря на все свои приятности и хорошие качества.
"Нет, милая, я люблю, понимаете, сначала мужчину приблизить и потом удалить; удалить и потом приблизить". Таким же образом она поступает и на бале с Чичиковым… У других тоже состраиваются идеи, как себя вести. Одна почтительна. Две дамы, взявшись под руки, ходили и решили хохотать, как можно дольше. Потом нашли, что совсем у Чичикова нет манер и внеш<ности?> хороших.
Дама приятная во всех отношениях любила читать всякие описания балов. Описание Венского конгресса ее очень занимает. Туалет любила дама, то есть, замечать на других, что на ком хорошо и что не хорошо.
Сидя рассматривают входящих. "Н<адворная> совет<ница> не умеет одеваться, совсем не умеет. Этот шарф так ей не идет..." "Как хорошо одета губерна<торская> дочка <2 нрзб.>". "Милая, она так гадко одета". "Уж если и так [ну] <1 нрзб.>".
________
Весь Город со всем вихрем сплетней преобразование бездельности жизни всего человечества в массе. Рожден бал и все соединения. Сторона главная, бальная, общества.
Противуположное ему преобразование во II <части?>, занятой разорванным бездельем.
Как низвести все [безделья] мира безделья во всех рода<х> до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?
Для <этого?> включить все сходства и внести постепенный ход» (5: 502–503).
Содержание заметок в общих и частных чертах прямо отзывается в восьмой — одиннадцатой главах первого тома «Мертвых душ», однако, в отличие от художественно совершенного, оконченного текста поэмы, как раз и обнаруживает те самые «первые всемогущие колеса, дающие толчок всему», о которых говорил Гоголь (7: 177).
Восьмая глава поэмы начинается с возникновения толков и слухов о Чичикове: она включает обсуждение чиновниками приобретений героя, содержит характеристику «презентабельных» дам, повествует о бале у губернатора и состоянии Чичикова после бала. В девятой главе говорится о визите «просто приятной дамы» к «даме, приятной во всех отношениях», вследствие чего умножающийся «вихрь» сплетен о Чичикове стремительно ускоряется. В десятой главе описывается совещание по поводу слухов губернских чиновников, их собственные догадки о Чичикове и смерть прокурора. В одиннадцатой главе, кроме чичиковской биографии (которая составляет отдельную, «ретроспективную» часть поэмы), говорится о состоянии героев во время похорон прокурора; в финале приводится пространное разъяснение автора, с какой целью он избрал Чичикова в герои поэмы, с призывом к читателю обратить взгляд на самого себя, а также прямое сравнение поэмы с городом: «Автор, <…> если уже <…> падет на него <…> обвинение за невзрачность лиц и характеров, может привести одну причину. <…> Въезд в какой бы ни было город <…> всегда как-то бледен, все как-то сначала серо и однообразно»3.
Эта общая картина, изображенная в «городских» главах тома, в главных чертах почти исчерпывающе (за исключением чичиковской биографии) представлена в предварительных заметках «К 1-й части». В главах поэмы отразились не только общие контуры сюжета, но и многочисленные частные детали, содержащиеся в заметках.
Рассматривать записи как «предварительные черновые заметки к первой части "Мертвых душ"» (в полном объеме, включая начальные главы) было бы ошибочно. Еще в 1889 г. Н. С. Тихонравов отметил, что гоголевские наброски «нельзя считать первоначальным планом первой части "Мертвых Душ", начертанным при самом начале работ над нею» [Тихонравов: 509–510]. Опровержением взгляда, что заметки являются проспектом для всего тома (такое мнение высказала в 1972 г. А. А. Елистратова [Елистратова: 20]), может служить само их название — «К 1-й части». Это заглавие косвенно указывает на то, что Гоголь одновременно работал уже и над второй «частью» поэмы — а это могло произойти не ранее 1839–1840 гг. Именно с этого времени писатель, согласно нескольким достоверным свидетельствам, приступил к работе над вторым томом «Мертвых душ»4 [Виноградов. Летопись; т. 3: 130]. Следовательно, можно заключить, что черновые наброски «К 1-й части» являются проспектом лишь заключительных глав тома.
Однако тот же Тихонравов, резонно отвергая принадлежность заметок «К 1-й части» к самому началу работы над «Мертвыми душами», в то же время выдвинул необоснованное предположение, будто набросок относится к гораздо более позднему периоду — ко времени сожжения Гоголем второго тома «Мертвых душ» в 1845 г. [Тихонравов: 514].
В качестве решающего текстологического аргумента Тихонравов приводил то, что мелкими «частностями» о «чувственных наклонностях» «дамы приятной во всех отношениях» и ее любви к описаниям балов Гоголь в первом томе не воспользовался [Тихонравов: 515]. Будучи по своим убеждениям «западником типа Грановского и Тургенева» [Сакулин: 36]5, исследователь полагал, будто эти (незначительные) частности были «проектированы автором после напечатания этого тома», и «переделать первый том поэмы по новому плану» автор якобы «не успел» [Тихонравов: 515].
Еще одним — формальным — аргументом Тихонравова в пользу датировки заметок поздним периодом было то, что они, по его наблюдению, «набросаны на такой же точно бумаге, на какой написана первая редакция "Размышлений о Божественной литургии"», «восходящая», по мнению Тихонравова, к 1845–1846 гг. [Тихонравов: 515]6. Однако очевидно, что и этот аргумент не может служить достаточным основанием для отнесения наброска «К 1-й части» к позднейшему периоду. Во-первых, Гоголь при создании новых произведений часто пользовался чистыми листами бумаги, остававшимися с давнего времени в его портфеле (см.: [Виноградов, 2020b]). Во-вторых, указанные автографы <Размышлений о Божественной Литургии> на самом деле относятся не к 1845–1846 гг., а к зиме 1843/44 г. [Виноградов, 2009: 485, 488–493, 495–498], [Виноградов. Летопись; т. 4: 420–430].
Впоследствии, на протяжении почти всего XX в., мнение Тихонравова, некритически воспринятое, служило поводом для заявлений исследователей о «правильности» такой датировки [Жданов, Зайденшнур: 893], для утверждений, что наброски «возникли на почве уже созданного произведения и вели лишь к еще более четкому выявлению его структуры» [Смирнова, 1982: 170], что они предназначались в качестве «подготовительных набросков» для последующего «переиздания первого тома» [Смирнова, 1987: 65] (см. также: [Марковский: 179–180], [Манн: 233–237], [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.]).
В 1987 г. это расхожее мнение было подвергнуто критике в обстоятельной статье В. А. Воропаева, обнаружившего многочисленные реминисценции наброска в тексте заключительных глав второго тома [Воропаев, 1987]. Была фактически доказана неверность датировки гоголевских заметок поздним временем.
Однако значимость открытия так и не была осознана. В 2012 г. в новом академическом издании сочинений Гоголя конкретные текстологические наблюдения В. А. Воропаева были проигнорированы. Заметки «К 1-й части», несмотря на факты, были по-прежнему ошибочно датированы здесь 1845–1846 гг. [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.: 813, 818–823]. (Естественно, это ставит под вопрос точность датировок в новом издании и других черновых автографов «Мертвых душ».)
В результате тщательной текстологической работы, проведенной в 1987 г. В. А. Воропаевым, было установлено, что не только общее содержание, но практически все содержащиеся в заметках «К 1-й части» частные мотивы и образы, за незначительными исключениями, были «вкраплены» Гоголем в общую ткань поэмы. Подытожим эти наблюдения, добавив ряд новых. В поэме подготовительный материал заметок «К 1-й части» был распределен следующим образом:
- Самые первые строки заметки: «Идея Города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие, Сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей» (5: 502) — нашли отражение в истории возникновения и распространения городских сплетен, развернутой в восьмой и девятой главах, а также влияния их на доходящих до «глупостей» чиновников, «людей неглупых», в главе десятой:
«И могли так спутаться, сбиться с толку и растеряться Чиновники, <…> заехать в такую околесину, набредить, напутать сами себе такой вздор, когда ребенок даже видит, что это вздор. <…> И произведут бедных чиновников моих в пошлейших дураков...» (Гоголь, 2012: 673–674); «И ему случалось видеть не мало мущин очень не глупых и даже весьма бойких на счет проницательности и осмотрительности, но которые, однако ж, в этом случае пожимали только плечами и на лицах их выказывалось самое глупейшее выражение, какое когда-либо было видимо на человеческом лице…» (курсив наш. — И. В.) (Гоголь, 2012: 646; отмечено: [Воропаев, 1987: 182]).
- В девятой главе также были воплощены отдельные строки наброска о сплетнях (из раздела «Частности в разговорах дам»): «Как к общим сплетням примешиваются частные сплетни, как в них не щадят одна другую. Как созидаются соображения, как эти соображения восходят до верха смешного» (5: 502). Здесь главное место занимают сплетни о Чичикове (отмечено: [Воропаев, 1987: 182]).
- Замечание о том, как в сплетнях дамы «не щадят одна другую», и упоминание о «чувственных наклонностях» одной из них (5: 502) отразились в поэме в следующих строках:
«...сквозь любезность прокрадывалась часто сильная стремительность женского характера, и в иных случаях едкостью нескрытою вооружались ее наружно холодные речи, а уж не приведи Бог, что кипело в сердце ее против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые» (Гоголь, 2012: 624); «"...а наш Прелестник-то... Ах, <…> до какой степени он мне показался противным". — "Однако ж <…> Вы были немножко неравнодушны к нему"» (Гоголь, 2012: 637). — «Никогда, никогда, <…> а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных» (5: 180). — «"Уж извините <…> за мной подобных скандальозностей никогда не водится. <…>". — "Однако ж <…> ведь Вы первая захватили стул у дверей". <…> в разговоре нечувствительно вдруг само собою родится <…> желание кольнуть друг друга...» (Гоголь, 2012: 638; отмечено: [Манн: 235]7).
- Одна из намеченных в наброске «частностей» в облике дам — «дамы ссорятся именно из-за того, что одной хочется, чтобы Чичиков был тем-то, другой тем-то, и потому принимает только те слухи, которые сообразны с ее идеями» (5: 502), — отзывается в дамских репликах в девятой главе:
«"...так он за старуху принялся. Ну хорош же после это<го> вкус у наших дам: нашли в кого влюбиться". — "Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете"» (Гоголь, 2012: 632).
- Оскорбленная «критика» дам в адрес Чичикова, содержащаяся в наброске («Две дамы <…> нашли, что совсем у Чичикова нет манер и внеш<ности> хороших» — 5: 503), отзывается еще раз в реплике одной из дам в девятой главе: «...он человек негодный, мерзкий человек, не знающий ни обращения, ни приличия... гадкий человек» (Гоголь, 2012: 630; отмечено: [Воропаев, 1987: 183]).
- Ревнивая полемика дам о губернаторской дочке («"А мужчины от нее без ума <…>…". — "Манерна нестерпимо". <…> "Но <…> она статуя и бледна, как смерть". — "Не говорите, <…> не бледна, а румянится безбожно"» — Гоголь, 2012: 635) тоже восходит к строкам наброска «К 1-й части»: «"Как хорошо одета губерна<торская> дочка...". — "Милая, она так гадко одета"» (5: 503; отмечено: [Воропаев, 1987: 183]).
- Заметка в наброске «Туалет любила дама, то есть, замечать на других, что на ком хорошо и что не хорошо» (5: 503), — отзывается в одновременно одобрительных и неодобрительных репликах дамы в девятой главе по поводу модных платьев:
«"Какой веселенький ситец!" воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы» (Гоголь, 2012: 626); «Милая, это пестро» (Гоголь, 2012: 169); «...это <…> прескверно <…>, если все фестончики» (Гоголь, 2012: 627; отмечено: [Воропаев, 1987: 183]).
- Слова наброска «Жизнь бунтующая, праздная...» (5: 502) находят воплощение в следующих строках поэмы: «...обе дамы <…> отправились каждая в свою сторону бунтовать город. <…> Город был решительно взбунтован...» (Гоголь, 2012: 641–642). Соответствующее развитие в девятой главе получает и фраза «Весь Город со всем вихрем сплетней...» (5: 503):
«...пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку и Чичикова <…>. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город!» (5: 184; отмечено: [Воропаев, 1987: 182]).
- Строки о бале: «Бал слепи<т>. Золото. Танец. Плечи. При бальном сиянии, при фраках, [при] сплетнях и визитных билетах [никто не заметит] никто не угадает последн<его часа>» (5: 502) — отзываются в картине зарождения сплетен в девятой главе, в словах о «визитной карточке» (вещи «священной») в восьмой главе (5: 153) и в описании в той же главе губернского бала:
«Дамы <…> обступили его блистающею очаровательною вереницею <…>. Шея, плечи <…> открыты... (Гоголь, 2012: 597–598); «...весь бал со всей толпой, люстрами, свечами, плечами, картами, <…> скрыпками...» (Гоголь, 2012: 609); «Галопад летел во всю пропалую: <…> все поднялось и понеслось...» (5: 158).
Те же строки наброска (о внезапно настигающем человека «последнем часе») отзываются в повествовании о скоропостижной смерти прокурора в десятой главе (а также в картине похорон в одиннадцатой, где Чичиков «с каким-то неизъяснимым, странным чувством и вместе с некоторого рода испугом» смотрит на покойника (Гоголь, 2012: 682), тогда как идущие за гробом чиновники заняты мыслями о том, каков будет новый генерал-губернатор, а дамы, сопровождающие процессию в каретах, делают предположения насчет балов и обсуждают новые наряды).
- Таким образом получают развитие и строки наброска:
«Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. — И еще сильнее между тем должна предстать читателю Мертвая бесчувственность жизни.
Проходит [жизнь] страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление» (5: 502).
Эти слова дополнительно отзываются в поэме размышлениями повествователя по поводу смерти прокурора:
«Еще одна жизнь убежала из мира... <…> ...зачем он умер или зачем жил — об этом один Бог ведает. <…> "…вот, я думаю, напечатают в газетах, что скончался к всеобщему прискорбию подчиненных и всего человечества почтенный Гражданин, редкий отец, примерный супруг... <…> ...а ведь если разобрать хорошенько дело, так у тебя, может быть, на поверку всего и было только что густые брови"» (Гоголь, 2012: 673, 683); «А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно <…> в великом человеке...» (5: 203).
Мысли о «не трогающемся» смертью мире сказались не только в изображении думающих на похоронах о житейском чиновников и равнодушии дам «в траурных чепцах» (Гоголь, 2012: 683). «Житейские разговоры» «обыкновенно ведут между собою провожающие покойника», — замечает автор (5: 212). Мысль о том, что «смерть поражает нетрогающийся мир», Гоголь воплотил также в скором утешении Чичикова, успокоившего себя пришедшейся к месту двусмысленной приметой: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника» (Гоголь, 2012: 683)8; а также в гоголевской иронии по поводу героев «из народа» — чичиковских Селифана и Петрушки, разглядывающих с козел «бесконечную погребальную процессию» (Гоголь, 2012: 682):
«...Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпы, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, <…> сколько числом шло пешком, а сколько ехало в карете» (выделено нами. — И. В.) (Гоголь, 2012: 682–683).
Явление смерти отзывается во всех этих героях лишь «набожным» сниманием шляп, ношением «траурных чепцов» и утешительным для себя припоминанием «встречных» псевдо-духовных примет.
- Важная задача, поставленная в наброске: «Как низвести все [безделья] мира безделья во всех рода<х> до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира? Для <этого?> включить все сходства и внести постепенный ход» (5: 503), — решается автором внесением в поэму сразу нескольких соответствующих мотивов и размышлений (в соответствии с задачей: «включить все сходства»).
Первым, или главным «сходством» являются размышления автора по поводу нелепой веры чиновников в слухи:
«А разверните гремящую летопись человечества, что в ней? Сколько <…> в ней <…> столетий, которые бы <…> вычеркнул как ненужные» (Гоголь, 2012: 674).
Во-вторых, той же задаче служит аналогичное замечание рассказчика по поводу нелепых дамских догадок о Чичикове:
«...в этом ничего нет необыкновенного: наша братья народ умный, как мы [любим] называть себя неизвестно по какой причине, поступает иногда почти так, а доказательством наши ученые рассуждения...» (Гоголь, 2012: 640).
Третьим «сходством», родственным гадательным «ученым рассуждениям» и заблуждениям человечества в истории, можно назвать (несмотря на то, что оно выглядит гораздо менее важным) упоминание в поэме об игнорировании «пустым» человеком в болезни докторов при самостоятельном изобретении «декохтов из невесть какой дряни» (5: 200), обращении к «шарлатану» (Гоголь, 2012: 670) и «бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками» (5: 200).
На завершающем этапе работы Гоголь внес в поэму по крайней мере еще два важных «сходства», характеризующих городское безделье и слухи как проявление «безделья мира во всех родах», — безответственную, вводящую в заблуждение словесность и самозваную деятельность современных лже-пророков, «духовных вождей» общества, приводящую к такому же результату (см. ниже).
- Не были напрямую использованы в поэме лишь отдельные «частности» в характеристиках дам (хотя упоминаемые в набросках «чувственные наклонности» дамы (5: 502) — чреватые «скандальозностью» — в ее репликах косвенно отразились; см. выше, пункт 3):
«Дама приятная во всех отношениях имеет чувственные наклонности и любит рассказывать, как она иногда побеждала чувственные наклонности, и посредством ума своего, и чем умела не допустить до слишком коротких с нею изъяснений... Впрочем, это случалось само собою, очень невинным образом. До коротких объяснений никто не доходил уже потому, что она и в молодости своей имела что-то похожее на будочника, несмотря на все свои приятности и хорошие качества.
"Нет, милая, я люблю, понимаете, сначала мужчину приблизить и потом удалить; удалить и потом приблизить". Таким же образом она поступает и на бале с Чичиковым… У других тоже состраиваются идеи, как себя вести. Одна почтительна. Две дамы, взявшись под руки, ходили и решили хохотать, как можно дольше. <…>
Дама приятная во всех отношениях любила читать всякие описания балов. Описание Венского конгресса9 ее очень занимает» (5: 502–503).
Судя по строкам наброска: «Сторона главная, бальная, общества» (5: 503) — и тому «ключевому» значению, какое всегда придавал Гоголь балам и танцу (см.: [Виноградов, 2020a: 84–86]), сначала он намеревался дать в «Мертвых душах» более подробное описание бала, но затем отказался от этого. Главным в бальных сценах стало поведение и чувства Чичикова, остальное было сокращено (для героя, встретившего в блестящем собрании губернаторскую дочку, «весь бал <…> со всем своим говором и шумом <…> показался как будто бы <…> где-то вдали» — Гоголь, 2012: 608).
О разных ухищрениях дам с целью привлечь на балу внимание «миллионщика» (намеченных в предварительных набросках) осталась лишь фраза:
«...Дамы, кажется, не хотели его оставить так скоро, и каждая внутренно решилась употребить с своей стороны все возможные орудия, так опасные для бедных сердец наших, чтобы привлечь и совершенно поразить его, [и каждая] втайне решила пустить в дело то, что у нее было лучшего» (Гоголь, 2012: 606).
Не был передан в поэме, с буквальной точностью, и предполагавшийся в заметках «бальный» эпизод «Сидя рассматривают входящих. "Н<адворная> совет<ница> не умеет одеваться, совсем не умеет. Этот шарф так ей не идет..."» (5: 503). Судя по всему, содержавшиеся в черновом наброске отдельные частности Гоголь изменил или отбросил (или перенес в сцену разговора дам на дому), следуя художественной логике изображаемых событий: они могли либо «утяжелить» повествование, либо замедлить действие поэмы [Воропаев, 1987: 183].
- Еще одним важным основанием для вывода о том, что набросок «К 1-й части» предшествует созданию восьмой — одиннадцатой глав первого тома поэмы, служит употребление в нем слова «бабич»: «Как все невольно занимаются сплетнями, и какого рода Бабичи и юпки образуются» (5: 502). При написании девятой главы Гоголь воспользовался и этой фразой, изменив лишь начальное слово: областное речение «бабич» исправил на общее — «баба», оставив при этом то же сочетание со словом «юбка» (как в записной книжке). Рассказчик, сообщая в девятой главе о мужчинах, поверивших слухам женской половины (будто Чичиков собирается похитить губернаторскую дочку), добавляет, что за это товарищи обругали их «бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужеского пола» (5: 186; отмечено: [Воропаев, 1987: 182]).
Толкование слова «бабич» встречается в записной книжке Гоголя 1840–1842 гг.: «Бабич — любящий разговориться и водиться с бабами» (9: 596). Заметка появилось, по-видимому, во время проживания на квартире Гоголя в Риме славянофила В. А. Панова, со слов которого она предположительно и была записана. Панов жил в Риме у Гоголя в период с февраля по начало мая (н. ст.) 1841 г. [Виноградов. Летопись; т. 3: 495–497, 535]. Слова «назвавших юбками и бабами», «обругавших их бабами и назвавших юбками» (Гоголь, 2012: 646) появились впервые в черновой редакции первого тома, относящейся к 1840 г. — первым месяцам 1841 гг. Это позволяет датировать наброски началом 1841 г.
«Городские главы» «Мертвых душ» и предшествующие произведения Гоголя
В. А. Воропаев дополнительно указал, что «понятия пустоты, мертвенности, скуки или бездельности жизни», о которых идет в речь в заметках «К 1-й части», являются «наиболее характерными» для Гоголя, начиная с ранних произведений: «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода» [Воропаев, 1987: 182]. 25 января (н. ст.) 1837 г. Гоголь, в частности, писал Н. Я. Прокоповичу:
«Желаю <…>, чтобы ты наконец принялся за дело. <…> Жизнь твоя не полна, ты теперь должен иногда чувствовать пустоту ее» (11: 90).
В повести «Рим» (1838–1842) Гоголь описывал впечатления героя в Париже:
«В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность... <…> …нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уваженье. <…> Призрак пустоты виделся на всем» (3/4: 185, 187–188).
Отмечено также, что воплощенная в заключительных главах первого тома «Мертвых душ» «идея города» («возникшая до высшей степени Пустота» — 5: 502) была глубоко прочувствована в 1842 г., вскоре после выхода тома в свет, критиком С. П. Шевыревым, одним из друзей Гоголя [Воропаев, 1987: 184–185]. Откликаясь печатно на «Мертвые души», тот писал о «пустоте <…> жизни» людей типа Манилова10, «пустой бессмыслице в действиях города N»11 и замечал: «...мы <…> видим, как пустая и праздная жизнь может низвести человеческую натуру до скотской»12. Критик подчеркивал, что ранее эту тему Гоголь уже воплотил в «Ревизоре» (1836):
«Как будто сам демон путаницы и глупости носится над всем городом и всех сливает в одно: здесь, говоря словами Жан-Поля, не один какой-нибудь дурак, не одна какая-нибудь отдельная глупость, но целый мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу. В другой раз Гоголь выводит нам такой фантастический Русской город: он уж сделал это в Ревизоре...»13.
Судя по оценке Шевырева, замысел Гоголя, изложенный в наброске «К 1-й части», вполне удался писателю. Шевырев как читатель и критик в достаточной мере проникся авторской мыслью, являющейся основополагающей для образов поэмы. «"Безделье", по Гоголю, — указывает В. А. Воропаев, — это не просто пребывание без дела, в праздности: в мире Гоголя можно быть очень деятельным и в то же время не заниматься делом»:
«"Ноздрев был занят важным делом... <…> …оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии..." <…> Иными словами, это деятельность, лишенная внутреннего содержания. В этом смысле вся жизнь неутомимо деятельного Чичикова есть лишь иллюзия деятельности. Так или иначе печатью "безделья" отмечены и другие герои "Мертвых душ". <…> "Бездельность жизни" — отличительная черта не только отдельных героев поэмы, но и всего города в массе. <…> Город взбудоражен, живет деятельной, насыщенной жизнью, но внутри всего этого — страшная пустота» [Воропаев, 1987: 184].
«Аналогичная ситуация, — добавляет исследователь, — в "Ревизоре"» [Воропаев, 1987: 184]. Написанному ранее «Ревизору» соответствует и отмеченная исследователями близость в гоголевских заметках «К 1-й части» категорий смешного и страшного [Елистратова: 21], [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.: 815]. Именно эта черта присуща в полной мере «Ревизору» как «комедии-трагедии» (см.: [Виноградов, 2024]).
Одна из ключевых тем наброска — феномен «сплетней» как явления, вводящего в заблуждение. В свою очередь, эта тема тоже была поднята Гоголем еще в «Ревизоре», где выведены «сплетники городские, лгуны проклятые» Бобчинский и Добчинский (7: 454).
Таким образом, подробный текстологический и историко-литературный анализ показывает, что заметка «К 1-й части» явилась Гоголю прямым проспектом при создании заключительных глав первого тома «Мертвых душ».
Эсхатология «Мертвых душ» и «Ревизора»
В пользу ранней датировки заметок «К 1-й части» говорит и сама поэтика глав, к созданию которых эти наброски послужили развернутым планом. Ретроспективный взгляд позволяет детально обозначить преемственность художнической мысли Гоголя и сделать попутно ряд принципиальных выводов о сути гоголевской поэтики.
Во-первых, следует еще раз обратить пристальное внимание на то, что заключительные главы первого тома «Мертвых душ» содержательно во многом повторяют сюжет написанного ранее «Ревизора». Так же, как в «Ревизоре», в котором чиновники со страхом ожидают ревизии, губернские служащие в поэме тоже встревожены вестью о назначении в губернию нового генерал-губернатора [Виноградов, 2000: 287, 292–293; 2018: 75, 80–81]. Именно слухи, мотив которых является ключевым для наброска «К 1-й части», играют в страхах чиновников — и в «Ревизоре», и в поэме — первостепенную роль. Их «в высшей степени» нелепость соотносится с не менее вздорной «сплетней» о «ревизоре»-Хлестакове, пущенной в ход «сороками короткохвостыми» Бобчинским и Добчинским (3/4: 300).
Во-вторых, следует указать на несомненную связь комедии и поэмы также и на «прообразовательном», символическом уровне. Как уже отмечалось, чтобы осуществить замысел, изложенный в заметках «К 1-й части», — т. е. чтобы «городское безделье» прообразовательно возвести к «безделью мира во всех родах», — Гоголь предполагал «включить все сходства и внести постепенный ход». Говорилось также, что, следуя этой задаче, Гоголь уподобил в поэме городские сплетни (которые самым своим происхождением обязаны «безделью» — «возникли из безделья») псевдоученым «новооткрытым истинам» (Гоголь, 2012: 640–641) и историческими заблуждениями человечества (Гоголь, 2012: 674).
В поэме есть, по крайней мере, еще два таких же важных «сходства», которые Гоголь «включил» в текст, чтобы придать «вихрю сплетен» всеобъемлющее значение и мировой масштаб. «Вихорь» слухов и догадок, «переходящих пределы», доходящих до крайнего «прозрения» почтмейстера, будто Чичиков — это «выпущенный» «из острова Св. Елены» Наполеон, угрожающий России и миру, — еще более взвинчивает и умножает вера обывателей в «предсказание» о бывшем французском императоре «одного пророка, уже три года сидевшего в остроге»:
«Пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлою рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и что теперь держится на каменной цепи, но после разорвет цепь и должен наконец овладеть всем миром. <…> Многие из Чиновников и благородного дворянства невольно подумывали тоже об этом...» (Гоголь, 2012: 668–669).
Нагнетание слухов и «пророчеств» в «Мертвых душах», упоминание здесь о приближении антихриста, угрожающего всему миру, говорит о том, что в «городских» главах поэмы Гоголь изобразил, как ранее в «Ревизоре», предапокалиптическое состояние общества, приближение последних времен — состояние, которое для кого-то, а именно для прокурора (человека, который обладал в городе «полной властью»14, но «по скромности» никогда «не показывал», есть ли у него «душа»15 — 5: 203), становится в действительности его «последним часом». Глубокий апокалиптический подтекст Гоголь сообщил ранее именно «Ревизору». Само создание пьесы было приурочено к 1836 г. — году, в который, согласно предсказаниям западных мистиков, должен был последовать конец света [Чижевский: 140], [Виноградов, 2000: 275–293; 2018: 67–84; 2019].
Апокалиптическому контексту «Ревизора» и «Мертвых душ» соответствует и сохранившийся в бумагах Гоголя набросок к завершающему, третьему тому поэмы, изображающий обличение чиновников на Страшном Суде:
«"Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу <…>? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды и вниманья, и поощренья? <…>".
Потупил голову, устыдившись, управитель, и не знал, куды ему деться.
И много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей, начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы» (5: 493).
В этом свете все носители сплетен в поэме, подобно «сорокам» Бобчинскому и Добчинскому в «Ревизоре», являются предшественниками лжепророков последних времен — появление этих ложных «информаторов», суеверных «болотных огней» (5: 204) умножает неразбериху в обществе, ведет к духовной дезориентации. Гоголь подразумевает здесь евангельское свидетельство о конце света:
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24:6); «...многие лжепророки восстанут, и прельстят многих...» (Мф. 24:11); «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители... <...> И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2 Пет. 2:1–2); «...восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24).
Нелепые слухи — как прямое порождение городского «безделья» — приобретают в гоголевской поэме самое широкое прообразовательное значение, обращают к евангельскому первоисточнику. Позднее, в письме к А. О. Смирновой в 1849 г., Гоголь, как бы прямо комментируя распространение слухов в «Ревизоре» и «Мертвых душах», замечал:
«Что же касается до сплетней, то не позабывайте, что их распускает чорт, а не люди, затем, чтобы смутить и низвести с того высокого спокойствия, которое нам необходимо для жития жизнью высшей...» (15: 284).
Еще одним «сходством», придающим поэме глубокий символический смысл, является характеристика в поэме современной словесности, т. е. потребляемой обществом литературы, которую писатель-сатирик тоже не выводит из-под своей нелицеприятной критики. Оторванная от жизни, эта мнимо-«просветительная», псевдо-значимая литература, в свою очередь, уподобляется Гоголем будоражащей чиновников «сплетне», обозначается как средство, с помощью которого люди «напускают <…> слепой туман друг другу в очи» (5: 204). Наглядной «иллюстрацией» этому служит в поэме исполненное нелепых догадок — и одновременно несомненных художественных достоинств — измышление почтмейстера о том, что Чичиков есть никто иной, как капитан Копейкин, являющееся, по сути, большой, широко развернутой, «высокохудожественной» «сплетней». К этому «литературному» ряду примыкает не менее сомнительный жанр ложно-мистической, масонской книжности. Именно сочинения западных мистиков — «Юнговы "Ночи"», «"Ключ к таинствам натуры" Эккартсгаузена» (5: 151) — читает рассказчик «Повести о капитане Копейкине». Почтмейстер, таким образом, выступает в поэме — в «презанимательном» рассказе о Копейкине (Гоголь, 2012: 657) и «таинственных» мистических увлечениях (родственных предсказаниям пророка в «нагольном тулупе») — своего рода «литератором» и «пророком» — источником пустых историй, сплетен и духовных заблуждений, присущих городским обывателям. В этом же ряду сочинений мнимой значимости находится и читаемый Чичиковым во время простуды «том герцогини Лавальер» (5: 204), «сочинение Жанлис» (Гоголь, 2012: 693) — роман об одной из фавориток французского короля Людовика XIV. «Достается» от автора «Мертвых душ» даже Жуковскому — за перевод баллады о «мертвом женихе» немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора» (в переводе: «Людмила») — поэтического произведения, которому сам Гоголь в юности неумело подражал (в своем «немецком» «Ганце Кюхельгартене», 1827–1829). Эту балладу искусно читает в поэме неюный и «весьма рассудительный» (5: 17) председатель палаты: «...знал наизусть "Людмилу" <…> и мастерски читал многие места...» (5: 151).
«Критику словесности» Гоголь представил также, характеризуя носителей «мертвых душ», в восьмой главе поэмы, в пересказе любовного письма к Чичикову неизвестной дамы — послания, «кудряво написанного», с «мыслями, весьма замечательными по своей справедливости»: «Что жизнь наша? — Долина, где поселились горести. Что свет? — Толпа людей, которая не чувствует» (5: 155); с строками из стихотворения Н. М. Карамзина «Доволен я судьбою...»: «Две горлицы покажут / Тебе мой хладный прах...» (5: 155). Повествователь при этом сообщает, что «стихи» «любит» главная городская сплетница — «дама, приятная во всех отношениях», владеющая даром к «сметливым предположениям» (5: 176, 198). В этом она прямо уподобляется «поэту»-сплетнику Ноздреву, который тоже в азарте «никак» не может отказаться от дополнительных «интересных подробностей» в рассказе о том, как Чичиков собирался увезти губернаторскую дочку (Гоголь, 2012: 672). Кроме того, в десятую главу было внесено — сразу за «Повестью о капитане Копейкине» — замечание о читателе, который «пропустит мимо создание Поэта, ясное, стройное, все проникнутое чудным согласьем и высокой мудростью простоты, и бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, выломает, изломает природу — это ему понравится, и он пойдет кричать: "Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!"» (Гоголь, 2012: 669–670). Слово «наплетет», употребленное при характеристике писаний литератора-«удальца», прямо намекает на их родство со сплетнями16.
Тема бала в «Записках сумасшедшего» и «Мертвых душах»
В целом по поводу сплетен, слухов и светских условностей Гоголь оставил прямой автокомментарий. В одной из статей «Выбранных мест из переписки с друзьями» он замечал, что «уничтоженье <…> сложности светских отношений <…> уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникнули, как вихри, между обитателями городов» (6: 151), и что «вихрь возникнувших запутанностей» «застенил всех друг от друга» и отнял «почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле», приведя к «повсеместному помраченью и всеобщему уклоненью всех от духа земли своей» (6: 148).
Уместно в этой связи еще раз обратить внимание на читаемое героем «Записок сумасшедшего» в газете «Северная Пчела» «приятное изображение бала, описанное курским помещиком» (3/4: 161). Как удалось установить, речь в повести идет о «Письме из Курска в столицу» неизвестного автора, напечатанном в газете 5 марта 1832 г.17 В «Письме из Курска...» содержится описание роскошного бала, устроенного для местного дворянства губернатором П. Н. Демидовым18. Письмо «курского помещика» является своего рода реальным комментарием к замечанию рассказчика в восьмой главе «Мертвых душ» о том, что губернаторский бал — «дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства» (5: 156). «Курский помещик» в 1832 г. сообщал:
«...Курск не Мекка и не Париж <…>. Но здесь есть <…> причина <…> более привлекательная <…> — это благороднейшее желание Курского Губернатора, Павла Николаевича Демидова, изъявить Дворянству Губернии <…> нелицемерное свое уважение, душевную преданность и усердную готовность19, в ознаменование чего он дал 7-го Февраля блистательнейший бал в залах Благородного Собрания. <…> ...сладостнее всего было видеть бескорыстное и чистейшее желание Начальника Губернии заслужить любовь Дворянства: все чувства, все помышления его устремлены были к одной цели — снискать расположение оного. Вот пример, достойный подражания!»20.
Курский корреспондент отмечал:
«...Курск <…> ныне <…> превзошел самого себя... <…> Швеи не успевают шить нарядов, купцы выписывать материй; ювелиры, винопродавцы, модные магазины стеклись из многих соседственных губерний... <…> Я не в силах описать <…> ту роскошь, то великолепие, которые отражались в каждом предмете сего чрезвычайного бала. <…> ...все, что самая роскошная гастрономия может изобресть для услаждения избалованного вкуса человека, все, что богатая природа и утонченное искусство Италии и Франции производит отличного в роде сластей и ликеров, здесь все было сосредоточено. <…> ...как желал бы я, чтоб ненавистные враги России <…> могли видеть сию картину величия и богатства оной! Как были бы удивлены они, найдя в Губернии, отдаленной от столиц <…>, общество столь изящное, убранства столь роскошные, и вкус, и великолепие столь уточненные! <…> В 5 часов по полуночи кончился сей блистательный бал. <…> Всех посетителей было около двух тысяч»21.
С восторженным описанием роскошного бала «курским помещиком» контрастирует, однако, то, что после холеры 1831 г. 1832 г. был в России неурожайным. Еще более бедственным стал следующий, 1833 г. Голодным и малоурожайным выдался и 1834 г. — год создания «Записок сумасшедшего». О неурожае и дороговизне Гоголь упоминал в нескольких письмах к матери: от 3 декабря 1832 г., от 9, 30 августа и 22 ноября 1833 г., от конца марта — первых чисел апреля и от 15 декабря 1834 г. (10: 199, 221–222, 230, 250, 281). О «неурожаях прошедших» замечал Гоголь в письме к Г. И. Спасскому от 1 июня 1835 г. (11: 25). О «страшном голоде» 1833–1834 гг. вспоминала позднее и мать Гоголя [Виноградов. Летопись; т. 2: 186, 294]. 4 декабря 1833 г. в «Северной Пчеле», в специальном «прибавлении», была напечатана пространная статья Н. И. Тарасенко-Отрешкова (Атрешкова) «О веществах, удобнозаменяющих для народа ныне существующий недостаток в хлебе», в которой содержались советы по изготовлению хлеба из соломы, отрубей, картофеля, дубовых желудей, отходов винокурения, приготовления студня из костей22. Неурожаи случались и в последующие годы — в годы создания «Мертвых душ» — в 1836, 1838–1839 (см.: 11: 89, 275, 279).
Все это и «подразумевает» в восьмой главе «Мертвых душ» Чичиков, когда бранит, «несколько справедливо»23, балы:
«Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы! <…> Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! <…> Невидаль: что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков... <…> …просто дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре...» (5: 169); «Набрались добра из чужого края. Умели самое лучшее перенять, как перевести последнюю копейку»24.
Роскошный светский пир продолжается в «Мертвых душах», в десятой главе, в глазах голодного инвалида капитана Копейкина.
Вполне очевидно, «бальный», присущий бессмысленно-разорительной жизни мотив прочно вошел в круг обличений Гоголя уже в первой половине 1830-х гг. — чтобы предстать потом «стороной главной <…> общества» (5: 503) в период создания заметок «К 1-й части» и городских глав первого тома поэмы.
«Душевный город» художественных типов Гоголя
Можно, таким образом, сделать вывод, что по крайней мере четырежды Гоголь реализует в «Мертвых душах» тот замысел, который он изложил предварительно в наброске «К 1-й части» («...включить все сходства и внести постепенный ход»). Этому служит четырехкратное сопоставление слухов с другими ведущими к заблуждениям общественными явлениями: догадками псевдоученых, ошибками истории, мнимо-«духовной» литературой и прельщающими предсказаниями лжепророков.
Наконец, как уже говорилось, в заключение одиннадцатой главы Гоголь помещает и пространное рассуждение о самих мотивах и особенностях его художнического обличения, о символических принципах изображения, которые он употреблял неизменно при создании произведений, в том числе «Ревизора», и которые потом, несколько лет спустя, были изложены им еще раз — в другой форме, но почти в той же последовательности — в «Развязке Ревизора» (см.: [Виноградов. Летопись; т. 2: 450–460; т. 3: 327–328]). (В новейших академических комментариях 2003 и 2012 гг. (см.: [Зайцева, Манн], [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.]), к сожалению, были проигнорированы и эти — опубликованные еще в 1994 г. — факты [Виноградов, 1994: 553–554].) Речь идет о том, что «город» «Ревизора» является символическим изображением «душевного города» каждого человека — и автора, и читателя (3/4: 492), и что «город» «Мертвых душ», в свою очередь, — «вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают» (13: 153)25. Важные размышления автора в заключительной главе первого тома о «городе» «Мертвых душ», в свою очередь, восходят к «прообразовательным» («преобразовательным») положениям заметок «К 1-й части» 1841 г.
Таким образом, с полным основанием можно сделать вывод о том, что уже в той редакции поэмы, которая была напечатана в 1842 г., Гоголь в полной мере развил идеи и образы, высказанные в предварительных набросках, придав картинам городских глав замышлявшееся символическое подобие «безделью» всего мира.
В этом свете определенно ошибочным является мнение современных комментаторов о том, что никаких прообразовательных «сходств», предполагавшихся Гоголем в набросках, в поэме, опубликованной в 1842 г., якобы не наблюдается, будто бы «пути» к такому изображению были лишь «намечены» Гоголем в заметках «К 1-й части» только «в самом общем виде» [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.: 815]. Исследователи даже полагали, что «пути решения» поставленных в набросках «художественных задач» были «не до конца ясны и самому автору» [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.: 817]. Такие заявления приводились в качестве «аргумента», что заметки якобы написаны после выхода в свет первого тома поэмы, в 1845–1846 гг. Однако очевидно, что поставленные в наброске задачи были решены Гоголем не только в «общем виде», но и вполне конкретно — в тексте «Мертвых душ».
Содержание заметок «К 1-й части», в сопоставлении их с заключительными главами первого тома поэмы, говорит о глубоком символическом мышлении писателя, о способности художника воплощать отвлеченные идеи в реалистических, «живых» образах. Как указывала Е. Н. Купреянова, сохранившийся художественный «план» восьмой — одиннадцатой глав — это «непосредственное авторское свидетельство притчеобразной символики замысла, названия и всей художественной структуры "Мертвых душ"» [Купреянова: 571].
Собранные наблюдения еще раз говорят о том, что художественное творчество Гоголя носит глубоко сознательный, концептуальный характер. Доставшееся в «наследство» от В. Г. Белинского представление о будто бы «бессознательности» гоголевского гения критики не выдерживает. Очевидно и то, что для Гоголя литература — не средство достижения каких-либо политических целей (что всегда стояло за деятельностью Белинского и его «школы»), а отражение и постижение самой жизни, в том числе «искаженной», потерявшей свое истинное назначение, т. е. отступившей от первоначального замысла Творца. Именно отсюда — а не из нездорового отвращения к «гнусной действительности» (Белинский)26, — явление гоголевской «сатиры».
Здесь наиболее уместен пример из житийной литературы. Подобно св. великомученице Екатерине, которая, несмотря на все свое внешнее благообразие, была в глазах Христа, до своего крещения, «помраченна <…> и безобразна»27, взгляд художника, встречая негативные явления, «не может», т. е. не вправе, изображать их в положительном свете — только в негативном и «сатирическом». Содержание набросков «К 1-й части» как подготовительного материала к главам первого тома «Мертвых душ» вполне подтверждает такой характер гоголевской «сатиры». «Мотивы» создания заключительных глав тома были именно такими, какими они предстают в наброске, а не «другими», якобы затем переосмысленными и подмененными, «придуманными» автором к уже написанному тексту. Вопреки укоренившимся шаблонам Белинского, мировоззренческого «перелома» в творчестве Гоголя не было.
Главный для характеристики гоголевской поэтики вывод, который следует из датировки набросков 1841 г., заключается в фактическом подтверждении того всегда испытываемого читателем ощущения, что произведения Гоголя являются чрезвычайно широким обобщением жизненных явлений. Отмеченные последовательные соответствия между черновым «планом» глав «Мертвых душ» и их конкретным наполнением с наглядностью указывают на то, что якобы стихийно приходящие в голову художника образы на самом деле подчинены строгому авторскому замыслу, единому «вектору смысла» произведения. За многозначностью художественного образа всегда стоит авторская мысль, заключенная в «живом» изображении. На глубоко осмысленном, «сознательном» характере своего творчества всегда настаивал сам Гоголь. Главный герой его «Развязки Ревизора» говорит об авторе комедии: «Дайте же ему хоть каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку» (3/4: 490). С. П. Шевырев в 1843 г. писал Гоголю: «Ты вносишь много света в нашу науку и доказываешь собою назло немцам, что творчество может быть соединено с полным сознанием своего дела» (12: 209). В 1842 г. он же, имея в виду «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору» (1841), замечал о Гоголе: «Разбором характера Хлестакова в "Ревизоре" он доказал, как отчетливо понимает свои создания. "Мертвые души" исполнены также глубокомысленных замет о состоянии души Поэта и о том, как он сам смотрит на свои произведения»28.
Возникшая на почве общехристианского символизма важнейшая, «сама себя сознающая» особенность художественного гения Гоголя приоткрывает самые основы реализма писателя. Эти основы были впервые отмечены в творчестве Гоголя, еще при его жизни, архимандритом Феодором (Бухаревым). Согласно Гоголю, художнику для создания реалистической картины нужна не какая-то особая «идеология», или социальная «доктрина», или «философия». Необходимо отображение реальности в соответствии с теми законами и заповедями, которые лежат в основе мироздания. В 1847 г. Гоголь указывал: «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни» (6: 228). Этот органичный описываемому явлению подход и обеспечивал «реализм» гоголевских художественных образов. Как замечал в 1848 г. по поводу «Мертвых душ» архимандрит Феодор, «ужели еще не видно, что именно тайна Христова лежит в основании и поэзии, как и всей действительности»29.
В финале первого тома поэмы Гоголь писал:
«Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами» (5: 237).
Очевидно, что это было прямым призывом писателя к более внимательному чтению его произведений. В. В. Кожинов в 1968 г. замечал о «Мертвых душах»: «Не будет преувеличением утверждать, что эта поэма — наименее понятое и освоенное из всех великих классических творений русского искусства слова» [Кожинов: 73]. «…Мои сочинения, — замечал и сам Гоголь в 1843 г. по поводу желания публики видеть продолжение "Мертвых душ", — <…> писаны долго, в обдумывании многих из них прошли годы, а потому не угодно ли читателям моим тоже подумать о них на досуге и всмотреться пристальней» (12: 240). Один из первых биографов Гоголя П. В. Анненков сообщал в 1880 г. М. Е. Салтыкову-Щедрину: «…Гоголь <...> на требования друзей о выпуске 2-й части "Мертвых душ" отвечал: пускай раскусят хорошенько первую. Литература, как сено: прессованное и в кольцо свернутое долее держится»30.
Образ внимательного, добросовестного читателя Гоголь вывел во втором томе поэмы:
«...не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-<нибудь> труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело» (5: 363).
При господствующей узкой специализации и «дробности» современных исследований наблюдения над поэтикой заключительных глав первого тома «Мертвых душ» ставят перед учеными задачу считаться с синкретическим мышлением писателя.
1 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010. Т. 14. С. 149. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
2 Не дописано.
3 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7. Кн. 1 / тексты и коммент. подгот. Н. Л. Виноградская, П. Ю. Гуревич, Е. Е. Дмитриева, И. А. Зайцева, Ю. В. Манн, О. К. Супронюк, А. С. Шолохова. С. 711. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Гоголь, 2012 и указанием страницы в круглых скобках.
4 Отсылка ко второму тому поэмы имеется не только в заглавии, но и в самом тексте наброска «К 1-й части»: «...город <…> преобразование бездельности жизни <…>. Противуположное ему преобразование во II <части?>, занятой разорванным бездельем» (5: 503). — Осмыслить в достаточной мере характеристику в заметках второго тома — как части, «занятой разорванным бездельем», — на основании сохранившихся глав сожженной автором части поэмы представляется затруднительным. Напрашивается предположение, что в героях второго тома Гоголь хотел «изобразить людей, смутившихся от своих пороков и устремившихся к истине» [Марковский: 180], т. е. что «безделье» будет частично преодолено — «разорвано» (разомкнуто) [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.: 815]. Однако мысль Гоголя, возможно, заключалась в другом.
5 См. подробнее: [Карнеев: 73], [Сакулин: 25–29], [Гудзий: 18], [Медведева: 50].
6 Современные комментаторы [Виноградская, Гуревич, Дмитриева и др.: 821] добавляют, что бумага заметок «К 1-й части» «идентична по качеству и по размеру» с той, на которой находятся автографы <Размышлений о Божественной Литургии>, хранящихся в архиве Российской государственной библиотеки в Москве под шифрами: Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 29 («Проскомидия»; 6: 350–358); Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 31 («...в огнях и блистаньях неслись перед ним»; 6: 396–405).
7 «...Софья Ивановна говорит с иронией об "иных дамах", которые "играют роль недоступных", явно подразумевая Анну Григорьевну, т. е. даму приятную во всех отношениях. Последняя же подпускает шпильку тем, которые "были неравнодушны" к Чичикову, имея в виду, очевидно, свою собеседницу, то есть даму просто приятную. Словом, намечается и соперничество обеих дам и "чувственные наклонности" дамы приятной во всех отношениях, прикрываемые маской недоступности...» [Манн: 235].
8 Как замечает В. А. Воропаев, встреча с покойником могла бы быть для Чичикова действительным «счастьем», т. е. стать для него душеполезной, заставить подумать «и о душе» (5: 356) [Воропаев, 2008: 115–117]. Однако благодаря «услужливой» примете (или тому, какой смысл вкладывает в нее герой), похороны приобретают для него успокоительный смысл, оставляют его в прежнем житейском устроении, «память смертная» улетучивается: жизнь продолжается, «счастье», ждущее впереди, — новые приобретения, жизнь в «богатстве и довольстве» (5: 220). Из народной приметы герой, в отличие от автора, способен извлечь лишь низменный, «языческий» смысл: кому-то — похороны, тебе — счастье.
9 Венский конгресс 1814–1815 гг. сопровождался непрерывными балами и празднествами, за что получил название «танцующего конгресса». Описанием балов увлекаются у Гоголя и другие герои — выведенные задолго до завершения первого тома «Мертвых душ». В «Записках сумасшедшего» (1835): «Читал "Пчелку" (имеется в виду газета "Северная Пчела". — И. В.). <…> очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут» (3/4: 161). (1836): «Вот недавно <…> один поручик пишет к одному приятелю своему и описал бал и жизнь свою с таким искусством... очень хорошо! "Я провожу, говорит, время с крайним удовольствием, барышень, говорит, много, музыка играет, штандарт скачет..." С большим, с большим чувством описал» (7: 386).
10 Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья первая // Москвитянин. 1842. № 7. С. 211.
11 Там же. С. 207.
12 Там же. С. 220.
13 Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые Души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Москвитянин. 1842. № 8. С. 351.
14 В своем «объяснительном словаре» русского языка Гоголь пометил: «Прокýра, полная власть» (9: 440).
15 Как помещик Собакевич, в теле которого, по словам рассказчика, «казалось, <…> совсем не было души»: она, «как у бессмертного Кощея», была «за горами и закрыта <…> толстою скорлупою» (5: 98).
16 Критика современной литературы ранее уже составляла предмет гоголевской «сатиры». Герои «Записок сумасшедшего» и «Ревизора» одинаково восклицают: «Скучно, братец, так жить: ищешь пищи для души, а светская чернь тебя не понимает» (7: 453); «...я требую [духовной] пищи, той, которая бы питала и услаждала <…> душу...» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.] / АН СССР, Ин-т литературы (Пушкинский Дом). Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 3. С. 204, 563 (сноска 8)); «"Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете". — "Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню"» (3/4: 165); «...и Карамзин сказал: "Законы осуждают". Мы удалимся под сень струй...» (3/4: 282). Выдержанные «в духе тогдашнего времени» (5: 155), взятые из журналов и популярных альманахов (как куплеты из «Песни» Н. П. Николева, переписываемые героем «Записок сумасшедшего»: «"Душеньки часок не видя, <…> Льзя ли жить мне, я сказал". Должно быть, Пушкина сочинение» — 3/4: 161) — все эти псевдо-поэтические реплики героев «Ревизора», «Записок сумасшедшего», «Мертвых душ» содержат в себе не только насмешку над читателем, невольно искажающим «утонченный» пафос творческой музы, но являются обличением очевидной «пошлости» самих «умилительных» излияний, избираемых для себя читателями в качестве примера для подражания. (В соответствии с приведенной репликой героя «Записок сумасшедшего» о стихах Николева — «должно быть, Пушкина сочинение» — Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» (1834) писал, что «под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов»: «Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью» — 7: 275.) В еще большей степени гоголевская критика поражает бывшие на слуху литературные произведения, в которых поэтические «истины» являются откровенно негативными, пагубными, к примеру, в «послании в стихах Вертера к Шарлотте», читаемом Чичиковым в седьмой главе поэмы (5: 147), т. е. в предсмертном письме героя романа И. В. фон Гете «Страдания юного Вертера», которое тот написал возлюбленной накануне самоубийства. После публикации этого романа в Европе и России последовала целая эпидемия самоубийств.
17 П-в. Письмо из Курска в столицу // Северная Пчела. 1832. № 52. 5 марта. С. 1–3 [Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.ru/pn000102942/view/?#page=1 (29.01.2024).
18 Демидов занимал эту должность с 1831 по апрель 1834 г. (см.: Северная Пчела. 1834. № 95. 30 апреля. С. 378); в 1836 г. собирался дать премию Гоголю за «Ревизора» [Виноградов. Летопись; т. 2: 543, 548–549, 551].
19 «Так сказано было в билетах» (П-в. Письмо из Курска в столицу. С. 3). Подразумевались пригласительные бальные билеты.
20 П-в. Письмо из Курска в столицу. С. 2–3. В академическом издании 2009 г. в пояснении к словам повести о «приятном изображении бала, описанном курским помещиком», по-прежнему повторяется ошибочное предположение И. П. Золотусского (ничем не документированное), будто Гоголь имел здесь в виду какую-то статью Ф. В. Булгарина, изданную под псевдонимом «Чухонский помещик» [Золотусский: 153], [Дерюгина: 892]. 6 и 7 июля 1832 г. в «Северной Пчеле» появились еще две публикации того же автора (подписанные тем же псевдонимом): повествование о курской Коренной ярмарке «Письма из Курска» (Северная Пчела. 1832. № 153. 6 июля. С. 3–4; № 154. 7 июля. С. 3–4). Второе письмо — тоже с панегирическим описанием бала: «...если бы бал сей дан был во Франции или в Англии, целые томы были бы наполнены описанием оного, в тысячи журналах прославляли бы имя хозяина!» (т. е. П. Н. Демидова) (Северная Пчела. 1832. № 154. 7 июля. С. 3). (В том же номере О. М. Сомов напечатал статью «Русалки» (<Гоголь Н. В., Сомов О. М.> Русалки // Северная Пчела. 1832. № 154. 7 июля. С. 4), являющуюся извлечением из заметки Гоголя «Малор<оссийские> предания, обычаи, обряды» в его рукописной «Книге всякой всячины, или Подручной энциклопедии» (1826–1830) (9: 540–542); см.: [Виноградов, 2021].)
21 П-в. Письмо из Курска в столицу. С. 1–3.
22 Атрешков Н. О веществах, удобнозаменяющих для народа ныне существующий недостаток в хлебе // Северная Пчела. 1833. 4 дек. Прибавление к №№ 276, 277 и 278. С. 1–6.
23 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.] Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6 / тексты и коммент. подгот. В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур. С. 805.
24 Там же.
25 Здесь же, в одиннадцатой главе, Гоголь вставляет в поэму прямую притчу — о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче (5: 236–237), — соответствующую общему притчеобразному характеру «Мертвых душ».
26 См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 11. С. 483, 495, 529, 556, 563, 567, 571, 576–577, 580.
27 <Димитрий Ростовский, свт.> Книга житий святых: [в 4 т.] Киев: Киевопечерская Лавра, 1764. [Т. 1]: на три месяца первыя, еже есть: Септимврий, Октоврий и Ноемврий. С. 455.
28 Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые Души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Москвитянин. 1842. № 8. С. 349.
29 <Феодор (Бухарев А. М.), архим.> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб.: В Типографии Морского Министерства, 1861. С. 140.
30 Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч.: в 20 т. М.: Гослитиздат, 1939. Т. 19. С. 425.
Об авторах
Игорь Алексеевич Виноградов
Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Российская академия наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: info@imli.ru
ORCID iD: 0000-0002-9151-4554
доктор филологических наук, главный научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Виноградов И. А. Завязка Ревизора. Комментарий // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 9 т. / сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. Т. 3/4. С. 548–555.
- Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: христианские основы миросозерцания. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. 448 с.
- Виноградов И. А. К истории создания и публикации духовной прозы Гоголя // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009. Т. 6. С. 419–542.
- Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). С родословной летописью (1405–1808). Научное издание: в 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017–2018. Т. 1–7. 736 + 672 + 672 + 704 + 928 + 656 + 640 с.
- Виноградов И. А. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. М.: Вече, 2018. 320 c.
- Виноградов И. А. Эсхатология комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 4. С. 68–90 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571049477.pdf (29.01.2024). doi: 10.15393/j9.art.2019.5801
- Виноградов И. А. Итальянское эссе Н. В. Гоголя // Русская литература в российско-итальянском диалоге XXI в.: критика текста, поэтика, переводы / отв. редакторы М. И. Щербакова, Дж. Гини. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 76–96. (a)
- Виноградов И. А. Эволюция текста: авторский комментарий Н. В. Гоголя к поэтике комедии «Ревизор» // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 146–174 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582891918.pdf (29.01.2024). doi: 10.15393/j9.art.2020.7202 (b)
- Виноградов И. А. «Девтеро-гоголевское»: Н. В. Гоголь, О. М. Сомов и история двух статей в «Северной Пчеле» // Литературный факт. 2021. № 3 (21). С. 196–219 [Электронный ресурс]. URL: http://litfact.ru/images/2021-21/06_Vinogradov.pdf (29.01.2024). doi: 10.22455/2541-8297-2021-21-196-219
- Виноградов И. А. «Ревизор» Гоголя как комедия-трагедия. К проблеме жанра // Два века русской классики. 2024. Т. 6. № 1 (в печати).
- Виноградская Н. Л., Гуревич П. Ю., Дмитриева Е. Е., Зайцева И. А., Манн Ю. В., Мулина И. В., Супронюк О. К., Шолохова А. С. Мертвые души. Поэма. Том первый. Комментарий // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 7 / тексты и коммент. подгот. Н. Л. Виноградская, П. Ю. Гуревич, Е. Е. Дмитриева, И. А. Зайцева, Ю. В. Манн, О. К. Супронюк, А. С. Шолохова. Кн. 2. С. 297–852.
- Воропаев В. А. О датировке гоголевских заметок «К 1-й части» «Мертвых душ» // Русская литература. 1987. № 1. С. 179–185 [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/RusLiteratura/RL-1987-1.pdf (29.01.2024).
- Воропаев В. А. «Покойника встретить — к счастью»: народные приметы в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» // Русская речь. 2008. № 2. С. 114–117 [Электронный ресурс]. URL: https://www.russkayarech.ru/ru/archive/2008-2/114-117 (29.01.2024).
- Гудзий Н. К. Николай Саввич Тихонравов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1956. 83 с.
- Дерюгина Л. В. Клочки из записок сумасшедшего. <Комментарий> // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2009. Т. 3 / тексты подгот. Л. В. Дерюгина; коммент. подгот. С. Г. Бочаров, Л. В. Дерюгина. С. 855–899.
- Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М.: Наука, 1972. 302 с.
- Жданов В. А., Зайденшнур Э. Е. <Мертвые души. Том первый>. Комментарии // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.] [Л.]: АН СССР, 1951. Т. 6 / тексты и коммент. подгот. В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур. С. 881–921.
- Зайцева И. А., Манн Ю. В. Комментарий // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2003. Т. 4 / тексты и коммент. подгот. И. А. Зайцева, Ю. В. Манн. С. 537–888.
- Золотусский И. П. Поэзия прозы. Статьи о Гоголе. М.: Сов. писатель, 1987. 240 с.
- Карнеев А. Д. Университетские чтения Н. С. Тихонравова в связи с его научно-литературными идеалами // Памяти Николая Саввича Тихонравова. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1894. С. 66–84.
- Кожинов В. В. К методологии истории русской литературы (о реализме 30-х годов XIX века) // Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 60–82.
- Купреянова Е. Н. Н. В. Гоголь // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1981. Т. 2. С. 530–579.
- Манн Ю. В. В поисках живой души: «Мертвые души». Писатель — критика — читатель. М.: Книга, 1984. 415 с.
- Марковский М. История возникновения и создания «Мертвых Душ» // Памяти Гоголя: научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца / под ред. Н. П. Дашкевича. Киев: Тип. Р. К. Лубковского, 1902. Отд. 2. С. 133–226. (Сер.: Чтения в Историческом Обществе Нестора-Летописца; кн. XVI.)
- Медведева Е. А. Принципы создания научной биографии Н. С. Тихонравова в книге Н. К. Гудзия в свете истории развития жанра // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 2. С. 46–53 [Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F_256921100/153_2_gum_5.pdf (29.01.2024).
- Сакулин П. В поисках научной методологии // Голос минувшего. 1919. № 1–4. С. 5–37.
- Смирнова Е. А. О многосмысленности «Мертвых душ» // Контекст 1982. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1983. С. 164–191.
- Смирнова Е. А. Поэма Гоголя «Мертвые души» / отв. ред. С. Г. Бочаров; АН СССР. Л.: Наука, 1987. 200 с. (Сер.: Литературоведение и языкознание.)
- Тихонравов Н. С. Примечания редактора и варианты // [Гоголь Н. В.] Сочинения Н. В. Гоголя: в 7 т. / текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым. 10-е изд. М.: Изд. книжн<ого> маг<азина> В. Думнова, под фирмою «Наследники бр. Салаевых», 1889. Т. 3. С. 412–613.
- Чижевский Д. Неизвестный Гоголь // Новый журнал. (Нью-Йорк). 1951. № 27. С. 126–158.
Дополнительные файлы