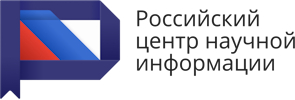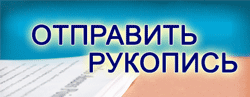Мифологема горы в алтайском тексте русской литературы
- Авторы: Богумил Т.А.1
-
Учреждения:
- Алтайский государственный педагогический университет
- Выпуск: Том 21, № 3 (2023)
- Страницы: 261-280
- Раздел: Статьи
- URL: https://medbiosci.ru/1026-9479/article/view/282022
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2023.12642
- EDN: https://elibrary.ru/QXCZVG
- ID: 282022
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлен обзор научных источников о литературной монтанистике русского Алтая. Описания высокогорных ландшафтов, созданные путешественниками XIX в., помимо реалий местности включали аналогии с другими географическими объектами (Швейцарскими Альпами, Ливанским хребтом, Кавказом), с иным видом художественного дискурса — живописью, с новым типом мироустройства — terra incognita. В публицистике XIX в. появился мотив духовного преображения и чуда (Алтай = Афон), который оказался особо востребованным в православной литературе рубежа XIX–XX вв. Советская литература подвергла десакрализации алтайский культ гор и Хозяина Алтая, ранее представленный, в основном, в литературе этнографического характера. С 1960-х гг. нарастала тенденция неомифологизации гор Алтая. В работе выявлена семантика мифологемы горы в контексте алтайского текста русской культуры на примере «краеведческого романа» В. Н. Токмакова «Танец маленьких королей». Неоромантический мир произведения поделен на две реальности: фиктивную (столица) и подлинную (Алтай как земная проекция потусторонней Белой Горы). Значение Горы в романе основано на универсальных смыслах, связанных с данной мифологемой. Гора выступает как локус битвы Добра и Зла, островок спасения в мировом потопе, вместилище подземных сокровищ, пространство инициации (наряду с лабиринтом и пещерой как антигорой), эквивалент дерева/ человека/книги и пр. За счет своеобразной комбинации этих идей, их конкретной историко-географической и фантастической оформленности автору удалось создать оригинальный образ горы.
Ключевые слова
Полный текст
Геопоэтический образ Алтая в сибирском тексте русской культуры включает в себя художественное осмысление рельефа местности. Алтай — одна из самых больших горных систем Азии (1 900 на 1 300 км). Территория входит в состав четырех государств: России (Алтайский край и Республика Алтай), Казахстана, Китая, Монголии. Несмотря на то, что существенная часть русского Алтая является степной (в основном, Алтайский край), авторы произведений о регионе в первую очередь обращали внимание на то, что отличает данное пространство от равнин, сформировавших «географию русской души»1, — а именно на горы.
Восприятие, воображение, осмысление гор в культуре является предметом т. н. «горных антропологий» и «имажинальных географий» [Замятин, 2009: 156]. Ментальным основанием «горных антропологий» выступает категория вертикали, ценностно маркированная в зависимости от направленности вверх или вниз (внутрь) [Замятин, 2009: 159].
Становление русской литературной монтанистики, т. е. традиции описания и осмысления горного пейзажа, началось в эпоху романтизма: «Страна равнинная и степная, по преимуществу озерно-речная, Россия и ее словесная культура формировали свою горную <…> философию, где "чужое" и "свое" корреспондировали друг с другом как внешнее и внутреннее, физическое и духовное, натурфилософское и этико-религиозное, горизонтальное и вертикальное» [Янушкевич, 2015: 6].
Согласно наблюдениям А. С. Янушкевича, романтическая «горная философия» прошла три этапа своего развития. Первый датируется 1810-ми гг., когда «Сибирь, Кавказ воспринимались как органическая часть России и осмыслялись в формах имагологического дискурса» [Янушкевич, 2015: 6], где существенную роль играло описание местного колорита. Символический потенциал кавказского пейзажа, основанный на оппозициях «бездна — высота», «горное — горнее», «горное — дольнее» и др., впервые был раскрыт в творчестве В. А. Жуковского. Как точно отметил А. С. Янушкевич, «Преступление и наказание, жизнь и смерть, любовь и предательство, ропот на судьбу и Бога и смирение с Божьим Промыслом определяют этическую семиосферу монтанистики» [Янушкевич, 2015: 9]. Экзистенциальная проблематика реализуется в сюжете вос-/нисхождения как «перемещения по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей» [Лотман: 112], а также в образе монастыря или креста на горе.
Второй этап приурочен к рубежу 1820 — 1830-х гг. и связан с колониальным дискурсом (русско-кавказские войны). Третий этап относится к 1830-м гг. В этот период «Кавказ и Сибирь выявили новую форму колониальной политики — борьбу с инакомыслием и формирование мест ссылки и каторги» [Янушкевич, 2015: 7]. На всех этапах горы метафорически визуализируют эстетические, общественно-политические, историософские, философские размышления писателей.
В статьях А. С. Янушкевича (см. также: [Янушкевич, 2007]) представлена характеристика образов кавказских гор на примере творчества В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, тогда как сибирские горы упомянуты вскользь. Отталкиваясь от наблюдений и выводов томского филолога, Т. П. Шастина исследовала литературную монтанистику, связанную с Алтаем.
Первые опыты описания алтайских высокогорных ландшафтов принадлежат путешественникам. Публикации историка, исследователя Сибири Г. И. Спасского в «Сибирском Вестнике» (Санкт-Петербург, 1818–1824) по впечатлениям от поездок на Алтай в 1806, 1809, 1813 гг. стали прецедентными текстами для зарождающейся традиции региональной монтанистики. Сформированный в статьях комплекс мотивов включает сопоставление гор Алтая со Швейцарскими Альпами2 и Ливанским хребтом3; наложение словесного пейзажа на живописный4; семантизацию Алтая как страны первооткрывателей, свободы духа, terra incognita [Шастина, 2011a]. Благодаря Спасскому в научной и популярной литературе закрепилось представление, что Алтайские горы — это «экзотическая составляющая имперских пространств, рай для художников и нетронутое поле для ученых» [Шастина, 2013a: 46].
Во второй половине XIX в. областник Н. М. Ядринцев подхватил заданную предшественниками географическую аналогию, о чем свидетельствует, например, название его очерка — «Сибирская Швейцария» (1880) — или фраза о любовании вершинами «Чуйских Альп»: «Я смотрел на них, как в Швейцарии смотрят на Монблан, Юнгфрау»5. Областник ввел новый для алтайской монтанистики мотив духовного преображения, реализуемый, во-первых, посредством приобщения рассказчика к чуждому ему миросозерцанию язычников-пантеистов, а во-вторых, — через легендарный сюжет о Беловодье как последнем рубеже «своего», русского, в осваиваемом пространстве. При этом цветообразы «белые воды», «синие горы», характеризующие реалии местности, становятся метафорами духовной высоты, чистоты, святости [Шастина, 2013b].
Дальнейшие наблюдения позволили Т. П. Шастиной сделать вывод, что «Горный (Русский) Алтай в светских травелогах сравнивался первоначально с Альпами, в эпоху романтизма — с Кавказом, в миссионерских же текстах превалирует сравнение "Алтай — Афон", вносящее в геопоэтический образ горного пространства топику святой горы» [Шастина, 2016: 219]. В книге протоиерея М. Путинцева «Алтай» (1883) регион «становится русским не только по принадлежности к России, но и по его русской вере» [Шастина, 2016: 225].
В произведении А. И. Макаровой-Мирской «Апостолы Алтая» (1909) Алтай перешел «из географического горного пространства в пространство духовное — горнее» [Шастина, 2016: 225]. В ее же «Алтайских рассказах» (1912) для детского чтения горные ландшафты становятся пространством житийного чуда, где «горы — алтарь, с которого возносится молитва о спасении или слова благодарности Всевышнему за спасение» [Шастина, 2015: 385].
Христианские представления о сакральности высокогорья, об охранной функции гор не противоречили мировоззренческим установкам аборигенов-язычников, освещенным в научной (см., напр.: [Потапов]), популярной и художественной литературе с ярко выраженной этнографической направленностью. В советской литературе 1917–1950-х гг. алтайский культ гор и Хозяина Алтая подвергся десакрализации, на первый план вышла тема спортивных (в том числе альпинистских, туристических) и хозяйственных экспериментов в экзотической «национальной окраине», сопряженная с экологической проблематикой [Шастина, 2011b: 272].
Т. П. Шастина приурочивает возникновение неомифологических текстов об Алтае к 1960-м гг. Впрочем, индивидуальноавторские модели, опирающиеся на мифологию инородцев и старожилов Алтая, возникали ранее указанной даты: в романе В. Я. Зазубрина «Горы» (1933), рассказах И. И. Катаева «Под чистыми звездами» (1937), К. Г. Паустовского «Правая рука» (1943), В. В. Бианки «Она» (1944) и др. [Литературная мифология…: 76–81, 107–131].
В произведениях писателей Горного Алтая ХХ в. Гора является базовой пространственной мифологемой наряду с Рекой и Деревом [Бедарева, 2011]. Причем, по мнению И. А. Бедаревой, семантическое наполнение этих архетипов идет по пути нивелировки национальной специфики к общекультурным смыслам [Бедарева, 2016].
Наивысшая вершина Алтая — Белуха — полагается священной горой у народов Алтая и интернациональных последователей Н. К. Рериха. Русское наименование проявляет семантику Белухи как варианта Белой горы — мифологической мировой оси, ритуального центра (см.: [Элиаде: 25–32], [Генон: 243–248], [Топоров: 306–315]). Значение оронима подкрепляется нумерологической символикой, поскольку гора — трехглавая. Белуха равноудалена от четырех мировых океанов (Тихого, Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского), находится в середине Евразии и потому осмысляется как «пуповина» материка, связанная с космогонией, этиологией и эсхатологией вселенной [Литературная мифология…: 6–7]. Учитывая, что в геополитическом дискурсе начиная с первой половины ХХ в. Евразия позиционировалась как «центральная суша», «ядерный материк Земли» [Замятин, 2010b: 25], сакральная роль Белухи многократно возрастает.
Образ горы/колодца в таком, ритуально-мистическом, смысле постоянно возникает в романах алтайского поэта, прозаика, журналиста В. Н. Токмакова. В последнем на сегодняшний день романе писателя — «Танец маленьких королей» (2022) — относительно Белой Горы структурируется пространство и время, сюжет и смысл произведения.
Специфика художественной краеведческой прозы состоит в том, что она создается на основе «знаний об истории, географии, культуре данного региона» [Козлова: 109]. Задача настоящего исследования — выявить семантику мифологемы горы в контексте алтайского текста русской культуры. Внимание сосредоточено на указанном романе, т. к. в жанровом отношении он представляет собой «гибридный художественноисследовательский» текст [Замятин, 2010a: 29], сплавляющий воедино основные локально приуроченные сведения, интертекстуальные переклички и архетипические мотивы, связанные с образом горы.
В. Н. Токмаков избегает внятных географических указаний, однако в традиционной оппозиции «столица — периферия» узнаваемы Москва и Алтайский край. Опорами для идентификации «горной страны» как Алтая становятся имена людей, связанных с данным пространством биографическим и/или легендарным фактом. Так, вскользь упомянуто о встрече одного из героев с «немцем-басурманом» «с непонятной фамилией Гетлих или Геблер»6. Конечно, речь идет о выдающемся ученом-естествоиспытателе, географе, исследователе Алтая и враче Фридрихе Августе фон Геблере (1781–1850, Барнаул). Еще одно лицо — известный вор, разбойник и сыщик ВанькаКаин (1718 — после 1755) — в альтернативной версии его судьбы оказывается сосланным не просто в Сибирь, а именно на алтайский Змеиногорский рудник. В романе эта полулегендарная фигура видится прообразом героя местного фольклора — неуловимого беглеца Сороки (156).
Развернуто представлена история Александра Петровича Кайгородова (1887–1922). Уроженец Алтая, сын русского крестьянина-переселенца и теленгитки, он получил офицерское звание во время Первой мировой войны. Во время Гражданской войны на Алтае выступал против красных. Кайгородов связан с главной темой романа — вечной битвой добра и зла:
«Он боролся с большевиками как с абсолютным злом, а не как с политической силой» (126).
Захваченный в плен красноармейцами, Кайгородов был обезглавлен7 Иваном Ивановичем Долгих (1896–1956), которого в свое время при сходных условиях пощадил. Известно, что в 1930-х гг., работая в системе ГУЛАГ, Долгих внес вклад в развитие альпинизма на Алтае: в 1935 г. он руководил массовыми восхождениями на Белуху. В мире романа совокупность данных реальных обстоятельств осмысляется как очередная попытка «захвата» Белой Горы силами зла. Тем самым, опираясь на исторические прототипы и достоверные сведения, Токмаков умело расставляет акценты и смешивает правду с вымыслом, чем добивается эффекта подлинности своего сюрреалистического мира.
Важнейший из персонажей, имеющих прототипы, — отец Макарий, собирательный образ христианского подвижника. Как известно, во время службы на Алтае М. А. Невский (при рождении — Парвицкий, 1835–1926) полагал высоким примером миссионерского служения основателя Алтайской духовной миссии Макария Алтайского (М. Я. Глухарева, 1792–1847) и потому при постриге в 1857 г. принял имя почитаемого проповедника и ученого (а также прп. Макария Великого Египетского, ок. 300–391) [Сечина]. Согласно преданию, вскоре ему во сне явился прп. Макарий (Глухарев) с ободряющими словами [Завидов, Крейдун: 90]. Со временем Макарий (Невский) стал новым «апостолом Алтая», как называли его предшественника современники. В романе преемственность имени разных людей преобразуется в мотив вечной жизни одной личности. Тому есть основания, восходящие к древним представлениям об имени как средоточии сущности человека и заданности его судьбы.
В произведении В. Н. Токмакова информация о деяниях отца Макария представляет собой сплав рационального и иррационального: протокольной записи домыслов; реалистичного нарратива, оборачивающегося сказкой и мифом; бессилия науки в объяснении чуда.
В архивных папках, найденных Максимом, находятся протоколы допросов, где зафиксированы противоречивые слухи о Макарии: он и борец с бесами, миссионер-чудотворец, и схимник, и выходец из хлыстов, ясновидец, добровольный сотрудник сыскного отделения в качестве охотника на сектантоверетиков, и раскаявшийся беглый каторжник, преобразившийся в святого, и земное воплощение архангела Гавриила, а главное — искатель и затем хранитель Книги Волхвов, которую пытаются заполучить все герои романа.
Здесь актуализируется популярный в средневековой западноевропейской словесности мотив поиска Грааля, весьма востребованный современной мировой литературой. Согласно Р. Генону, «Грааль есть одновременно чаша (grasale) и книга (gradale или graduale)» — символический эквивалент Сердца Христа [Генон: 45]. В альтернативной реальности романа магический манускрипт представляет собой апокриф об Иисусе Христе, включающий описание жизни мессии в Индии и Тибете, а также молитвы, заговоры и заклинания, благодаря которым совершались чудеса изгнания бесов, превращения материи, воскрешения (121). В этом отношении интересен диалог между следователем и профессором доктором исторических наук по поводу собранных чекистами данных:
«— Можно ли верить данной информации?
— Ни в коем случае! Помилуйте, это же народная молва. Легенды, сказки, преданья старины глубокой, так сказать…
— Вы лично верите?
— Безусловно!‥» (31)
Собственно, весь роман представляет собой совокупность принципиально недоказуемых сведений, которым остается только верить — и героям, и читателям.
Путешествие Макария по горам Алтая в поисках книги моделируется согласно фольклорной традиции перемещения на «тот свет» [Славянская мифология: 462–463]. Искомое место характеризуется как «далекая и неизвестная дикая страна», недоступная «ни одному истинному христианину» (44), добраться до нее можно только с вожатым. Примечательно, что в этой роли выступает крещеный алтаец, названный в честь св. Николая, проводника душ в народных поверьях. Алтаец хромает — данный дефект в мифологическом контексте является знаком божественной избранности («Если бы ты не сломал ногу, то не стал бы тем, кем стал, а спился, как другие» (41)) или хтонической природы (св. Николай восходит к языческой демонологии [Мифы…: 217]). К финалу в романе появится четвертый Волхв, ставший на сторону зла, который обиженно скажет: «Я <…> вел отца Макария… И что получил взамен?» (44). Имена персонажей созвучны: Николай — Нихиль («ничто»). Тем самым, в первой неудачной попытке добыть книгу Макария сопровождает амбивалентная сила.
Расположена тайная деревня высоко в горах, за малопроходимым лесом, над ней вечно светит солнце, дворы безлюдны и лишены домашней живности. Охраняет волшебную книгу могучий мужик с ярко рыжими волосами. Макарий узнает в нем поволжского крестьянина Василия Власатого, реально существовавшего проповедника самоистребления, от учения которого в XVI в. пошла практика самосожжения — «огненного крещения» (44). Листовки о розыске фанатика в романном мире висят «во всех околотках Руси» (50). Токмаков намеренно допускает анахронизм, ведь в художественном времени Макарий и, соответственно, Василий существуют в начале XX в. В облике мужика прочитывается солярный бог, который с легкостью отмахивается от претензий Макария на книгу и подытоживает: «…проверь для начала свою веру» (51). Тяжело раненый Макарий спасается благодаря Николаю. С трудом выздоровев, герой отправляется пешком в Оптину пустынь, где получает прощение грехов, избавляется от гордыни и укрепляет веру. Преображенный, он возвращается в горную страну в 1917 г. и с помощью трех Волхвов добывает реликвию.
В начале 1920-х гг. отец Макарий с Книгой Волхвов оказывается в отряде Кайгородова, однако не участвует в братоубийственной борьбе:
«Макарий не мог рисковать тем, что досталось ему с таким трудом и что не должно было попасть в руки ни красным, ни белым. Ибо ни у тех, ни у других не было права убивать» (127).
Хранитель книги приобретает волшебную силу и бессмертие. На черно-белой любительской пленке, сделанной этнографом на Алтае в 1970-х гг., запечатлено вознесение Макария:
«…бородатый и босой старик в рваной рясе плавно отрывается от земли и парит в воздухе. <…> Старик-священник медленно, раскинув крестом руки и задрав к небу изможденное лицо, поднимается все выше и выше» (121).
Понятно, что ученые не могут рационально объяснить этот феномен. Как и неоспоримый факт, что священнику в те годы было уже более 100 лет. Последнее появление отца Макария в романе связано с передачей книги новому хранителю — Максиму (преемственность подчеркивается совпадением начальных букв имен персонажей).
Главный герой, Максим Гадунов, приехал в столицу из алтайской провинции (по некоторым признакам опознаются города Яровое и Барнаул). Он по очереди существует в двух мирах (столичный город и Белая Гора), причем переход из одной реальности в другую осуществляется через лифт, сон, обморок и смерть. Жизнь в городе иллюзорна, подлинное существование — на Горе:
«А я только теперь и живу по-настоящему <…>, в той, другой жизни все кажется не очень умелыми декорациями, а люди — манекенами» (109).
Мифопоэтическая функция священной Белой Горы в романе традиционна — это «место, где, не прекращаясь, идет битва Добра и Зла»8 (70). Исайя Лемех, который возглавит оборону Горы, в 1930-е гг. пророчествует о грядущей Второй мировой войне:
«Живые и мертвые увидят на склонах Горы войско Сатаны, а на вершине — Христово войско. Никто не знает, сколько будет продолжаться битва, и кто победит, на каждый человек должен определиться, с кем он?» (39).
Имя персонажа, его портрет, речь и роль («Взгляд бесстрашный и обличающий, как у библейских пророков…» (32)) отсылают к ветхозаветному прототипу. Фамилия «Лемех» означает часть плуга (орало) и является криптограммой крылатого выражения из книги пророка Исайи9: «Перекуют мечи свои на орала» (Ис. 2:4). Речь персонажа перефразирует слова пророка о горе: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис. 2:2). В отличие от библейского текста, где говорится о наступлении полного мира на земле, в романе акцент поставлен на «последних временах», предшествующих миру.
Война, о которой вещает Исайя Лемех, — не первая и не последняя, ведь на Горе находятся люди «в военной форме всех эпох и народов» (90). На вершине с незапамятных времен стоит многоярусный Ноев Ковчег, в котором хранятся архивы за тысячи лет военных действий. Сюжет о потопе является едва ли не обязательным в общекультурной мифологии и мифопоэтике горы (310), поэтому естественно, что автор не прошел мимо него.
Белая Гора нигде однозначно не локализована. Сектанты еговисты-ильинцы, о которых рассказывает отец Макарий, верят, что «Иегова и Сатана одинаково сильны, ведут друг с другом непрекращающуюся борьбу. В конце времен произойдет решающееся сражение. И здесь, в горах, установится Иерусалимская республика, истинный рай на земле» (43).
Известно, что в исторической реальности последователи Н. С. Ильина (1809–1890) жили на Урале, в Средней Азии, на Кавказе и Украине. Однако в романном мире «горы», как было показано выше, географически отнесены к Алтаю. Когда Максим описывает открывшийся с вершины Белой Горы пейзаж, он сравнивает его с картинами:
«На фоне пронзительно голубого неба со всех сторон — величественные заснеженные пики. Горы кругом, покуда хватает глаз — огромные, фактурные, загадочные. Нездешние и непокоренные. Такие есть только на картинах Рериха» (100).
Монтанистика художника включает горы Алтая, но в большей степени — Гималаи (более 500 работ). Образы гор в творчестве Н. К. Рериха символичны, воплощают идею духовного восхождения. Закономерно, что на вопрос о местонахождении Белой Горы, дан ответ:
«Она везде… . Она в каждом из нас…» (39).
На вершине Белой Горы расположен вход в древний лабиринт, в недрах которого спрятана Книга Волхвов. Мотив скрытых сокровищ типичен для горной мифологии. Пещера (антигора) и лабиринт в трудах исследователей религий рассматривается как пространство инициации [Генон: 229–238], [Керн: 20–21]. Странствие Максима по лабиринту поначалу регулируется картой, напоминающей «зеленое ветвистое дерево», вписанное в белый треугольник (традиционный символ горы) (213). Данный образ опирается на универсальную концепцию горы как варианта мирового древа [Топоров: 307]. Особенность лабиринта заключается в том, что это путь не только в пространстве, но и во времени:
«…некоторые встречали там умерших знакомых или родственников. А то самих себя» (218).
Одновременно и пещера, и лабиринт являются аналогами человеческой психики, внутреннего мира, где разум и логика уступают место инстинкту и интуиции. Герой теряет карту и дальше идет наугад. Его действия приобретают все более архаичный ритуальный характер: он танцует и хохочет как ребенок. Как известно, смех и танец, особенно в связи с лабиринтом, имеют непосредственное отношение к древним обрядовым практикам (см.: [Элиаде: 48–49], [Керн: 16–19], [Пропп] и др.). Герой ощущает себя во сне. Здесь, возможно, содержится аллюзия на христианскую легенду о семи спящих отроках, одного из которых звали Максимилиан. Замурованные в пещере гонителями христианства, отроки спали более 300 лет, проснулись при благочестивом правителе и стали живым символом смены эпох [Мифы…: 426–427]. Ближе к центру лабиринта герой обнаруживает на стенах письмена, его путь становится процессом чтения и самоосознания:
«…я сам — всего лишь слова каменного дневника. Меня тоже кто-то пишет» (227).
Путем неимоверных усилий Максим достигает центра и видит хранителя Макария с фолиантом. Максим опоздал, злые силы рвутся за ним сквозь врата. Герою остается только один путь спасти рукопись — прочитать и съесть:
«Книга теперь была во мне, я становился книгой» (236).
В романе создается система эквивалентов: гора — дерево — лабиринт — танец — книга — человек. Сюжет о спасении Белой Горы и, тем самым, мира совмещен с сюжетом об инициации человека. Образ лабиринта ретроспективно помогает понять композиционную особенность романа. Нагорная жизнь, будучи истинной, — неизменна, тогда как каждое возвращение героя в фиктивную реальность города представляет собой слегка измененный вариант его судьбы (отношения с Катей, квартирный вопрос и пр.), т. е. уподоблен тупиковому ходу лабиринта. Сложно устроенный текст романа лабиринтоподобен. Финальное преображение заключается в разделении личности героя и распаде двоемирия на параллельно существующие реальности: человек-книга среди горной вечности (утопическое пространство) и водитель грузов по Горной Республике (географическое пространство). Городское пространство при этом исчезает. Дурная бесконечность перевоплощений на «ближайшую тысячу лет» (237) останавливается. Соответственно, прекращается повествование: «…рукопись обрывается…» (238).
Писатель создает индивидуально-авторскую мифологию места, полагая Алтай проекцией сакрального бытия. Горная антропология в романе метафорически обобщает историкосоциальные и философско-психологические конфликты человечества.
Итак, алтайская литературная монтанистика имеет свою историю, в целом совпадающую с общесибирской динамикой геопоэтических образов: от обобщенной абстрактности к детальной конкретизации [Рогачева, Драчева, Медведев: 127]; от реалистичных описаний к собственно художественным — метафорическим и символическим. Для произведений об Алтае в целом мало характерен специфичный для уральского текста теллурический (от лат. Tellus — земля) код, предполагающий устремленность в глубину [Абашев: 25]. Исключение составляют тексты о Рудном Алтае и мистическо-краеведческие романы В. Н. Токмакова. Сюжетно-мотивный комплекс, связанный с образами алтайских гор, в большей степени предполагает устремленность вверх. Аналогом физическому восхождению выступает мотив преображения души, реализуемый даже в том случае, если фактически герой спускается в недра горы, как это произошло в романе В. Н. Токмакова «Танец маленьких королей».
Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ) (проект № 23-28-00496 «Образ Алтая в сибирском тексте русской культуры», https://rscf.ru/project/23-28-00496/).
Acknowledgments. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 23-28-00496 “The image of Altai in the Siberian text of Russian culture”, https://rscf.ru/project/23-28-00496/.
1 Бердяев Н. О власти пространств над русской душой // Бердяев Н. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. М.: Изд. Г. А. Лемана, С. И. Сахарова, 1918. С. 64.
2 От лат. Albus — белый.
3 От финик. Lbn — белый, ср. белки́ — сиб. название заснеженных горных хребтов, г. Белуха — наивысшая точка Алтая, 4506 м.
4 В XIX в. — на видоописательные картины В. П. Петрова, Е. Е. Мейера; в нач. ХХ в. — на мифопоэтические полотна Г. И. Чорос–Гуркина.
5 Ядринцев Н. М. В дальних странствиях // Образ Алтая в русской литературе XIX–XX вв.: антология: в 5 т. Барнаул: ИД «Барнаул», 2012. Т. 1: 1850–1900. С. 337.
6 Токмаков В. Н. Танец маленьких королей: страшная новогодняя сказка. Барнаул: [б. и.], 2022. С. 46. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
7 О связи мотива крепости на горе с мотивом декапитации см.: [Полтавец: 24–55]. История смерти Кайгородова является частотным сюжетом алтайского текста. Так, офицер выведен под фамилией Огородов в романе В. Я. Зазубрина «Горы» (1933). Остатки его отряда засели в Кобанде (реальная Катанда) — практически неприступном горном поселении. Для неожиданного захвата противников красноармейцам пришлось совершить переход через Теректинский хребет, что в литературе 1930-х гг. сравнивалось с героическим переходом А. В. Суворова через Альпы.
8 Ср. с аналогичной ролью Белой Горы в сакральном ландшафте Пермского края [Фирсова: 37].
9 В номинации персонажа, полагаем, содержится аллюзия на тот факт, что архимандрит Макарий (Глухарев) перевел на русский язык Книгу Исайи. В романе отец Макарий и Исайя Лемех косвенно взаимодействуют.
Об авторах
Татьяна Александровна Богумил
Алтайский государственный педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: tbogumil@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5166-9132
кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы
Россия, ул. Молодежная, 55, г. Барнаул, 656031Список литературы
- Абашев В. В. Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2012. 140 с.
- Бедарева И. А. Эволюция фольклорно-мифологической системы в русской литературе Горного Алтая. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т., 2011. 135 с.
- Бедарева И. А. Базовые пространственные мифологемы в русской литературе Горного Алтая ХХ века // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 10 (64). Ч. 3. С. 20–22 [Электронный ресурс]. URL: https://philology-journal.ru/article/phil20162504/fulltext (09.02.2023).
- Генон Р. Символы священной науки / пер. Н. Торос. М.: Беловодье, 2002. 496 с.
- Завидов Д. С., Крейдун Ю. А. О личности святителя Макария // Бийск Православный: к истории Православия в городе Бийске Алтайского края / отв. ред. В. Буланичев. Бийск: Бия, 2006. С. 90–97.
- Замятин Д. Н. Горные антропологии: генезис и структуры географического воображения // Река и Гора: локальные дискурсы: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. «Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей» / отв. ред. В. В. Абашев. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2009. С. 155–162.
- Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 26–50 [Электронный ресурс]. URL:https://sociologica.hse.ru/2010-9-3/27369972.html (09.02.2023). (a)
- Замятин Д. Н. Метагеографические оси Евразии // Полис. Политические исследования. 2010. № 4. С. 22–47 [Электронный ресурс]. URL: https:// www.politstudies.ru/article/4299 (09.02.2023). (b)
- Керн Г. Лабиринты мира. СПб.: Азбука-классика, 2007. 432 с.
- Козлова С. М. Краеведческий роман: к проблеме жанра. На материале прозы С. К. Данилова и В. Н. Токмакова // Алтайский текст в русской культуре: сб. ст. / под ред. М. П. Гребневой. Барнаул: АлтГУ, 2021. Вып. 9. С. 109–118.
- Литературная мифология Алтая / Е. А. Худенко, А. И. Куляпин, Т. А. Богумил, Н. И. Завгородняя. Барнаул: АлтГПУ, 2019. 178 с.
- Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб.: Искусство–СПб, 1997. 845 с.
- Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М.: Российская энциклопедия, 1994. Т. 2: К–Я. 719 с.
- Полтавец Е. Ю. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка». М.: Изд-во Московского ун-та, 2018. 168 с.
- Потапов Л. П. Культ гор на Алтае // Советская этнография. 1946. № 2. С. 145–160.
- Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. СПб.: Алетейя, 1997. 282 с.
- Рогачева Н. А., Драчева С. О., Медведев А. А. Историческая динамика поэтической образности в сибирском тексте русской лирики XVIII — начале XX вв. // Вестник Тюменского государственного университета. Филология. 2012. № 1. С. 126–134 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.utmn.ru/humanitates/vypuski-arhiv/philology/2012/110333/ (09.02.2023).
- Сечина Н. Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский), 1835–1926 // Макарий (Невский), митрополит Московский. Избранные слова, речи, беседы, поучения. М: Моск. подворье Свято-Троиц. Сергиевой лавры: Отчий дом, 1996. С. 3–28 [Электронный ресурс]. URL: https:// azbyka.ru/otechnik/Makarij_Nevskij/#_2 (09.02.2023).
- Славянская мифология: энциклопедический словарь. М.: Международные отношения, 2002. 512 с.
- Топоров В. Н. Мировое древо: универсальные знаковые комплексы: в 2 т. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Т. 2. 496 с.
- Фирсова А. В. Белая гора — сакральный ландшафт Пермского края // Река и Гора: локальные дискурсы: сб. мат-лов Междунар. науч. конф. «Урал и Карпаты: локальный дискурс горных местностей» / отв. ред. В. В. Абашев. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2009. С. 31–38.
- Шастина Т. П. Алтайские горы в описании путешествий Г. И. Спасского («Сибирский Вестник») // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6 (31). Ч. 2. С. 20–24. (a)
- Шастина Т. П. Алтайские горы: взгляд изнутри в авторских переводах Дибаша Каинчина с алтайского на русский // Казанская наука. 2011. № 11. С. 272–274. (b)
- Шастина Т. П. Горный Алтай: литературное вхождение территории в состав имперских пространств // Филология и человек. 2013. № 1. С. 41–53. (а)
- Шастина Т. П. Горный Алтай в публицистике Н. М. Ядринцева // Сибирский филологический журнал. 2013. № 4. С. 74–82. (b)
- Шастина Т. П. Горное и горнее в «Алтайских рассказах» А. И. Макаровой– Мирской // Макарьевские чтения: мат-лы X Междунар. науч.-практ. конф. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2015. С. 384–391.
- Шастина Т. П. Алтай протоиерея Михаила Путинцева — «…поистине горы Божии» // Макарьевские чтения: мат-лы XI Междунар. науч.-практ. конф. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2016. С. 218–226.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / пер. Е. Морозовой. СПб.: Алетейя, 1998. 249 с.
- Янушкевич А. С. «Горная философия» в пространстве русского романтизма (В. А. Жуковский — М. Ю. Лермонтов — Ф. И. Тютчев) // Жуковский и время. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2007. С. 133–161.
- Янушкевич А. С. Русская романтическая монтанистика 1810–1830-х гг. как имагологический и компаративистский текст // Имагология и компаративистика. 2015. № 2 (4). С. 5–19. doi: 10.17223/24099554/4/1
Дополнительные файлы