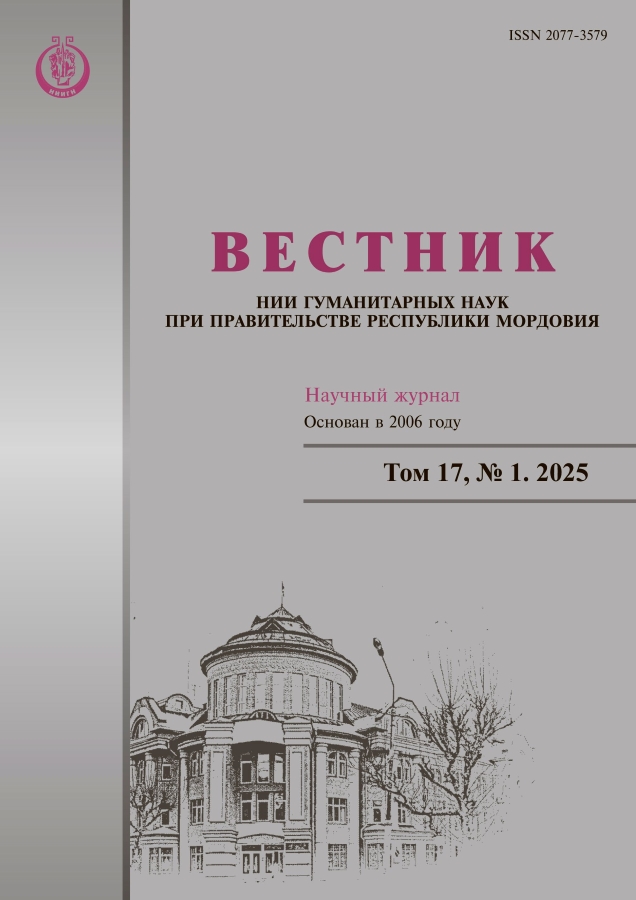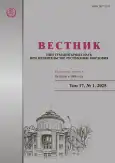Творчество Ч. Айтматова и тюркоязычные литературы: преодоление соцреалистического канона
- Авторы: Загидуллина Д.Ф.1
-
Учреждения:
- Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан
- Выпуск: Том 17, № 1 (2025)
- Страницы: 186-198
- Раздел: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
- URL: https://medbiosci.ru/2077-3579/article/view/296055
- EDN: https://elibrary.ru/XFCPTD
- ID: 296055
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Предметом исследования данной статьи являются изменения, произошедшие в тюркоязычных литературах в 1960 – 1980 гг. в связи с влиянием соцреалистического канона, а также возрожденческие тенденции в национальных литературах СССР во второй половине XX в.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили произведения Ч. Айтматова и татарских писателей 1960 — 1980-х гг., в которых проявился отход от принципов соцреализма. Сочетание контекстного и герменевтического методов позволило определить основные художественные приемы в тюркоязычных литературах авангардного типа.
Результаты исследования и их обсуждение. На материале сравнительного анализа произведений Ч. Айтматова, А. Еники, А. Якубова, А. Баянова установлено, что тюркоязычная литература данного периода характеризуется такими чертами, как возвращение к национальным художественным традициям, углубление личностного начала и психологизма, интеллектуальности и философичности. Литература отражает размышления о духовном состоянии общества, затрагивает «запретные» темы и утверждает тесную взаимосвязь человека с миром, родной землей, в то же время указывает на отчуждение от своей сущности.
Заключение. В тюркоязычных литературах 1960 — 1980-х гг., стремящихся к созданию новых художественных форм, ключевыми стали следующие приемы: во-первых, четкое разделение персонажей по полюсам добра и зла (духовного и материального); во-вторых, расширение смыслового диапазона традиционных образов от единичного к всеобщему, к архетипическим началам; в-третьих, неразрывная взаимосвязь этнических и общечеловеческих ценностей; в-четвертых, использование приемов «потока сознания» (в том числе и «потока сознания зверя» в сочетании с древнетюркскими мифами и легендами), внутренних монологов и детальное изображение душевных качеств и переживаний персонажей.
Полный текст
Введение
В истории советской литературы 1960 — 1980-е гг. характеризуются масштабной трансформацией художественного сознания, мощным творческим подъемом, обусловленным «хрущевской оттепелью». Важной составляющей этого процесса стал поиск новых художеcтвенных ориентиров, выходящих за рамки соцреалистического канона. Характер этого поиска в тюркоязычных литературах отличается от ситуации в русской литературе. В этом плане интересным является суждение Т. В. Казариной, которая смысл русского авангарда считает «в преодолении фундаментального разрыва между материально-практической и знаковой областями действительности. Восстановление их единства понимается авангардистами всех поколений как слияние онтологической подлинности предметного мира, динамики языка и креативности творческого субъекта» [11, с. 6]. В национальных литературах этого не произошло: «новое», «революционное», применялось в отношении отдельно взятого героя, нетипичного человека, реже — внутри мотива, но не стало «пафосом противостояния советской идеологии» [11, с. 6]. Вместе с тем в большинстве тюркоязычных литератур данного периода практически нет и пафоса соцреализма с «агрессивной героикой» [18, с. 31]. Направления, названные «деревенской», «лейтенантской», «лагерной» прозой и сыгравшие непосредственную роль в формировании русского авангарда, если и возникали в литературах народов СССР под сильным влиянием русской литературы, то оказывались несколько в ином поэтическом измерении. Например, в татарской прозе 1960 — 1980-х гг. практически нет произведений, соответствующих характеристикам «лейтенантской», «лагерной» прозы: они появились на рубеже 1980 — 1990-х гг. или были опубликованы в постперестроечное время, оставаясь долгое время недоступными читателю. Например, «Кырык дүртнең май аенда» — «В мае сорок четвертого» (1965) Н. Фаттаха и «Колыма хикәяләре» — «Колымские рассказы» (1954) И. Салахова вышли в свет в 1990-е гг. Соответственно они не повлияли на литературный процесс. Отдельные мотивы, связанные с раскулачиванием и коллективизацией, культом личности и др., вкраплялись в биографические и автобиографические произведения («Малай чак» — «Мальчишество» (1979) И. Гази; «Җиләкле аланнар» — «Ягодные поляны» (1971) Р. Тухфатуллина; «Без бәләкәй чакларда» — «Когда мы были маленькими» (1979) и «Минем тәрәзәләрем» — «Моих окон жизнь» (1965) Ф. Хусни; «Яшенле яңгыр» — «Грозовой дождь» (1968) Г. Минского; «Агымсуларга карап» — «Глядя на текучие воды» (1973) Ш. Маннура и др.), но они не типизировались, оставаясь примером биографии отдельно взятого человека. Вместе с тем в этих произведениях затрагивались национальные, социальные, философские проблемы, жанр автобиографической повести послужил усилению лиризма и углублению психологизма в татарской прозе.
Несколько по-иному проявлялось влияние русской «деревенской» прозы, поскольку в татарской литературе деревенская тема оставалась одной из главных. В прозе выявление и осмысление глубинных основ народной жизни позволяли воссоздать героев — хранителей векового опыта поколений, исполнителей нравственных заветов народа («Авылдашым Нәби» — «Односельчанин Наби» (1957), «Йолдызым» — «Моя звезда» (1962) Р. Тухфатуллина; «Туган туфрак» — «Родная земля» (1959) А. Еники; «Туган ягым — яшел бишек» — «Родной край — колыбель моя» (1967) Г. Баширова). В целом тема раскрывалась в позитивном ключе, лишь в отдельных произведениях обнаруживалось критическое отношение к существующим порядкам. Наиболее близкие к «деревенской прозе» произведения появились позже («Әтәч менгән читәнгә» — «Петух на плетне» (1980) А. Гилязова и др.).
Многие произведения на языках народов СССР, идущие вразрез с официальной коммунистической идеологией, оставались в личных архивах писателей до тех пор, пока не появлялись сходные произведения на русском языке. Так, публикация повестей «Лицом к лицу» (1957) Ч. Айтматова и «Җан көеге» — «Ничтожество» (1969) татарского прозаика М. Амира, в которых затрагивается проблема дезертирства во время Великой Отечественной войны, стала возможной после выхода в свет повести В. Г. Распутина «Живи и помни» (1974).
Тем не менее в 1960-е гг. татарская проза постепенно начала преображаться. Изменения были обусловлены стремлением ряда писателей преодолеть характерное для соцреализма нивелирование национального в литературе. Активизировавшаяся бинарная оппозиция «материальное — духовное» стала связываться с вековыми этническими ценностями. Главная причина нравственного упадка в обществе стала усматриваться в утрате духовной связи человека со своими корнями. Указанный процесс постепенной трансформации был сопряжен с обращением писателей татарской и других тюркоязычных литератур к традициям прошлого, художественному опыту предыдущих поколений. Ярким воплощением данной тенденции стало творчество таких авторов, как Ч. Айтматов, А. Еники, А. Якубов, Г. Айги, Анар, Эльчин, И. Шихли: они воспринимались как проявление «соцреализма с человеческим лицом»1. Ведущая роль в этом процессе принадлежит Чингизу Торекуловичу Айтматову (1928 — 2008), писателю-билингву, чьи произведения с конца 1950-х гг. стали открытием нового типа художественного мировидения.
Обзор литературы
В процессе исследования обозначенной проблемы нами проанализированы научные труды современных литературоведов, в которых раскрываются новые подходы к трактовке социалистического реализма. В сборнике статей «Соцреалистический канон» определены три базовых принципа: изображение главным героем человека труда; доминирование марксистско-ленинской идеологии; использование особой концепции времени по схеме: прошлое — пережитки; настоящее — эпоха испытаний и перемен; светлое будущее [18]. Вывод о том, что «следствием распространения соцреалистического канона стало очевидное понижение эстетического качества официальной советской литературы», сделан Н. Л. Лейдерманом и М. Н. Липовецким в учебном пособии для студентов вузов, где проанализированы механизмы преодоления канона, в том числе — литература «под маской соцреализма», «соцреализм с человеческим лицом», трансформация соцреалистических жанров и т. д.2 В монографии М. М. Голубкова «Утраченные альтернативы» (1992) художественный процесс рассматривался как с точки зрения государственной политики в отношении к литературе, так и имманентных эстетических закономерностей художественного развития [8]. В ней впервые в литературоведении дано представление об альтернативных типах художественного мышления в советской литературе 1920 — 1930-х гг.
Изучению творчества Ч. Айтматова посвящены работы П. Е. Глинкина «Чингиз Айтматов» [7], М. Л. Селиверстова «Откровения любви» [17], К. А. Асаналиева «Открытие человека современности» [2], Е. К. Озмителя «Литература горного края» [15], Л. И. Лебедевой «Повести Чингиза Айтматова» [13], М. С. Азизова «Мастерство Чингиза Айтматова» [1], В. И. Воронова «Чингиз Айтматов» [3] и др. В них внимание акцентируется на использовании писателем метода реализма, глубокого психологизма ситуаций, характеров и поступков героев.
Исследование национального своеобразия картины мира в творчестве Ч. Айтматова осуществлено Г. Д. Гачевым в монографии «Любовь, человек, эпоха: рассуждение о повести „Джамиля“ Ч. Айтматова» [4]. Им была разработана методология, позволяющая увидеть в национальной литературе Космо-Психо-Логос. Вскоре эта концепция нашла отражение в докторской диссертации А. С. Садыкова «Национальное и интернациональное в кыргызской советской литературе» [16]. В монографии П. М. Мирза-Ахмедовой «Национальная эпическая традиция в творчестве Чингиза Айтматова» на материале анализа произведений писателя сделана попытка проследить механизм возникновения концепции «национальной художественности», который обнаруживается прежде всего во взаимосвязи реалистического творческого метода с эпической традицией [14]. В работе Л. Укубаевой «Художественное мастерство Чингиза Айтматова» доказывается, что «…национальная особенность творчества Чингиза Айтматова определяется не столько его связью с традициями устной народной поэтики <…>, сколько глубоким знанием жизни своего народа, знанием души, психологии и характера современного кыргыза» [20, с. 133].
В книге Г. Д. Гачева «Национальные образы мира: Евразия — космос кочевника, земледельца и горца» особенности национальной картины мира, проявляющиеся в творчестве Ч. Айтматова (представление пространства и времени как «самодвижения», «мышление о мире через коня», «сращенность патриахального с новым» в героях и пр.), связываются с коренными устоями мировоззрения тюрков-кочевников [5]. Вместе с тем ученый называет Ч. Айтматова писателем Евразии, вобравшим в себя культуру разных народов Востока и Запада.
Для нас представляют интерес научные статьи А. Ф. Кофмана «Художественный мир Чингиза Айтматова» [12] и В. И. Тюпы «Коммуникативная стратегия „вестничества“ в прозе Чингиза Айтматова» [19], в которых произведения писателя анализируются как образцы нового типа художественного мировидения, воссозданного писателем-билингвом.
Типологическая общность в творчестве Ч. Айтматова и А. Еники [9], Ч. Айтматова и А. Баянова [10] ранее рассматривалась нами. Вместе с тем проблема преодоления социалистического канона в творчестве Ч. Айтматова в сравнении с другими тюркоязычными литературами оставалась вне поля зрения литературоведов.
Материалы и методы
Материалами для исследования послужили произведения Ч. Айтматова и татарских писателей 1960 — 1980 гг.
В решении поставленных задач нами использованы контекстный и герменевтический методы, которые реализуются в подходе к анализу отдельного периода развития национальных литератур как целостной художественной системы.
Результаты исследования и их обсуждение
В творчестве Ч. Айтматова наиболее рельефно проявились процессы формирования новой художественной парадигмы, основывающейся на преодолении героико-романтического модуса, усилении критического начала, обращении к историческому прошлому, внимании к нравственной проблематике. Эта тенденция проявилась и в литературах других тюркоязычных народов. Практически во всех литературах начинают появляться произведения, посвященные историческим событиям, героями которых становятся сыновья своего народа. Примером может служить проза узбекского писателя Айбека (М. Ташмухамедов), татарина-фронтовика Г. Абсалямова, казахского прозаика М. Ауэзова, чувашского — М. Юхмы, азербайджанского — Эльчина (Эльчин Ильяс оглы Эфендиев) и др. Писатели в завуалированной, локальной форме затрагивали проблемы коллективизации, сталинских репрессий, судеб советских пленных. Безусловно, это было проявлением смелости творческой интеллигенции. В произведениях важным стало обращение к структуре народного эпоса. Так, в татарской литературе первым романом, воссоздавшим героя Великой Отечественной войны в образе эпического героя, стал «Мәңгелек кеше» («Вечный человек», 1960) Г. Абсалямова. Главный герой Баки Назимов, поднявший бунт в лагере Бухенвальд — коммунист и одновременно достойный сын Гатауллы-абзый из известного татарского рода аюлар (медведей). Данная тенденция указания этнической и родовой идентичности героя нашла отклик не только в прозе, но и поэзии.
Проявлением нового стало и углубление личностного начала. Размышляя о творчестве Ч. Айтматова, В. И. Тюпа обращает внимание на то, что все его ранние повести начинаются с местоимения «Я» в первой фразе в противовес «мы» в соцреалистическом каноне: «…уже в самом начале своего творческого пути шестидесятник Айтматов (подобно одному из своих героев Абуталипу Куттыбаеву) осуществлял „подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности“» [19]. Эта устремленность к обретению своего «я» приводит в творчестве разных тюркоязычных писателей к открытию ценности человеческой личности, интересу к индивидуальной психологии человека и поиску иных детерминант характера не столько социальных, сколько национально-исторических, ценностно-идеологических. Значимость личности в произведениях Ч. Айтматова, как и его современника татарского писателя А. Еники, вырисовывается на фоне огромных массивов бытия — национально-исторической жизни, природы и космоса. С этой аксиологической установкой писателей связано возвращение в тюркоязычные литературы глубокого психологизма.
Если в советской литературе традиционно объектом изображения выступает внешний мир, сложные отношения человека с социумом и борьба за изменение общества в целом, то уже в прозе военного времени А. Еники исследует психологию, характер человека, его поведение в непредвиденных ситуациях, выявляя универсальные ценности, свойственные человеку вообще. Писатель, последовательно наблюдая за изменениями, происходящими в мыслях и чувствах отдельного героя в кризисных ситуациях, нередко обращается к приему «потока сознания». Так, в рассказе «Кем җырлады» («Кто пел?», 1944), описывая последние минуты жизни раненого солдата, автор воссоздает столкновение жизни и смерти. Через переживания героя, случайно услышавшего татарскую песню, автор утверждает непреходящую ценность четырех категорий: родного дома, матери, родной земли и любви. Так авторская интенция устремляется от единичного, локального ко всеобщему: за частными историями у А. Еники всякий раз проступают философские обобщения, образы писателя часто восходят к архетипическим началам, а в аксиологической иерархии, помимо общечеловеческих, значимыми оказываются ценности этнические. Тенденция к субъективизации повествования позволила шире реализовать художественный потенциал приемов психологизма в творчестве и других тюркозычных писателей.
Ранние повести Ч. Айтматова, например, «Джамиля» (1957), «Тополек мой в красной косынке» (1961), «Первый учитель» (1963) уже отличаются показом драматизма судьбы героя, оказавшегося в сложной ситуации, неоднозначностью решения проблем на уровне ментальности. В них жизнь изображается через призму человеческой психологии с позиций авторского идеала о вечных ценностях — добре и красоте, которые «привязаны» к конкретному хронотопу, психологии конкретного этнического сообщества. Они обнаруживаются в действиях простых людей и направлены на утверждение жизни по справедливости и совести. В творчестве Ч. Айтматова и других тюркоязычных прозаиков герои резко разделяются на положительных и отрицательных, что было присуще произведениям соцреализма. Однако повествование в них отличается от традиционной для соцреализма повествовательной модели. Распределение персонажей по полюсам добра и зла позволяет в повестях Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» (1966), А. Еники «Саз чәчәге» («Болотный цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962), Эльчина «Сары гялин» («Светловолосая невестка») выстроить оппозицию духовного и материального. В первой авторы подчеркивают полную слиянность человека со своим миром, ощущение нерасторжимой связи с родной землей, землей предков; во второй — процесс отчуждения Человека от своей сущности. Выстраивая систему персонажей таким образом, писатели подчеркивают «некую праоснову, архетипическое начало того или иного представителя человечества» [12, с. 295]. Эти произведения могут прочитываться и как критика существующего строя из-за показа социальных проблем, разрыва между разными слоями советского общества, стремления представителей власти к личному обогащению и т. д. Однако в них нет «ключей» к такому прочтению. Изображенное в целом воспринимается как локальная история, как рассказ о жизни отдельно взятого персонажа.
Вместе с тем предупреждение об опасности отчуждения человека от себя, своего рода, от истории и природы получает в тюркоязычных литературах различные, в том числе и открытые формы выражения. А. Еники, поставивший проблемы разрыва духовных связей между поколениями, потери родного языка, национальных традиций, нравственных ценностей, любви к родной земле, красоты человеческих отношений в повести «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание», 1965), связывает их с идеологией. В повести «Ак лиман» («Круг», 1973) азербайджанского прозаика Анара «поток сознания» Неймата Намазова и символическая картина красных кораблей в белом порту становятся ключом к прочтению приемов эзопова языка, с помощью которого автор доносит до читателей мысль о застое в духовной жизни людей, о внутреннем недовольстве, которое присутствует в азербайджанском обществе. В романах узбекского писателя А. Якубова «Сокровища Улугбека» (1973), «Белые, белые лебеди» (1977), посвященных разным периодам в истории народов и страны, высоконравственные и совестливые герои борются с социальной несправедливостью, бездуховностью, негативными качествами в характерах людей. Хотя писатель рассматривает отрицательные социально-политические явления 1920 — 1930-х и 1960 — 1970-х гг. как несовпадающие с социалистическими принципами, тем не менее, его нравственно-сильные герои, в характере которых проявляются родовые, архетипические черты, придают историческим событиям общечеловеческое значение, а многочисленные монологи и диалоги указывают на авторскую позицию.
В одном из знаковых произведений А. Еники — повести «Вөҗдан» («Совесть», 1966 — 1968) центральной становится тема морали. События начала 1930-х г. изображаются сквозь призму частной истории героя повести Хабиба Юлдашева, выступающего одновременно в качестве повествователя. Автор показывает трагедию человека, сталкивающегося с основывающейся на страхе тоталитарной системой, однако причина усматривается в личной зависти и желании сделать карьеру. Интересна форма повествования: шаг за шагом прослеживаются мысли и переживания героя, который в течение двух дней пытается осознать произошедшее, но не находит возможности разрешения ситуации. В его монологах совесть представляется не только как общечеловеческая, но и как этническая категория. Повесть заканчивается монологом Юлдашева, обобщенно оценивающим трагедию прошлого: «Придет время, — думал я часто, — и человеку представится возможность стать чистым человеком, когда совесть и разум вернутся к своему естественному единству, когда исчезнет лицемерие, сокрытие истинной мысли, страх и лесть, когда человек начнет жить только ради правды и справедливости, как велит ему его совесть. Да, искренне, такие мысли у меня появлялись, друг Бакер! Кажется, нет смысла жить без таких мыслей, такой надежды...»3. Таким образом, в 1960-е гг. герой живет ожиданием перемен, о чем открыто говорит своему другу Бакиру. Жить по совести, в согласии с собой воспринимается идеалом советского писателя — татарина, который пытается дать общественно-политическую оценку недалекому прошлому.
В одноименном с предыдущим романе узбекского прозаика А. Якубова также затрагиваются многие запретные темы. Его герой профессор Нормурад Шамурадов, который в 1930 г. участвовал в раскулачивании односельчан, однажды вступает в полемику с «раскулаченным» Кудратходжой, вернувшимся после XX съезда КПСС в родные места. В идеологических и нравственных полемиках Н. Шамурадов отстаивает свою правоту и верность содеянному в 1930-е гг. Яркие диалоги между Н. Шамурадовым и его оппонентами, племянником Атакузы и Вахидом Мирабидовым, острый, резкий, порой переходящий в рукоприкладство диалог с соперником в жизни и любви Кудратходжой, раскрывают позицию и взгляды людей на происходившие когда-то события, оказавшихся по разные стороны «идеологических баррикад». Автор прослеживает переживания героев, пытаясь понять их мотивы и стремления. Подчеркнем, что в тюркоязычных литературах, особенно в поэзии, категория совести становится главной в ряду человеческих характеристик начиная с конца 1960-х гг.
Уже в первых повестях Ч. Айтматова изображение прошлого киргизского народа осуществляется с использованием фольклорных мотивов, архетипических образов. Так, наличие в повести «Прощай, Гульсары!» древнего киргизского плача, легенды об охотнике Коджожаше, в «Белом пароходе» — предания о Рогатой матери-оленихе и ряда тюркских легенд и сказок —не только указывает на стремление писателя раскрывать в своих произведениях этнокультуру, сложенную кыргызским народом на протяжении веков, но и превращает произведения в текст, в котором национальное переплетается с общечеловеческим. Эта тенденция проявляется также в узбекской, туркменской и других литературах. Мифологические мотивы способствуют утверждению ценности исторической памяти. Опасность потери исторической памяти, равноценной потере человеческого в человеке, указывается в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день» (1980). Здесь писатель связывает проблему сохранения своего «я» с необходимостью сбережения связи с традициями, историческими корнями, со своим родом, этносом и человечеством. Легенды, исторические символы, этнические образы и знаки позволяют прозаику явственно показать красоту и богатство народной культуры, разумность и благородство веками сложившихся взаимоотношений с природой, людьми и народами. Появляется непохожая на привычное в художественной литературе картина мира. В теории авангарда этот прием называют «иновидением», который позволяет «очистить зрение от всех наслоений культуры» [1, с. 207]. Благодаря этому «новому зрению» создаваемая Айтматовым картина мира, проникнутая мифами и легендами, звуками природы и наставлениями матери-земли, человеческих первоначал, начинает «работать» на формирование самосознания народа.
Ярким приемом, позволяющим понять природную сущность этнического сознания, становится параллелизм, когда движения человеческой души соотносятся с явлениями природы. Безусловно, все положительные герои Айтматова — «соприродны» [12, с. 302]: они испытывают огромную любовь ко всему живому («Джамиля»); способны ощущать колебания морей и Неба («Белый пароход») и вести разговор с землей («Материнское поле»). Интегрированность человека в природное всеединство выступает одной из отличительных особенностей тюркоязычных литератур 1970 — 1980-х гг. Взамен авангардного «комплекса Икара» или «мифокомплекса авиатора» [6, с. 221] приходит «комплекс кентавра», о чем писал Г. Д. Гачев. Ч. Айтматов находит путь сопряжения этой интегрированности с поиском первооснов бытия: очеловечение образов животных, наделение их психологическими качествами, индивидуальной судьбой (иноходец Гульсара, мать-олениха, рыба-женщина, верблюд Каранар, волчица Акбара и волк Ташчайнар и др.) превращаются у писателя в особую форму психологизма — «поток сознания зверя» — которая эксплицирует мифологическое сознание и подсознание тюрка. В этом плане творчество Ч. Айтматова открывает новые возможности для развития многих литератур. Хотя отдельные примеры использования образов животных прослеживаются в татарской (А. Баянов), казахской (М. Ауэзов), азербайджанской (Эльчин) литературах, именно роман «Плаха» становится в этом плане толчком к масштабным преобразованиям. При этом смысловое наполнение было одинаково: в романе А. Баянова «Ут һәм су» («Огонь и вода», 1971) и у Ч. Айтматова образы волков изображаются в качестве хранителей традиций и образа жизни народа, носителей сознания рода, всего живого и жизни на Земле. Оба автора указывают на проблему разрушения связей между человеком и природой, а значит — самой жизни на Земле. Здесь необходимо отметить, что волк — тотемное животное для тюрков. Истребление первопредка, по замыслу Ч. Айтматова и А. Баянова, — это убийство человеческого в человеке и предательство по отношению к роду.
«Поток сознания» зверя Ч. Айтматова в романе «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006) оборачивается еще одной гранью писательского мастерства: он показывает глубокие переживания, духовные трансформации оказавшихся на перепутье людей (страны, человечества), отмечая непреходящие ценности. Впервые представленный в повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» «поток сознания» такого же особенного для тюркских народов, как волк, животного — коня, находит продолжение в повестях узбекского прозаика Т. Мурада «Ночь, когда заржал конь», «Люди, живущие под луной» (1978) и татарского автора А. Баянова («Җәй белән җәй арасы» («Между двумя летами», 1991)). Этот прием в едином комплексе с древнетюркскими мифами, легендами прочно возвращается в тюркоязычные литературы, позволяя воссоздать этническую историю и картину мира в композиционной модели «текста в тексте». В картине мира, обращенной к отдаленному прошлому, к первоначальным временам, важную роль играет и недалекое советское прошлое, которое также воспринимается в качестве важного средства межпоколенческой коммуникации и национальной самоидентификации. В творчестве Ч. Айтматова оно возникает в связи с попыткой воссоздать жизнь во всем ее многообразии: как историю человека, государства, народа и человечества. Обращаясь к структуре эпических сказаний тюркских народов, писатель синтезирует в единой картине мира жизнь отдельно взятого человека, «строительство социализма», состояние народного духа и будущего человечества. Писатель утверждает, что сам человек несет ответственность за все, что было, происходит сейчас и может случиться в будущем. Например, в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день» перед внутренним взором главного героя Едигея, который везет хоронить своего друга, проходит вся жизнь на Буранном полустанке. Среди его воспоминаний — несправедливости сталинско-бериевского режима, поездка Едигея в Алма-Ату с целью рассказать правду об аресте Куттыбаева и реабилитация Абуталипа. Параллельно автор пересказывает две старинные легенды о событиях, произошедших в сарозекской степи. Так в романе Айтматова переплетаются прошлое, настоящее и будущее, а конкретно-исторические факты получают объяснение в аспекте вечной борьбы Добра и Зла, Справедливости и Лжи, звучит вера в то, что исторические катаклизмы, какими бы жестокими ни казались, не в силах «лишить человека его праосновы, его принадлежности к своим корням и своему пространству, которые пребывают во времени и вечности» [12, с. 295]. Чуть позже такая же композиционная модель будет использована татарским прозаиком А. Гилязовым в произведениях «Өч аршын җир» («Три аршина земли», 1963), «Җомга көн, кич белән» («В пятницу вечером», 1979) и др.
Констатация ситуации неудовлетворенности человека жизнью, разочарования, духовного одиночества, мотивированной личными и социальными причинами, предстает в произведениях Ч. Айтматова как осознание истины поколением, беззаветно верившем в советскую идеологию (то же осознание прослеживается и в рассказах А. Еники: «Төнге тамчылар» («Ночные капельки», 1964), «Шаяру» («Игра», 1955), «Тынычлану» («Успокоение», 1978). Так, роман «Тавро Кассандры» (1994) Ч. Айтматова, как и вышеназванные рассказы А. Еники, предупреждает о губительных последствиях безрассудного отношения человека к своему жизненному пространству. Здесь прозаики констатируют: Добро и Зло заложены в самом человеке, в каждом из нас. Данная идея стала ведущей в тюркоязычных литературах рубежа ХХ — ХХI вв.
Заключение
Процесс преодоления соцреализма в «период оттепели» в тюркоязычных литературах был ознаменован возвращением к национальным истокам. Тюркоязычные писатели создают модель мира, нацеленную на формирование самосознания своего народа, в которой совмещаются три круга бытия: социальное, национальное и общечеловеческое. В этом и заключается особенность механизма преодоления соцреализма, опирающегося на национальные мифопоэтические и нравственно-эстетические традиции. Поиски национальных художественных основ Ч. Айтматовым и другими тюркоязычными писателями обусловили критическое отношение к традициям социалистического реализма, поиск нового пути, основанного на синтезе национального, общенародного и общечеловеческого начал.
1 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 — 1990-е годы: в 2 т. Т. 1: 1953 — 1968. М., 2003. С. 89 — 90.
2 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Указ. соч. С. 21.
3 Еники Ә. Вөҗдан // Ә. Еники. Әсәрләр: 5 томда. 3 т.: Повестьлар. Казан, 2002. С. 151 — 152.
Об авторах
Дания Фатиховна Загидуллина
Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан
Автор, ответственный за переписку.
Email: zagik63@mail.ru
главный научный сотрудник отдела литературоведения, доктор филологических наук, профессор
Россия, 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 12/4Список литературы
- Азизов М. С. Мастерство Чингиза Айтматова: дис. … канд. филол. наук. Махачкала, 1974. 194 с.
- Асаналиев К. А. Открытие человека современности: Заметки о творчестве Ч. Айтматова. Фрунзе: «Кыргызстан», 1968. 150 с.
- Воронов В. И. Чингиз Айтматов: Очерк творчества. М.: Сов. писатель, 1976. 231 с.
- Гачев Г. Д. Любовь, человек, эпоха: рассуждение о повести «Джамиля» Ч. Айтматова. М.: Сов. писатель, 1965. 97 с.
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Евразия — космос кочевника, земледельца и горца. М.: Институт ДИ-ДИК, 1999. 368 с. EDN XBXDGX
- Гирин Ю. Картина мира эпохи авангарда. Авангард как системная целостность. М.: ИМЛИ РАН, 2013. 400 с. EDN VLWGIV
- Глинкин П. Е. Чингиз Айтматов. Л.: Просвещение, 1968. 111 с.
- Голубков М. М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской литературы, 20 — 30-е гг. М.: Наследие, 1992. 199 с.
- Загидуллина Д. Ф. Авангардные явления в тюркоязычных литературах СССР в середине ХХ века: Амирхан Еники и Чингиз Айтматов // Возрождение национальных литератур во второй половине ХХ века и Чингиз Айтматов: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (12 дек. 2018 г., г. Казань). Казань: ИЯЛИ, 2018. С. 6 — 15. EDN ESTHLY
- Загидуллина Д. Ф. «Поток сознания зверя» в творчестве Ч. Айтматова и А. Баянова: диалог с этнической художественной традицией // Казанский лингвистический журнал. 2021. Т. 4, № 1. С. 25 — 37. DOI: https://doi.org/10.26907/2658-3321.2021.4.1.25-37, EDN MSKKUD
- Казарина Т. В. Три эпохи русского литературного авангарда (эволюция эстетических принципов): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Самара, 2005. 37 с.
- Кофман А. Ф. Художественный мир Чингиза Айтматова // Studia Litterarum. 2019. Т. 4. № 2. С. 292 — 311. DOI: https://doi.org/10.22455/2500-4247-2019-4-2-292-311, EDN LHYHIR
- Лебедева Л. И. Повести Чингиза Айтматова. М.: Худож. лит., 1972. 78 с.
- Мирза-Ахмедова П. М. Национальная эпическая традиция в творчестве Чингиза Айтматова. Ташкент: Фан, 1980. 92 с.
- Озмитель Е. К. Литература горного края: сб. ст. Фрунзе: Кыргызстан, 1971. 136 с.
- Садыков А. С. Национальное и интернациональное в киргизской советской литературе: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Фрунзе, 1972. 102 с.
- Селиверстов М. Л. Откровения любви. Заметки о творчестве Чингиза Айтматова. Фрунзе: Кыргызстан, 1966. 148 с.
- Соцреалистический канон: сб. ст. СПб.: Академический проект, 2000. 1040 с.
- Тюпа В. И. Коммуникативная стратегия «вестничества» в прозе Чингиза Айтматова // Новый филологический вестник. 2009. № 3 (10). С. 76 — 79. EDN MTATBN
- Укубаева Лайли. Художественное мастерство Чингиза Айтматова. Бишкек: Турар, 2019. 252 с.
Дополнительные файлы