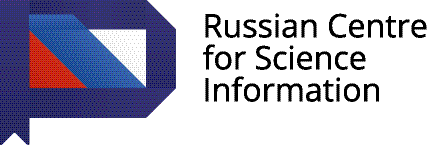Privacy invasion strategy in media interview
- Autores: Zhupinskaya A.V.1
-
Afiliações:
- Minsk State Linguistic University
- Edição: Volume 30, Nº 4 (2024)
- Páginas: 196-204
- Seção: Linguistics
- URL: https://medbiosci.ru/2542-0445/article/view/311898
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-4-196-204
- ID: 311898
Citar
Texto integral
Resumo
Nowadays questions of privacy violation and its protection gradually spreads from the problem belonging to the field of sociology and psychology to the major interest of linguistic researches, first of all it concerns theory of communication, pragmatic linguistics and dialogue studies. This article is devoted to the study of initiating communicative strategy of interlocutor’s privacy invasion (strategy of personal borders violation) which is investigated on the basis of English and Russian media interviews, due to the wide representation and variability in realization of the specified strategy in this particular genre of media discourse. In media discourse and in interview as one of its central genres two tendencies are widespread: the tendency to frankness within the concept of “new sincerity” and the tendency to conflict and provocative behavior. It generates a large number of inconvenient private questions. In this article, a set of tactics included in the strategy of privacy invasion is described with the help of contextual analysis. Three types of invasion tactics are distinguished: preparing tactics, tactics of direct invasion and tactics of insisting on the answer on the basis of such parameters as a position in dialogue (initiating and reactional) and the contribution to the achievement of communicative aim (main and additional). Illocutionary characteristics (form of interrogation, suggestion, request and representation) and typical means of verbalization are established for each type of the mentioned tactics. Various degree of representation in dialogue of the specified tactics allows to single out two main types of privacy invasion: marked and unmarked.
Texto integral
Введение
В современном мире отношение к вопросу личного пространства и защиты его границ достаточно противоречиво. С одной стороны, важность правильного выстраивания личных границ отмечается как в строго научных, так и научно-популярных работах в области психологии, социологии и лингвистики [Орех, Богомягкова 2019; Саркисян 2014; Иссерс 2018]. Подобная популяризация в массовом сознании идеи о необходимости уважительного отношения к чужому личному пространству и корректной защиты собственного для осуществления адекватной и успешной коммуникации, а также в целом для становления и развития личности, дополняется постепенным ужесточением законодательных норм в области защиты информации, личных данных и «прайваси» в широком смысле [Alderman, Kennedy 1995, p. 154; Tumanov, Kapelko 2022].
С другой стороны, в обществе наблюдается тенденция к сознательной демонстрации и публичному обсуждению традиционно считавшихся закрытыми сторон личной жизни, в ряде работ получившая название «овершеринг» [Сомов 2022, с. 46]. Данную тенденцию значительно усиливает влияние сети Интернет (во многом за счет свойственной ей анонимности [Слюсарев, Хусяинов 2019, с. 437]), где распространено явление так называемого «виртуального эксгибиционизма» [Орех, Богомягкова 2019, с. 163; Слюсарев, Хусяинов 2019], т. е. детального и подробного освещения своей повседневной жизни, включая гипертрофированную демонстрацию эмоций и большое число личных подробностей (стримы, сторис, реакции и под.).
В этой связи можно сказать, что важность и значимость исследования личного коммуникативного пространства, способов нарушения его границ и их защиты в ходе диалога заключаются в воспитании вкуса к «прайваси» [Эко 2023, с. 542]. Вкус к прайваси связан не столько с возможностью защиты личных границ теми, кто этого добивается, сколько в том, «чтобы научить ценить это благо тех, кто с таким восторгом от него отказывается» [Эко 2023, с. 544].
В первую очередь данное замечание затрагивает участников медийного дискурса, находящегося сегодня под сильным влиянием цифровых технологий и интернет-коммуникации. В дискурсе СМИ наиболее полно отражается противоречивость отношения к личному пространству и необходимости его защиты: одновременно наблюдается распространение идей «новой чувственности» и «новой искренности», которые предполагают интимизацию и эмотизацию публичной коммуникации [Гладко 2022; Timmer 2010; Кошкарова, Яковлева 2019], представляя собой в широком смысле философские течения, связанные с пересмотром общественных норм, повлекшее обновления коммуникативных кодов и стратегий [Иссерс 2020, с. 218], и тенденция к некорректному, конфликтному и провокационному поведению [Бочков 2007; Степанов 2003; Иссерс 2009 и др.].
Интервью, в первую очередь портретное, являясь одним из центральных жанров дискурса СМИ, подвержено всем основным преобразованиям, происходящим в медиасфере. Так, следствием обеих из указанных выше тенденций стало возрастающее число неудобных, провокационных и предельно личных вопросов, задаваемых в ходе портретного интервью, что делает целесообразным его использование в качестве материала для исследований по проблемам вторжения в личное пространство и защиты его границ.
Целью данной работы является описание стратегии вторжения в личное пространство собеседника и установление ее лингвопрагматических характеристик.
Материалом исследования послужили 1200 фрагментов на русском и английском языках, содержащих вопрос, нарушающий границы личного пространства. Контексты были отобраны методом сплошной выборки из медийных портретных интервью на основании тематического критерия, согласно которому реплика интервьюера считается вторжением в личное коммуникативное пространство интервьюируемого, если затрагивает темы, не предназначенные для публичного обсуждения: доходы, физическое и психическое здоровье, вера, зависимости, негативный личный опыт, семейные, дружеские, любовные и интимные отношения [Иссерс 2018].
Основная часть
Нарушение границ личного пространства собеседника представляет для интервьюера сложную коммуникативную задачу, как в силу ее некооперативного характера, так и хорошей подготовленности медийных персон в целом к общению с прессой и к неудобным личным вопросам в частности.
Нетривиальность данной задачи порождает большую вариативность в способах реализации указанной стратегии и в вербальном оформлении основной тактики вторжения в личное пространство, а также приводит к широкому привлечению вспомогательных тактик, способствующих вторжению.
При этом анализ фактического материала позволяет обобщить все разнообразие форм реализации стратегии нарушения границ личного пространства, выделив два основных способа осуществления вторжения: немаркированный и маркированный.
Немаркированный вариант вторжения (81,66 % в русскоязычном и 85,83 % в англоязычном интервью) не предполагает каких-либо предварительных речевых действий, акцентирующих личный характер запрашиваемой журналистом информации.
Маркированный вариант (18,33 и 14,17 % соответственно), напротив, содержит эксплицитное указание на то, что в дальнейшем журналист намеревается нарушить границы личного коммуникативного пространства собеседника.
Выбор конкретного варианта вторжения влечет различия в степени привлечения вспомогательных тактик. Вспомогательные тактики традиционно противопоставляются основным, а разграничение этих двух типов базируется на их вкладе в достижение коммуникативной цели [Иссерс 2002, с. 104–109]. Основные тактики прямо направлены на ее достижение, т. е. в данной ситуации основной является тактика непосредственного вторжения в личное пространство интервьюируемого. При всей вариативности форм ее реализации в наиболее общем виде данная тактика представляют собой прямой или косвенный вопрос.
В рамках изучения диалога и вопросно-ответных единств, а также отдельных жанров, имеющих диалогическую природу (дебаты, интервью и т. д.), был разработан ряд классификаций вопросов по различным основаниям: функциональным, семантическим, структурным и др. [Степанов 2003; Путина 2018, Шатуновский 2001]. В данном исследовании при описании тактики непосредственного вторжения учитываются иллокутивные характеристики и тип информационного запроса как параметры в наибольшей степени влияющие на вербальную реализацию тактики.
Так, с точки зрения иллокутивных характеристик вторжение чаще всего реализуется в форме интеррогатива:
– Насколько ты волновался? (Баженов, Шихман 2021);
– Ты куришь? (Попов, Плосков 2021).
В ряде случаев нарушение границ личного пространства осуществляется в форме директива в его реквестивной:
– Сергей Маркович, расскажите, как Вы не взяли деньги (Гандлевский, Толстая 2005);
– You can talk. Tell me about Kim ‘Вы можете рассказать. Расскажите мне о Ким’ (Baldwin, Behar 2009),
и суггестивной разновидностях:
– Well, let’s, because these albums are very personal, let’s talk about your personal life for a second ‘Ну, давай, так как эти альбомы очень личные, давай поговорим немного о твоей личной жизни’ (Simpson, Seacrest 2005);
– Давай все-таки про недостатки твои (Попов, Плосков 2021).
Для обеих разновидностей директивной формы вторжения характерно использование делиберативных конструкций и императива с глаголами речи: императива второго лица в случае реквестивной разновидности и инклюзивного императива – при суггестивной.
В силу специфики жанра интервью, в котором любая реплика журналиста расценивается как вопрос, требующий соответствующей реакции и/или комментария, достаточно распространена репрезентативная реализация вторжения в личное пространство:
– Ну, получается, муж как бы на службе у тебя (Долина, Гордеева 2022);
– Ashton Danny said you’re a very good card player ‘Дэни Эштон сказал, что ты хорошо играешь в карты’ (Affleck, King 2007).
Наиболее типичными видами информационных запросов, используемых при нарушении границ личного пространства, являются следующие.
Запрос на подтверждение обычно предполагает интеррогативную (выражен общим вопросом) либо репрезентативную реализацию. Типичными клишированными формулами для этой разновидности запроса являются выражения вида правда ли, верно ли, is it true, is it right и др.:
– Мы, конечно, могли бы позвать, ну, Сергея Белоголовцева и, например, сказать, а вот, правда, что у вас трое детей? (Белоголовцев, Смирнова 2004);
– Did he (the father) have a heart attack? ‘У отца был инфаркт?’ (Baldwin, Behar 2009).
Запрос об информации, традиционно выражается интеррогативом в виде специального вопроса, а также реквестивом в форме расскажи о / про, tell about:
– Момент, когда ты поднял, что это твоя женщина? (Баженов, Шихман 2021);
– Tell me about marriage. You and your husband, Jay-Z … ‘Расскажи мне о браке. Ты и твой муж Джей Зи…’ (Knowles, King 2009).
Запрос на мнение или оценку может осуществляться в форме как вопроса, так и утвердительного высказывания. В данном случае вторжение направлено на получение информации об оценке ситуации интервьюируемым и его эмоциональном состоянии, в силу чего при его реализации могут использоваться предикаты мнения (думать, считать, полагать, think, consider и др.), а также лексика, обозначающая чувства и эмоции (бояться, волноваться, worry, depressed и д?.):
? р.):
– Вы считаете себя альфонсом? (Васильев, Шихман 2019);
– What’s it like having little children again? I mean, you have a daughter that’s grown and now you have twins ‘Каково это – снова завести маленьких детей. Я имею в виду, что у тебя есть взрослая дочь, а теперь у тебя близнецы’ (Pacino, King 2007).
Гипотетический вопрос предполагает выбор из нескольких существующих альтернатив либо решение проблемы морально-нравственного характера, не стоящей перед интервьюируемым на момент интервью, но которая может возникнуть в будущем. Для данного типа информационного запроса типичным является использование альтернативных вопросов, сложных предложений с придаточными условия, а также форм сослагательного наклонения:
– Кино или семья? (Бондарчук, Гордеева 2021);
– But if you met Mr. Right … ‘Но если ты встретишь того самого мужчину…’ (Fonda, King 2007);
– Would you like to be a father? ‘Ты бы хотел стать отцом?’ (Clooney, King 2006).
Вспомогательные тактики не позволяют самостоятельно достигнуть цели, но способствуют более успешной реализации основных. Немаркированный вариант вторжения практически полностью базируется на основной тактике непосредственного вторжения с минимальным привлечением вспомогательных, в отличие от маркированной разновидности, где широко используются вспомогательные тактики, подготавливающие вторжение.
Подготовка вторжения включает коммуникативные тактики, сигнализирующие о смене темы на более личную и тем самым маркирующие вторжение: предварительное очерчивание границ личного пространства собеседника и запрос на обсуждение определенной темы, которые одновременно позволяют снизить степень некооперативности действий спрашивающего.
Предварительное очерчивание границ личного пространства основано на прямом вопросе о том, какие темы готов или не готов обсуждать собеседник в ходе интервью. Такой вопрос обычно носит обобщенный характер, позволяющий очертить круг тем, входящих, по мнению собеседника, в его личное пространство. Он обычно локализуется в начале интервью и демонстрирует тактичность журналиста:
– Are there any questions you are afraid of being asked? ‘Есть ли вопросы, которых Вы опасаетесь?’ (Drabble, Milton 1978);
– Есть вопросы, которые могут выбить Вас из колеи? Или Вы сейчас всегда можете «отфутболить»? (Большунов, Шитихин 2022).
Запрос на разрешение обсудить личную тему может быть использован журналистами в ходе интервью помимо общего инициирующего вопроса о границах личного пространства собеседника. В этом случае журналисты по ходу интервью задают вопросы насчет личного / неприемлемого характера одной конкретной темы:
– Я хотела коснуться истории, которую Вы сами описывали в одном известном журнале, касающаяся ваших отношений с Михаилом Таривердиевым. Вы утверждаете… (Максакова, Меньшова 2022).
Запрос на разрешение обсудить личную тему может быть дополнительно модализован с использованием показателей волитивной или алетической модальности (хочу/хотел бы, могу / можно спросить, can, may, would like to ask):
– Я могу про Машу спросить еще? (Максакова, Меньшова 2022).
На лексическом уровне маркерами вторжения и индикатором того, что интервьюер, используя подобные подготовительные тактики, пытается обращаться в ходе интервью именно к личным и интимным сторонам жизни собеседника, является использование соответствующих лексем (личный, интимный, private, personal и под.), а также лексем и устойчивых словосочетаний, содержащих, согласно анализу словарных дефиниций, в своей семантике указание на негативные эмоции и / или нарушение норм (неприятный, выбить из колеи, to be afraid of, hurt, impertinent и др).
Следует отметить, что стремление журналиста к более эффективному нарушению границ личного пространства собеседника предполагает весьма сложные и вариативные комбинации осуществляющих и подготавливающих вторжение тактик. Так может наблюдаться реализация подготовки вторжения и непосредственно вторжения в рамках отдельных реплик:
– With Vince Vaughn. I can ask a question, right? ‘С Винсем Воном. Я же могу спросить, правда?’
– Yes. ‘Да’
– Is it (relationship) serious? (Aniston, King 2005) ‘У вас серьезные отношения?’,
комбинация подготовки и непосредственно вторжения в пределах одной реплики:
– So I’m not supposed to ask, are you getting married? When are you getting married? Do you want to get married? ‘То есть я ведь не должен спрашивать, выходишь ли ты замуж? Когда ты выходишь замуж? Хочешь ли ты выйти замуж?’ (Knowles, Reynolds 2007),
сочетание подготовки и вторжения вплоть до их синкретичной реализации, при которой реплика интервьюера одновременно подготавливает вторжение, т. к. содержит предварительный запрос на разрешение обсудить определенную тему, и осуществляет вторжение, т. к. включает вопрос, нарушающий границы личного пространства:
– Can you talk about your marriage? ‘Можете рассказать о браке?’ (Roth, Lee 1984).
Одним из таких промежуточных или синкретичных вариантов является репрезентативная реализация вторжения, при которой наблюдается объявление журналистом темы следующего вопроса (группы вопросов) в форме нераспространенных назывных предложений обычно с использованием делиберативных конструкций:
– OK, Rosie, your aunt ‘Хорошо. Рози, твоя тетя’ (Clooney, King 2006);
– Про ситуацию с полицейским (Хофманнита, Парамонова 2021).
Подобные действия могут рассматриваться и как запрос на разрешение обсудить указанную тему, и как собственно вторжение, требующее ответа или комментария по заявленной теме.
Использование журналистом всего разнообразия тактик, составляющих стратегию нарушения границ личного пространства, тем не менее не всегда позволяет достигнуть цели и получить полный содержательный ответ на вопрос. В случаях когда в ответ на вторжение интервьюируемым применяется тот или иной способ защиты, журналист зачастую предпочитает настаивать на ответе. В среднем цепочка попыток получить ответ на личный вопрос насчитывает от 2 до 4 вопросно-ответных циклов, но в некоторых случаях журналисты проявляют большую степень настойчивости:
– Вернусь к прессе. Значит, все сначала написали, что ты женился, потом все написали, что ты опроверг свадьбу. Ты женат или не женат?
– По законам Российской Федерации – нет, но мы счастливы. И это никого не должно интересовать.
– У тебя какой-то пунктик на тему того, что не идти в ЗАГС?
– Нет, почему…
– Почему нет?
– Почему? Я не говорил, что мы не ходили в ЗАГС. Я сказал, что по законам Российской Федерации мы не муж и жена. Ну и все.
– Вы ходили в ЗАГС в другой стране?
– Ира, ну и все. Отстаньте вы от нас. Ну мы счастливы, это личное дело меня. Счастье любит тишину. Ну и все, я не буду рассказывать про свою личную жизнь никому. Зачем?
– Обручальное кольцо я вижу.
– Да, но дело в том, что это мои пальцы. Я на них что хочу и на какое, то и вешаю <…> (Хрусталев, Шихман 2020).
Недостижение коммуникативной цели приводит к пересмотру на последующем этапе диалога как отдельных задач и связанных с ними основных тактик, так и ситуативных подзадач, которые решаются при помощи вспомогательных [Bentahar, Mbarki, Moulin 2006 p. 5–8].
Несмотря на то что основные тактики настаивания на ответе по сути представляют собой повтор тактики непосредственного вторжения, их целесообразно выделять в отдельную группу в силу их реактивного характера, в отличие от инициирующих тактик непосредственного вторжения. Особенностью тактик настаивания на ответе является их употребление в ответ на применение интервьюируемым стратегии защиты личного пространства. Основные тактики настаивания включают следующие.
Повтор первоначального вопроса в той или иной форме предполагает использование журналистом либо простого дублирования, либо близкой к изначальной переформулировки вопроса:
– Похмелье помогало?
– Надо с бесами встретятся? по Бэррему.
– Это помогало? (Сукачев, Шихман 2018);
– You used to smoke. I know a nonsmoker and a smoker ‘Ты курила. Я тебя знаю и курящей, и некурящей’.
– Fair question, fair question. Listen, this was compounded by being in Paris, a city where you’re still allowed to smoke. ‘Хороший вопрос, хороший вопрос. Слушай, это все дополнялось нахождением в Париже, где все еще разрешено курить’
– Are you a smoker? ‘Ты куришь?’ (Parker, King 2004).
Переформулировка вопроса обычно связана с существенным изменением запроса с целью облегчить интервьюируемому ответ и включает смещение к менее личной теме либо пояснение журналистом первоначального вопроса, обычно с использованием рефлексивного типа интерпретирующих речевых актов [Абреу-Фамлюк 2009]:
– Your mum was young, right? ‘Твоя мама была молодой, верно?’
– She was everything to me, yes. ‘Она была для меня всем, да’
– I mean she died young ‘Я имею в виду, она умерла молодой’ (Pacino, King 2007),
а также, в случае неполного удовлетворения информационного запроса, в форме уточняющего типа вопроса, который позволяет получить дополнительную информацию и проконтролировать правильность понимания журналистом (а также аудиторией) полученного ответа с использованием нерефлексивной разновидности интерпретиру-
ющих речевых актов [Абреу-Фамлюк 2019]:
– What’s the secret (of the marriage) ‘В чем секрет брака’?
– He does his thing in one room and I do mine in another. I don’t know. You know, opposites attract. ‘Он занимается своими делами в одной комнате, а я своими – в другой. Я не знаю, противоположности притягиваются’
– You’re definitely opposite, right? ‘Вы точно противоположности, так?’ (Streisand, King 2010);
– До этого Вы всегда показывали и рассказывали про отношения.
– Это не я, это девчонки все хотели: давай, пожалуйста вот, давай мы это… публичный человек. Я уже давным-давно, а вот девчонки все мои, <…>.
– Я правильно понимаю, что если у Вас появится какая-то вот новая любовь… (Башаров, Жигалова 2021).
Настаивание на ответе предполагает использование также целого ряда вспомогательных тактик.
Экспликация мотивировки вопроса как вспомогательная тактика способна облегчить спрашивающему как непосредственно вторжение, так и настаивание на ответе:
– Yeah. Your mother is of Scottish … Scottish by birth and you tell us here… ‘Да, Ваша мама – шотландка, родилась в Шотландии, и Вы здесь говорите…’
– I’d like to leave it out as much as possible. ‘Я бы хотел это оставить за скобками, насколько возможно’
– Well, that’s getting more and more difficult when you’re going to be worth $1 billion, you’ve got to start answering some questions here ‘Ну, это сделать все труднее, когда твое состояние больше $1 млрд., придется ответить здесь на несколько вопросов’ (Trump, Donahue 1987).
Уточнение мотивировки отказа от ответа может быть реализовано в форме специального вопроса, если журналистом не сформулирована собственная гипотеза относительно данной мотивировки, либо в форме утверждения / общего вопроса, содержащего подобную гипотезу:
– А у Вас есть настоящий друг?
– Этого я не могу сказать
– Почему Вы не хвастаетесь друзьями? (Васильев, Шихман 2019);
– Vince Vaughn. Is it serious? Is everything going... ‘Винс Вон. У вас серьезные отношения? Все идет…’
– I’m not talking about it. I’m not talking about it. ‘Я не разговариваю об этом. Я не разговариваю об этом.’
– Because it’s none of our business or... (Aniston, King 2005).
Указание на наличие возможности у интервьюируемого ответить на вопрос может сопровождаться утверждением / намеком журналиста, что интервьюируемый переоценивает степень некорректности вторжения:
– OK. We’re back with Alec Baldwin. Alec, let’s talk about your marriage now, OK? I see that... ‘Хорошо. Мы снова в студии с Алеком Болдуином. Алек, давайте теперь поговорим о вашем браке, хорошо? Я вижу, что…’
– Do we have to? ‘А нам нужно?’
– Well, you do, because you’re in a good place about it. You have distance now ‘Ну да, потому что Вы сейчас в хорошей позиции относительно произошедшего. Вы на расстоянии’ (журналист указывает на давность произошедшего, что позволяет ему оценивать вопрос как менее болезненный и указывать на возможность интервьюируемого ответить) (Baldwin, Behar 2009).
Указание на некорректность поведения интервьюируемого (попытку уклониться от ответа, предоставление ложной информации и под.) мало применено в случае нарушения границ личного пространства собеседника в силу некорректного характера стратегии вторжения и наличия у интервьюируемого морального права не отвечать на соответствующие вопросы, что практически лишает журналиста возможности открыто трактовать защитную реакцию как проявление некооперативности. Тем не менее в редких случаях интервьюер все же использует подобные прием как одну из вспомогательных тактик настаивания на ответе:
– Вот эту тему ваших жен и всех вот этих вот историй с избиениями вы сводите к каким-то шуткам.
– Какие тут шутки, вы что? Какие шутки?
– Ну, вот вы увидите, люди, которые посмотрят наше интервью, они будут писать, что что ж он издевается, почему он ни разу за все интервью не сказал искренних слов, не сказал, не раскаялся в своих поступках, не обратился…
– Перед кем? Перед телезрителями просить прощения? С чего, с какой стати? Я попросил прощения перед одной Елизаветой и перед Екатериной. Они это знают. Перед кем мне еще нужно? Выйти на Красную площадь и перед этими людьми, которые сидят в интернете целыми днями, смотрят и читают всякую х…ю, мне перед вами просить прощения? Идите в ж…у! Вот. Теперь я искренен.
– Наконец-то Вы сказали то, что Вы думаете на самом деле. (Башаров, Жигалова 2021).
Данная тактика характеризуется использованием метакоммуникативных ходов контроля над темой и интерпретирующих речевых актов как рефлексивного, так и нерефлексивного типов.
Заключение
Таким образом, в силу сложности решаемой журналистом задачи при нарушении им границ личного пространства собеседника, стратегия вторжения демонстрирует высокую степень вариативности. Тактики, составляющие данную стратегию, различаются по вкладу в достижение цели, позиции в диалоге, степени автономности, иллокутивным характеристикам и используемым типичным языковым средствам реализации. С учетом указанных параметров можно выделить три группы тактик вторжения в личное пространство: тактики, подготавливающие вторжение, тактику непосредственного вторжения и тактики настаивания на ответе. Представленность тактик каждой из групп в конкретном отрезке диалога, содержащего нарушение границ личного пространства интервьюируемого, различается. На основании наличия / отсутствия тактик, подготавливающих вторжение, можно выделить два основных типа реализации стратегии вторжения: маркированный, при котором осуществляется предварительная подготовка к нарушению границ, и немаркированный, не содержащий подобных речевых действий.
Sobre autores
A. Zhupinskaya
Minsk State Linguistic University
Autor responsável pela correspondência
Email: annzup@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-1849-9378
lecturer of the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Rússia, 21, Zakharov Street, Minsk, 220034, BelarusBibliografia
- Alderman, Kennedy 1995 – Alderman E., Kennedy C. (1995) The Right to Privacy, New York, 406 p. Available at: https://books.google.ru/books?id=KbOnCw4FiiIC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.
- Bentahar, Mbarki, Moulin 2006 – Bentahar J., Mbarki M., Moulin B. (2006) Strategic and Tactic Reasoning for Communicating Agents. In: Fifth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. Available at: https://www.researchgate.net/publication/228571650_Strategic_and_tactic_reasoning_for_communicating_agents.
- Timmer 2010 – Timmer N. (2010) Do You Feel It Too?: The Post-Postmodern Syndrome in American Fiction at the Turn of the Millennium. Amsterdam, New York, Rodopi, 388 p. Available at: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/29728/timmer.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
- Tumanov, Kapelko – Tumanov A.A., Kapelko T.V. (2016) Legal aspects of violation of privacy in the modern Russian criminal law. Modern European Researches, no. 5, pp. 49–51. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27812797. EDN: https://elibrary.ru/xkqhxp.
- Abreu-Famliuk 2019 – Abreu-Famliuk V.R. (2019) Functional potential of the interpreting speech acts in scientific dialogue. In: Materials of an annual scientific conference of teachers and post-graduate students of university, April 18–19, 2019: in 5 parts. Minsk: MGLU, part 3, pp 30–32. Available at: http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2334. (In Russ.)
- Bochkov 2007 – Bochkov V.A. (2007) Integration of the Western television ideas into the Russian television. In: Communication in the modern world. Materials of the Russian research and practical conference «Problems of Mass Communication»; May 10–12, 2007, Voronezh, Russia. Voronezh: Voronezhskii gosudarstvennyi universitet, pp. 191–193. Available at: http://jour.vsu.ru/editions/thesis/05_07.pdf. (In Russ.)
- Gladko 2022 – Gladko M.A. (2022) Linguistic Representation of «New Sincerity» and Sensitivity in Media Space. Terra Linguistica, vol. 13, no. 4, pp 7–21. DOI: https://doi.org/10.18721/JHSS.13401. EDN: https://elibrary.ru/fjlyha. (In Russ.)
- Issers 2020 – Issers O.S. (2020) Dimensions of a «New Sincerity» in Modern Political Communication. Vestnik NSU. Series: History and Philology, vol. 19, no. 6: Journalism, pp. 216–227. DOI: https://doi.org/10.25205/1818-7919-2020-19-6-216-227. EDN: https://elibrary.ru/cszzss. (In Russ.)
- Issers 2018 – Issers O.S. (2018) The Borderline between the «Decent» and «Indecent» in Public Communication (as in the Case of Interview by Yury Dud). In: Politeness and anti-politeness in language and communication: materials of International scientific conference. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, pp. 94–103. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=43934171&pff=1. EDN: https://elibrary.ru/xeugts. (In Russ.)
- Issers 2002 – Issers O.S. (2002) Communicative strategies and tactics of the Russian speech. Moscow: Editorial URSS, 284 p. (In Russ.)
- Issers 2009 – Issers O.S. (2009) The strategy of speech provocation in public dialogue. Russian Language and Linguistic Theory, no. 2 (18), pp. 92–104. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=15127752. EDN: https://elibrary.ru/mtbbid. (In Russ.)
- Koshkarova, Yakovleva 2019 – Koshkarova N.N., Yakovleva E.M. (2019) Discourse of new emotionality: Communicative practices of digital reality. Political Linguistics, no. 5 (77), pp. 147–152. DOI: https://doi.org/10.26170/pl19-05-15. (In Russ.)
- Orekh, Bogomyagkova 2019 – Orekh E.A., Bogomiagkova E.S. (2019) Understanding «Fleeting» Selfies: the Evolution of Self-presentation Strategies on Social Networks. Sociology of Science and Technology, vol. 10, no. 4, pp. 161–175. DOI: https://doi.org/10.24411/2079-0910-2019-14009. (In Russ.)
- Putina 2018 – Putina O.N. (2018) Typology of Questions: Traditional Approach. Theoretical and Applied Linguistics, vol. 4, no. 4, pp. 127‒143. DOI: https://doi.org/10.22250/24107190_2018_4_4_127_143. EDN: https://elibrary.ru/vqtwwf. (In Russ.)
- Sarkisyan 2014 – Sarkisyan M.V. (2014) «The Talkative Majority»: Privacy, Work and Leisure in a Cyberspace. Human Capital, no. 9 (69), pp. 105–107. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=23183341. EDN: https://elibrary.ru/tniivp. (In Russ.)
- Slyusarev, Khusyainov 2019 – Slyusarev V.V., Khusyainov T.M. (2019) «Digital exhibitionism»: self-identification of personality in the conditions of the information society. Belgorod State University Scientific bulletin. Philosophy. Sociology. Law, vol. 44, no. 3, pp. 434–442. DOI: http://doi.org/10.18413/2075-4566-2019-44-3-434-442. (In Russ.)
- Somov 2022 – Somov M.V. (2022) Information Security of the Younger Generation in the Context of a System-structural Approach. Society: Sociology, Psychology, Pedagogics, no. 11, pp. 45–49. DOI: https://doi.org/10.24158/spp.2022.11.6. (In Russ.)
- Stepanov 2003 – Stepanov V.N. (2003) Provocative question from the point of view of pragmatics and linguistics. Moscow Journal of Linguistics, vol. 6, no. 2, pp. 157–180. Available at: http://mjl.rsuh.ru/issues/_num_6-2-2003.pdf. (In Russ.)
- Shatunovsky 2001 – Shatunovsky I.B. (2001) The main communicative types of full (general) questions in Russian. In: Russian language: crossing borders. Dubna, pp. 246–265. Available at: https://uchebana5.ru/cont/2405163.html. (In Russ.)
- Eco 2023 – Eco U. (2023) Educare alla privacy. In: About Television. Мoscow: AST, pp. 542–546. (In Russ.)
Arquivos suplementares