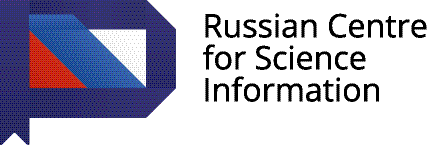BALKAR MOUNTAIN SOCIETIES WITHIN THE CONTEXT OF THE IMPERIAL MODERNIZATION OF RUSSIA: ETHNOSOCIAL CONSOLIDATION AND DEVELOPMENT
- Autores: MURATOVA E.G.1
-
Afiliações:
- Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
- Edição: Nº 2 (2019)
- Páginas: 12-36
- Seção: Medieval and Modern history
- ##submission.dateSubmitted##: 30.05.2025
- ##submission.datePublished##: 15.12.2019
- URL: https://medbiosci.ru/2542-212X/article/view/294374
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2019-2-12-36
- EDN: https://elibrary.ru/IQONEC
- ID: 294374
Citar
Texto integral
Resumo
The article deals with some aspects of development of the Balkar mountain societies in the conditions of Imperial modernization of Russia. It is based on archival sources of the 19th – early 20th century from the Russian State Military Historical Archive (RGVIA), the Russian State Historical Archive (RGIA), the St. Petersburg branch of the Archive of Russian Academy of Sciences (SPb.FA RAN), the Central State Archive of the Kabardino-Balkar Republic (CGA KBR), the Central State Archive of the Republic of North Ossetia-Alania (CGA RSO-Alaniya). The source base is supplemented by legislative acts and periodicals on the topic of the study. These sources allow depict the history of Balkaria during its political and socio cultural integration into the Russian Empire. It is proposed an original interpretation of the specific features of realization of administrative and judicial reforms of the 19th century in Balkar societies as transformations carried out taking into account the specifics of local conditions and contributed to their ethno-social consolidation. The development of communications, the formation of social infrastructure and new forms of economic activity in mountain societies of the post-reform period are shown. Based on the materials of mass historical sources, the study of the demographic and socio-economic structure and evolution of Balkarian rural societies by the beginning of the 20th century was carried out. The analysis of the considered issues leads to the conclusion that the source of the historical dynamics of the Balkar society, the transformations that it underwent during the 19th and early 20th centuries, was the policy of the Russian state in the Caucasus and its impact on the internal life of local societies. Gradually, the mountain community got more and more «open character». The society to go beyond local communities, acquiring its own social scale corresponding to ethnic boundaries. The paper presents a description of the local model of traditional society in the transit to modernity. The research results are indispensable for writing a generalizing work on the problem of integration of such a culturally complex macro-region as the North Caucasus into the Russian state area.
Texto integral
Постановка проблемы
История политики России на Северном Кавказе и ее отношений с народами региона интерпретировались в отечественной историографии в терминах «покорения», «присоединения», «вхождения», «интеграции» народов региона в состав Российского государства. Наиболее активно в современной литературе используется категория интеграции, и чаще всего она отождествляется с инкорпорацией территорий и населения в формальные административные и правовые структуры государства. Более глубоким представляется взгляд, согласно которому в определенном смысле Северный Кавказ был «региональным изобретением» имперской власти, «в пространстве которого решались задачи построения основ нового общества, способного интегрироваться в общероссийское пространство» [Хлынина и др. 2012: 5]. Реальная социально-культурная интеграция региона подразумевала освоение и использование местными обществами на индивидуальном и коллективном уровне правовых, экономических, социальных институтов и практик российского общества и государства в своих интересах [Россия и народы… 2018: 11]. Но сами эти институты и практики находились в процессе модернизационных преобразований, так, что вектор интеграции совпадал с вектором модернизации региона.
Общий взгляд на модернизирующие преобразования, проводившиеся на Северном Кавказе в процессе его включения в имперскую политико-административную систему России, нивелирует особенности развития отдельных этносоциальных общностей. Это суждение в полной мере относится к балкарским горским обществам (Балкарскому, Хуламскому, Безенгиевскому, Чегемскому и Баксанскому), замкнутым в труднодоступных ущельях Центрального Кавказа, и заставляет прибегнуть к специальному анализу тех изменений судебно-административного устройства и социально-культурного развития, которые имели здесь место в XIX – начале XX в.
Методологически конструктивным представляется рассмотрение вопросов судебно-административной организации и развития территории с точки зрения взаимодействия локального сообщества и государства. Ибо «строительство империи предполагало различные практики освоения пространства, зависящие от таких факторов как уровень социально-экономического развития, характер политической культуры населения, его демографические и этноконфессиональные параметры» [Пространство власти... 2001: 345].
Институциональная интеграция горских обществ: промежуточные формы
Большинство отечественных кавказоведов ведут отсчет включению территории балкарских обществ в политико-административную систему Российской империи с 11 января 1827 года. До этого российское правительство воздерживалось от прямого вмешательства в вопросы внутреннего управления горскими обществами. Их традиционное самоуправление выражалось в сложившихся ранее формах гражданских общин, руководимых старшими членами владельческих фамилий того или иного ущелья.
Следует отметить, что балкарские общества несколько позже, чем соседняя Кабарда, составлявшая с ними единое политико-административное пространство, были охвачены административно-судебными институтами, учрежденными российскими властями. Дифференцированный подход в способах осуществления административно-судебной власти в рамках Центра Кавказской линии нашел свое отражение в Записке о политическом состоянии кавказских горских народов, составленной офицером Генерального штаба в 1842 году. К этому времени в составе Центра Кавказской линии значилось восемь подразделений: «1) великокабардинцы, 2) малокабардинцы, 3) дигорцы, 4) балкарцы, 5) бизингиевцы, 6) хуламцы, 7) чеченцы (следует читать «чегемцы» – Е.М.), 8) уруспеевцы. Великокабардинцы управляются учрежденным генералом Ермоловым в 1822 году в крепости Нальчике Временным кабардинским судом… Малокабардинцы имеют пристава, прочие племена, осетинского происхождения (здесь имеются ввиду балкарцы – Е.М.), получившие названия от ущелий, в коих расположены их аулы, управляются старшинами» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4675. Л. 14 и об.]. В таком виде судебно-административное устройство просуществовало до 1858 года, когда Кабардинская линия была упразднена, и создан Кабардинский округ, а Кабардинский временный суд был преобразован в окружной. Некоторые изменения в политико-административном управлении связаны лишь с введением в середине 40-х годов XIX в. приставства балкарских обществ.
В своей деятельности Кабардинский временный суд руководствовался обычным правом и российским законодательством. Разбор дел балкарских жителей, по-видимому, также находился в компетенции этого учреждения. Н.Н. Муравьев, служивший на Кавказе в 1855 году, писал о нем А.П. Ермолову: «Я был в Нальчике, где устав ваш и прокламации служат единственным руководством для дел, встречающихся не только между кабардинцами, но даже и между племенами, живущими в горах» [Потто 1994: 377]. Вместе с тем требуют уточнения функциональные ограничения в деятельности этого учреждения относительно балкарских обществ. До учреждения в Балкарии специального приставства именно Кабардинский временный суд был тем административным институтом, через который осуществлялась трансляция распоряжений российских властей на горские территории. В Центральном государственном архиве КБР отложились единичные дела, касающиеся обращения балкарцев в Кабардинский временный суд. Так, в марте 1836 года чегемский старшина Шарахмат Балкароков обратился с просьбой к командующему Кабардинской линией генерал-майору Сергееву разобрать в суде спорное дело «об удовлетворении его за кровь подвластного его» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 2. Д. 2. Л. 2-4]. Примечательно, что это дело касалось традиционных правоотношений между членами владельческой фамилии и их подвластными и регулировалось адатами Чегемского общества. Несмотря на всю «поверхностность» российского судебно-административного управления горскими обществами, этот прецедент указывает на деформирующее воздействие российской администрации на властные структуры и традиционную саморегуляцию балкарских общин. Лояльно настроенные представители владельческих фамилий начинают апеллировать к российским властям при разрешении внутренних конфликтов.
Если судить по архивным документам, то в основной своей массе балкарцы, не имевшие в Кабардинском временном суде своего представителя, не спешили туда обращаться и ограничивались традиционным судебным разбирательством в своих обществах. Так, за 1846 г. в Кабардинском суде нами обнаружено только 3 дела, подлежащих разбирательству с жителями балкарских обществ [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 440. Т. 2. Л. 117 об.]. Эти дела касались урегулирования взаимоотношений с соседними народами, кабардинцами и осетинами, или предписывали взимание штрафов, то есть выходили за пределы юрисдикции локального сообщества того или иного ущелья.
Разбор судебных дел, касавшихся жителей отдельного балкарского общества, по-прежнему находился в компетенции старшин этого общества и эфенди. Однако теперь для исполнения судебных функций они приводились к присяге в Кабардинском временном суде «о правильном разбирании жалоб» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 90. Т. 1. Л. 2 об.] и клялись в том, что будут рассматривать все дела «по справедливости, не делая поправки ни по какому случаю и никакому лицу» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 90. Т. 1. Л. 47], о чем Кабардинский временный суд доносил в управление Центра Кабардинской линии.
К середине XIX в. постепенно трансформировалась традиционная система ценностей, менялись социальные ориентиры, устоявшиеся правовые нормы. В зависимости от конкретных интересов судебные споры теперь могли быть разрешены на основе различных юридических систем (адата, шариата, русского законодательства) по выбору тяжущихся [Документы… 1959: 35-36]. Таким образом, судебные коллизии еще более осложнялись возможностью выбора нормативной основы и формы разбирательства.
Архивные документы со всей очевидностью отражают традиционное правосознание членов балкарского социума: представления о преступлении, о связи между типом правонарушения и способом его наказания. Так, Чегемское общество в жалобе на сванетов, угнавших скот, обратилось к начальнику Центра кавказской линии за разрешением совершить ответный набег с целью наказания и компенсации ущерба [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1549. Л. 1 об.]. Здесь парадоксально выглядит не только факт обращения к кавказской администрации за подобного рода разрешением, но и объяснение причины, почему такая санкция, по мнению чегемцев, может быть применима. Налицо наложение нескольких правовых полей.
С учреждением в 1846 г. специального приставства балкарских народов усилился контроль над традиционным судопроизводством со стороны российских властей. Из переписки начальника центра Кавказской линии Хлюпина и пристава балкарских народов Хоруева становится ясным механизм этого взаимодействия. Судебное разбирательство велось старшинами отдельного общества или эфенди в зависимости от характера дела. Штрафы, взимаемые деньгами или скотом за различные виды преступлений, делились между судьями. Такой порядок, вполне соответствовавший традиционным правоотношениям, признавался российскими военными властями вполне справедливым, поскольку судьи несли «общую повинность без пособия от казны» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 604. Л. 40 об.]. В то же время пристав должен был перед взысканием штрафов доставить начальнику Центра ведомость «в каком обществе, кто сделал какой поступок, подвергающий его штрафу, уличен ли он, в чем именно, кем, или сам сознался, было ли обсуждено дело старшинами общества, и какое кем наложено взыскание» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 604. Л. 41]. Взимать штрафы за правонарушения можно было только после разрешения начальника Центра Кавказской линии. Ему поступала полная информация о том, «в каком обществе и кто облачен в права судей для разбирательства дел», рассматриваются дела «по обрядам или исключительно какие шариатом, в последнем участвуют ли старшины, или решаются одними эфендиями» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 604. Л. 41 е].
В 1857 г. в связи с готовившимися административными изменениями на Кавказской линии все балкарские общества и Дигория оказались под начальством одного пристава, штабс-капитана Масловского. Управляющий бывшим центром Кавказской линии А.П. Грамотин в ответ на просьбу одного из чинов Владикавказского линейного казачьего полка о назначении его дигорским приставом ответил, что «начальство желает для сохранения расходов уменьшить число приставских мест, на этом основании и для горских народов, в смежных с Кабардою… избрал одного пристава и до сих пор не видит надобности ставить другого, а только находит нужным дать ему двух или трех дельных помощников» [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1878. Л. 11]. Тем не менее рациональное администрирование на такой большой и труднодоступной территории было невозможно. Отправляясь в отдаленное Баксанское ущелье, пристав Масловский требовал, чтобы его сопровождал горский народный эфенди Али, «ибо дела баксанского племени не разобраны за пять лет». По его словам, если духовный судья не будет с ним, то поездка пристава на Баксан будет бесполезной [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 4]. Недостатки приставского правления отмечали и сами жители балкарских общин. Так, представители таубиев и «черного народа» из Балкарского общества подали прошение генералу Грамотину, в котором указывали, что, во-первых, разбор междоусобных дел и удовлетворение обиженных затягивается на три-четыре месяца, пока пристав добирается из одного общества до другого, и, во-вторых, дигорцы и все балкарские общества «имеют каждый свои права и народные обычаи особые», что затрудняет решение дел. Поэтому жители самой густонаселенной из горских общин просили назначать в свое общество «особого пристава», а его помощником – балкарца, который знал бы их обычаи. Решение этого вопроса было оставлено за приставом Б.Г. Масловским: в случае затруднений в управлении всеми горскими обществами резолюция командующего краем предписывала ему назначить помощников от балкарского, чегемского, безенгиевского, хуламского и урусбиевского народов [ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1878. Л. 1 и об.]. Со временем институт пристава трансформировался сначала в должность Управляющего Балкарией, а затем в институт участковых начальников.
Один из архивных документов сохранил свидетельство о своего рода «культурном шоке», который испытали горцы Балкарского общества, став свидетелями того, как пристав арестовал одного из жителей «за отнятие баранты у экзекуторов», и его, вопреки обычаю, «связанного провели через всю Балкарию». «Это был первый пример, до настоящего времени в Балкарии неслыханный» [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 29. Л. 1-2]. Впервые внешняя, чуждая по своей природе политическая сила, непосредственно вмешивалась во внутренний, веками сложившийся, привычный строй общественной жизни и отодвигала на второй план традиционный правовой обычай. При этом такая мера воздействия, как арест, была применена к свободному человеку.
Самопроизвольное барантование (захват скота и другого имущества за потраву полей, покос сена и воровство) вполне соответствовало традиционному правосознанию горцев о заслуженном наказании, но вступало в противоречие со статутным государственным правом и представлениями кавказской администрации о законности и порядке. Поэтому хотя институт баранты еще долго применялся в общественной практике для покрытия ущерба, но его функционирование было поставлено под контроль местных властей. Начальник Центра Кавказской линии предписывал приставам довести до сведения подопечных им горских народов, что если кто «на будущее время позволит себе барантовать самопроизвольно, то не только потеряет всякое право на вознаграждение убытков, но подвергнется сам взысканию» [ЦГА КБР. Ф. 23. Оп. 1. Д. 48. Т. 1. Л. 68]. В последующий период административно-полицейские функции российских властей все больше и больше будут обнаруживать себя в горских обществах.
В конце 1850-х гг. в рамках преобразования административной системы определенные изменения претерпел Кабардинский временный суд, который до этого времени имел депутатов только от Большой Кабарды. В 1858 г. он был преобразован в Окружной народный суд, выполнявший функции высшей судебной инстанции в Кабардинском округе. Первоначально в новом суде планировалось широкое представительство от населения разных частей округа. Согласно «Записке» Д.А. Милютина, кроме депутатов от кабардинцев предполагалось включить в его состав «одного от остальных поименованных горских народов, известных под названием балкарцев» [АКАК 1904: 647-648]. Всего 7 депутатов. Однако при утверждении проекта суда его состав сократился до 4 депутатов, один из которых представлял Балкарию.
В декабре 1859 г. рассматривался вопрос об образовании в Кабардинском округе и участковых народных судов. При этом в суд Балкарского участка надо было представить одного участкового кадия, по одному члену от Балкарского, Чегемского и Урусбиевского общества и одного от Безенгиевского и Хуламского обществ, а также по одному депутату от простого народа на каждого члена суда, всего 9 человек [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Л. 8 об.]. Это объяснялось тем, что горские общества имели различия в обычаях, и для решения дел необходимо было иметь по одному человеку от высшего сословия и простого народа от каждой общины, исключая Хулам и Безенги, самые малочисленные и мало разнящиеся. Члены участкового суда избирались из таубиев, а депутаты – из вольноотпущенников. Притом сами общества должны были содержать своих участковых судей и кадия: каждый двор, кроме самых бедных, платил по 50 копеек серебром в пользу членов участкового суда, которые делили эту сумму поровну, и по 25 копеек в пользу кадия. Депутаты от простого народа не получали никакого содержания и имели только ту привилегию, что освобождались от общественных повинностей в своих аулах.
Российские власти стремились без резкой, радикальной ломки адаптировать традиционные судебные институты горцев к новым политическим реалиям. В рамках учрежденной системы, получившей название «военно-народного управления», провозглашались следующие принципы: во-первых, «туземное население» управлялось не по законам империи, а по «народным обычаям и особым постановлениям»; во-вторых, суд над «туземцами» принадлежал местным «народным судам» и осуществлялся под надзором местной военной власти – по адату, в некоторых случаях – по шариату и «по особым правилам». Предполагалось постепенное развитие нормативной базы судопроизводства на основании опыта и возникающих потребностей [Положение об управлении… 1865].
Административная «автономизация» и консолидация горских обществ
На примере балкарских горских обществ хорошо видно, как учитывалась специфика отдельных этносоциальных образований при проектировании судебных учреждений в Кабардинском округе. Местная администрация неоднократно обращалась к начальнику Терской области, указывая на то обстоятельство, что «жители пяти горских обществ …не принадлежат к кабардинскому племени, резко отличаются от него языком, правами и обычаями, что крайне затрудняет разбор их дел в окружном и участковых судах» [ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 69. Л. 5]. Все это указывало на настоятельную необходимость создать специально для балкарского населения особое участковое управление. Прежде чем решить этот вопрос в вышестоящих инстанциях Кавказское горское управление сделало запрос начальнику Терской области о проектировании выборов депутатов в Кабардинский окружной суд и о предполагаемой деятельности судебных учреждений в Горском участке, увязывая административное и судебное устройство балкарских обществ. В рапорте от 11 июня 1866 года на этот запрос в частности говорилось: «При предполагаемом разделении Кабардинского округа на четыре участка, начальник области, согласно с мнением подполковника Нурида (начальник Кабардинского округа – Е.М.), полагает иметь в Окружном народном суде 5 депутатов по одному от каждого участка: Баксанского, Черекского, Горского и Малокабардинского из среды князей, узденей и свободного сословия и одного от черного народа: вольноотпущенников и холопов: первые избираются свободным сословием каждого участка отдельно, а последний – черным народом целого округа». Более того, до тех пор, пока не будет устроено проектируемое Горское участковое управление в Хуламе, «начальник участка, независимо от обыкновенных разъездов по аулам и разбора дел в Нальчике, будет обязан особою инструкцией иметь подвижной участковый суд, который несколько раз в год, в свободное от полевых работ и более удобное для сообщений время, должен будет выезжать в горы и открывать свои действия на месте, начиная от крайнего общества, и переходить постепенно из одного в другое, до окончания всех дел, подлежащих разбору» [ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 69. Л. 10]. Осенью 1866 года был образован Горский участок, в него вошли Балкарское, Безенгиевское, Хуламское, Чегемское и Урусбиевское общества [ЦГА РСО-Алания. Ф. 119. Оп. 1. Д. 22. Л. 326 и об.].
По мнению современников, функционировавшие тогда народные суды представляли обоюдную школу. Председатели – чиновники колониального аппарата управления разного уровня – знакомились через депутатов «с духом адатов», все яснее оценивали их и, отличая те из них, применение которых удобно и полезно, усваивали их для судебной практики. Судьи, со своей стороны, прислушиваясь к новым веяниям, вносили эти идеи в массу, которая и делала постановления [П.П.-в. Листки из портфеля… 1868].
Следующий этап реформирования судебной системы на Северном Кавказе связан с преобразованиями конца 60-х – начала 70-х гг. XIX в. Они были инициированы судебной реформой 1864 г. в России. Но судебные уставы от 20 ноября 1864 г. распространялись только на русское население Терской и Кубанской областей. При этом «Государственный совет признал лучше оставить на первое время существовавшую уже для горского населения форму судопроизводства, то есть разбор дел … возложить на окружные горские словесные суды, преобразовав состав их согласно новому назначению» [Эсадзе 1907: 86]. Таким образом, для горского населения значение «самой последовательной буржуазной реформы» было сведено на нет.
В 1869 г. на основании Высочайшего указа, данного Сенату, был образован Нальчикский горский словесный суд. Но уже в 1887 г. поверенные горских обществ, ссылаясь на то, что в этом суде накоплено очень много дел, и они разбираются чрезвычайно медленно, постановили ходатайствовать перед Начальником области об открытии отделения Горского суда на счет обществ: Балкарского, Хуламского, Безенгиевского, Урусбиевского, Чегемского и Гунделеновского. На содержание этого суда горские общества обязались вносить ежегодно с 1888 г. по раскладке 2500 рублей [ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 89. Л. 123]. Таким образом, стало функционировать Временное отделение Нальчикского окружного суда, которое разбирало уголовные и гражданские дела балкарцев. В эту судебную инстанцию от горских обществ избирались один кадий, два депутата и столько же кандидатов в судьи [ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 523. Л. 47 об.]. По данным Ж.А. Калмыкова, Кабардинское отделение Нальчикского окружного суда и Временное отделение работали поочередно, каждое по пятнадцать дней. «Разбор судебных дел, касающихся балкарцев, приурочивали к тому пятнадцатидневному периоду, когда заседали депутаты от Балкарии» [Калмыков 1975: 89]. По сведениям современника, путешествовавшего в 1896 г. по слободе Нальчик, в горском суде работало «два состава: один из кабардинских депутатов, заседающих три недели, для разбора дел кабардинских, а другой – из горских депутатов, заседающих одну неделю в месяц, для разбора тяжб горцев (балкарцев – Е.М.)» [Далгат 1991: 148].
Деятельность Нальчикского горского словесного суда охарактеризовал видный балкарский общественный деятель и публицист Мисост Абаев, некоторое время работавший на различных административных должностях, в том числе переводчиком в Нальчикском окружном полицейском управлении и начальником второго участка, куда входили Балкарское, Хуламское, Безенгиевское, Чегемское, Урусбиевское общества и селение Гунделен [Биттирова, Сабанчиев 2017: 11, 13]. Отношение его к деятельности этого суда весьма противоречивое. С одной стороны, М. Абаев в 1900 г. писал о том, что «горский суд… по существу своему есть суд народный, решающий дела по народным обычаям, прибегая к законам империи в решении при разборе лишь таких дел, на решение которых не сложился обычай в народе. В суде этом заседают выборные от населения депутаты, …он является судом совести, и лучшего судебного учреждения для горского населения трудно придумать» [Горец 1900]. С другой стороны, в 1911 г. в историческом очерке «Балкария» он назвал и существенные недостатки этого судебного учреждения. «Депутаты судов последнего периода мало того, что неграмотные и не знают русского языка, но они не знают своих народных обычаев и малоразвитые. Председательствующими назначаются чиновники или офицеры, не знающие языка народов и не имеющие ни малейшего понятия об обычаях и шариате и о самом народе» [Абаев 1911: 626].
В 1912 г. горские словесные суды были специально обследованы Н.М. Бушеном и В.Д. Агишевым. В отношении Балкарии эксперты указали на специфическую практику Нальчикского суда, который решал иногда «многотысячные земельные процессы, касающиеся пользования землями, расположенными в пяти горских обществах Нальчикского округа, территория которых еще не обмежевана; в этих обществах земельный вопрос еще не разрешен в законодательном порядке, но в них искони существует крупная земельная собственность и целая система юридических земельных институтов…» [Агишев, Бушен 1912: 106].
С 70-х гг. XIX в., согласно «Положению о сельских (аульных) обществах в горском населении Терской области», утвержденному наместником Кавказа 30 сентября 1870 г., низовой судебной инстанцией становился аульный суд. Он состоял из судей, избранных общественным сходом. В суде заседало не менее трех человек, а в случае болезни или отсутствия одного из судей место его занимал кандидат. В Центральном государственном архиве Кабардино-Балкарской Республики хранится значительное количество общественных приговоров об избрании аульных судей в Балкарии. Например, типичным является документ, составленный 20 декабря 1892 г. жителями Урусбиевского общества. «Мы нижеподписавшиеся жители Урусбиевского общества ... из числа 346 домохозяев, имеющих право голоса на сходе, быв сего числа на оном в числе 263 человек, составили настоящий приговор ... Мы с общего и непринужденного согласия определили: избрать сельскими судьями… (далее идет перечисление имен и возраста избираемых – Е.М.), избираемые лица под судом и следствием не состояли и ныне не состоят. Постановили: представить настоящий приговор установленным порядком к начальству и просить об утверждении их в означенных должностях. В чем и подписываемся» [ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 2. Д. 42а. Л. 44]. Избранные таким порядком лица утверждались в своих должностях кавказской администрацией, а затем общество через эфенди и в присутствии старшины приводило их к присяге. «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, перед святым его Кораном, хранить верность Его Императорскому Величеству Государю Императору Самодержцу Всероссийскому, честно и добросовестно исполнять свои обязанности принимаемою мною на себя должности и всех относящихся до обязанностей законы и правила, распоряжения и поручения, не превышать предоставленной мне власти и не причинять с умыслом никому ущерба или убытков, а напротив, вверяемые мне интересы ограждать как свои собственные, помятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед Богом на страшном суде Его…» [ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 2. Д. 9. Т. 1. Л. 96]. Такого рода присяги записывались и передавались в управление Нальчикского округа, в фондах которого и отложились.
Разбор дел аульные суды проводили словесно по жалобе истца или по требованию старшины и его помощника. Судопроизводство отличалось простотой и отсутствием формальностей. В компетенцию этого суда входило разбирательство споров и тяжб жителей, иск которых не превышал 100 рублей. Самыми распространенными были дела, связанные с нарушением общественного порядка, внутриобщинными земельными спорами и воровством. Аульный суд за означенные проступки приговаривал виновных к удовлетворению обиженных и налагал взыскания. Они могли быть различны: денежные штрафы до 10 рублей, арест до 7 дней, наряд на общественные работы до 6 дней. При этом надо отметить, что последняя мера не могла быть применена к таубиям и караузденям (привилегированные и свободные сословия – Е.М.), а касалась только лиц простого сословия, то есть тех, которые до сословной реформы не были полноправными членами балкарской общины. Налагаемые аульным судом денежные штрафы поступали в аульную общественную сумму. Все дела в таком суде решались на основе существовавшего обычая, а дела совести и бракоразводные – по шариату.
Повседневный контроль за аульным обществом, сбор податей, взыскание с населения штрафов за различные провинности, поддержание порядка во время праздников, оповещение о распоряжениях властей и сборе аульного схода, участие в судебных разбирательствах и исполнении приговора – выполняли наемные бегеулы за определенное содержание [ЦГА КБР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 183. Л. 20 об.].
Специалисты правомерно сравнивают сельские (аульные) суды горцев с волостными судами Центральной России. Дела, подсудные этим учреждениям, были во многом схожи [Малахова 2001: 241]. Главенствующую роль там играл правовой обычай. Но в отличие от волостных судов, сельские суды не пользовались правом наложения на виновных телесного наказания. Это свидетельствовало о том, что узаконивая определенные виды наказаний, правительство вынуждено было считаться с понятием горцев о личном достоинстве человека.
Новый социально-демографический формат развития
После отмены крепостного права сельская община балкарцев формально стала всесословной. Отныне и бывшие чагары, и патриархальные рабы, выкупившиеся на свободу, стали считаться полноправными членами общества. Однако сословные перегородки продолжали сохраняться и проявлялись в различных областях общественной жизни и в быту. Один из русских путешественников конца XIX в. писал: «Теперь, после уничтожения крепостного права, такого разграничения между жителями не существует, хотя деление на классы в обиходе наблюдается, и теперь встречаются понятия «высший круг» и «низший круг» [Леонтьев 1897: 134].
Во второй половине XIX в. происходил рост населения балкарских обществ. С 1851 по 1897 г. балкарское население увеличилось с 8870 до 23184 человек, то есть в 2,6 раза [РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 190. Л. 3; Первая всеобщая перепись… 1905: 60]. Рост населения шел преимущественно за счет естественного прироста. Приток людей извне был незначительным. Если в первой половине XIX в. пришлое население в основном формировалось за счет людей, купленных в рабство или захваченных в плен в ходе вооруженных столкновений, то во второй половине XIX в. миграционные процессы были связаны с отходничеством и притоком людей из соседних районов на сезонные работы, а также с паломничеством в Мекку. Определенная часть балкарцев переселилась в Турцию во время мухаджирского движения.
Источники позволяют дифференцированно рассмотреть прирост населения в отдельных горских обществах. В Балкарском обществе население увеличилось с 5 до 7,6 тыс. чел.; в Чегемском – с 3 до 4,5 тыс. чел., в Безенгиевском – с 800 чел. до 1,6 тыс. чел.; в Хуламском – с 1150 чел. до 3 тыс. чел. и в Урусбиевском – с 1,3 до 3,7 тыс. чел. [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 439. Л. 10 об.; Труды… 1908: 68-69]. Сравнительно медленное увеличение численности жителей Балкарской и Чегемской общин, вероятно, связано с большим оттоком их населения в другие общества, а также с образованием новых сел для безземельных горцев в предгорных районах в 70-х гг. XIX в.
К этому надо добавить, что число аулов, заключенных в одном ущелье и образующих отдельное общество, непрерывно росло. Если, по данным Н. Забудского, в 1851 г. Балкарское общество включало в себя 14 аулов, то по сведениям за 1896 г. их было уже 23. Число аулов Хуламского общества выросло за этот период с 3 до 5, Чегемского – с 6 до 25, Урусбиевского – с 3 до 21 аула. И только Безенгиевское общество по-прежнему включало в себя 2 аула: Шики и собственно Безенгиевский [Забудский 1851: 130; РГИА. Ф. 1290. Оп. 11. Д. 2384. Л. 34-212]. Каждый такой аул объединял от 3 до 100 дворов (редко больше) и входил в состав того общества, на землях которого расположен.
Вместе с тем наибольший удельный вес жителей балкарских обществ приходился именно на поселения с численностью от 500 до 1000 человек, при том, что в конце XIX-начале XX в. эти поселения составляли не более 15% от общего количества. В то же время, в маленьких поселках с численностью до 50 человек, составлявших 12-14% всех населенных мест, проживало в этот период не более 2% всех жителей горских обществ [Геграев 2007].
В 70-х гг. XIX в. все балкарские общества, занимая площадь около 3600 кв. км, имели среднюю плотность населения около 3,8 чел. на 1 кв. км [Сборник сведений… 1878: III-IV; Списки… 1878].
Надо отметить, что в балкарских обществах и в XIX в. сохранялись пережитки более архаичных форм родовой и семейной общины, причем настолько рельефно, что в 80-х гг. XIX в. список жителей общины составлялся не по аулам, а по родовым группам. Однако в этот период от родовой общины остались только те пережитки, которые не определяли все стороны социально-экономической жизни, а лишь напоминали о былом единстве родов. Таковы совместные поселения членов бывших родов – родовые кварталы внутри сельской общины, родовые тавро, родовые кладбища, строгая экзогамия патронимии, взаимопомощь родственников. Но если родовая община стала в XIX в. лишь пережиточной формой, то семейная община с коллективной собственностью на скот и землю, с коллективным трудом и совместным уравнительным потреблением занимала заметное место в структуре общины. Однако и она претерпевала изменения в течение XIX в. В пореформенный период семейные общины постепенно приходят к упадку, о чем свидетельствуют увеличившееся количество разделов, сокращение численности и поколенного состава большой семьи, изменение их удельного веса. К концу XIX в. основной формой семьи становится малая семья – «аз юйюр», состоявшая от 3-4 до 7-8 человек и включавшая в себя два поколения. По своему внутрисемейному укладу она почти не отличалась от большой.
К 1916 г. численность балкарцев уже превысила 30 тысяч. Мужское население всех балкарских обществ численно несколько превышало женское, что является особенностью демографической ситуации региона. Анализ возрастной структуры по данным 1886 г. показывает, что самую многочисленную группу составляли дети до 10 лет (свыше 30%), возрастная группа от 10 до 20 лет составляла около 20%; от 20 до 60 лет находилась в пределах 40%; лица старше 60 лет составляли от 4 до 7% населения в разных балкарских обществах. Это распределение возрастных групп находит свое подтверждение и в материалах Первой всеобщей переписи населения 1897 г.
Первые cведения об уровне грамотности балкарцев относятся к началу 1860-х гг. и показывают чуть более 0,3% умеющих читать и писать по-русски или по-арабски [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 654. Л. 1-6]. По данным 1886 г., грамотность балкарцев в среднем не превышала полпроцента, а в 1897 г. этот показатель составлял около 1,5% (2,4% – у мужчин и 0,4% – у женщин). Таким образом, несмотря на незначительную его величину, можно говорить о неуклонной тенденции роста числа грамотных среди балкарцев к началу XX в., притом отмечаются более высокие темпы роста арабской грамотности.
Начиная с 70-х гг. XIX века в предгорных районах для безземельных горцев стали создаваться новые селения: Гунделен, Кашхатау, Хасаут, Хабаз и Чижок-Кабак. Переселение части балкарцев из ущелий в предгорья, изменение границ расселения этноса благотворно сказалось не только на экономических условиях жизни балкарцев, но и на росте их народонаселения, на активизации консолидационных процессов. В новых поселках, где в начале ХХ в. проживала уже четвертая часть балкарского населения, субэтнические различия начали постепенно стираться, обнаружилась перестройка внутрисистемных связей.
Вторая половина XIX – начало XX в. отмечены появлением новой социально-бытовой инфраструктуры в горских обществах. Одним из самых важных событий, разомкнувшим изолированный образ жизни горцев, явилось строительство грунтовых дорог. Запертые в труднодоступных ущельях балкарцы остро нуждались в удобном колесном сообщении с плоскостью. Еще в 1859 г. корреспондент газеты «Кавказ» писал: «Пути сообщения в этих обществах чрезвычайно трудны, а местами и вовсе неудобны, да и в трудных местах можно ехать только верхом на лошади, и то не везде, есть места, где и пешком сообщение трудно» [М. Татарское племя… 1859]. В 1861 году Измаил Урусбиев предпринял попытку построить колесную дорогу по Баксанскому ущелью. Работы велись два года, и к весне 1863 года дорога, протяженностью 60 верст, от аула Урусбиева достигла Кабардинской плоскости [ЦГА КБР. Ф. Р-1209. Оп. 7. Д. 42. Л. 18]. В своем донесении Измаил Урусбиев сообщал: «Кроме разработанной дороги, в прошлом году я успел поставить один новый мост через р. Баксан выше аула князя Магомеда Наурузова, после чего уже было несколько колесных подвод с тяжестями из плоскости в наше общество, и горцы до сих пор не понимавшие выгоды этой дороги теперь сплошь запаслись к весне арбами, чтобы с приведением к желаемой цели дороги бросить навсегда свои вьюки» [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1105а. Л. 49]. В 1869 г. братья Урусбиевы изъявили желание продолжить дорогу вглубь ущелья до Донгуз Оруна и получили для строительства, порох, железо и необходимый инвентарь [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 158. Л. 33-53].
Источники, датируемые 1864 г., содержат сведения о попытках устройства удобного сообщения с плоскостью и в других горских обществах. Все расходы балкарские общества взяли на себя. «В Чегеме на покупку и ремонт инструмента собрано жителями 500 рублей. Вышло на работу 200 человек, работы производились 40 дней. В Балкарии на покупку и ремонт инструмента собрано 300 руб. Вышло на работу 350 человек, работы производились с 21 мая по 21 июня. Во все время работы рабочие получали продовольствие от жителей по следующему расчету: на каждые 10 человек одного барана и 30 фунтов хлеба в день» [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 244. Л. 38 и об.]. По данным Н.Ф. Грабовского, уже в 1870 г. начальник округа, без особых затруднений, проехал в Урусбий на тарантасе. В Балкарии более половины дороги разработано по ущелью р. Псыган-су, а из Безенги и Хулама она доведена до теснины р. Хуламского Черека. Из Чегема дорога проводилась в Баксанское ущелье [Грабовский 1870: 7].
Терское областное правление отмечало особую важность разработки горных дорог, способствовавших развитию материального благосостояния населения. Строительство удобных путей сообщения исключило бы убытки, связанные с падением навьюченных животных в пропасть, и позволило бы горцам в большом количестве приобретать на базаре и в лавках слободы Нальчик соль, просо, муку, железо, сталь и другие необходимые товары [ЦГА КБР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 289. Л. 16, 19 и об.]. Начальник Терской области в своем отчете за 1880 г. с пафосом писал: «Путь этот, представляющий ныне свободный доступ в горы, без сомнения в ближайшем будущем поднимет экономический быт массы горского населения, несколько веков не знавшего другого сообщения с плоскостью кроме вьючного» [РГИА. Ф. 1268. Оп. 25. Д. 297. Л. 366 об.].
В 80-х гг. XIX в. дорожное строительство получило новый импульс. Для этого на общественных сходах принимали решения о строительстве путей сообщения, соединявших горы с плоскостью, распределяли необходимое количество средств по дворам, заключали договор с подрядчиком. В случае необходимости общество поставляло рабочую силу и обеспечивало работников продовольствием [Документы… 1959: 135-153]. Первыми закончили строительство колесной дороги в горах Хуламское и Безенгиевское общества, пробив путь сквозь неприступные скалы. В 1884 г. и Балкарское общество последовало их примеру. В отчете начальника Терской области за 1884 г. говорилось, что Балкарское общество «обложило себя добровольным налогом от 80 до 100 руб. на каждый двор» [РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4477. Л. 583 об.]. А чиновник из областной администрации в путевых заметках с воодушевлением записал: «Попытка Балкарского горского общества проложить себе дорогу для сообщения с плоскостью – увенчалась полным успехом. Население это, не имея с плоскостью в прежнее время даже порядочной тропы для верховой езды, в настоящее время располагает для колесного сообщения весьма порядочной дорогой, разработанной населением за свой счет» [Кипиани 1884: 4]. Вслед за Балкарским обществом жители Чегемского ущелья также провели с гор на плоскость колесный путь на свои средства.
Формирование социально-бытовой инфраструктуры
Когда в 1868 г. проводилась реформа местного управления, начальнику Горского участка было дано распоряжение найти по одному писарю в каждое общество, «если нельзя из русских, то из грамотных туземцев, на жалование из общественной суммы» [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 14]. Но чаще эту должность при сельском правлении исправлял кто-либо из русских. Многие путешественники отмечали это обстоятельство в своих путевых заметках. Например, Вс. Миллер и М. Ковалевский сообщали, что в Чегемской общине они повстречали одного русского, который уже 8 лет живет там в качестве писаря. «Он уже года через два стал хорошо говорить по-татарски и, по-видимому, вполне освоился в ауле. Живет он при аульном правлении, получая в год 300 руб.» [Миллер, Ковалевский 1884: 583]. В 1890-е гг. о встрече в Чегеме с русским писарем и его женой также упомянул В.Я. Тепцов [Тепцов 1892: 134, 152].
Аульные правления начали строиться в каждом балкарском обществе в связи с циркулярным предписанием от 10 октября 1868 г. В нем, в частности, говорилось: «...построить аульные управления по прилагаемому чертежу, стараясь поставить их против середины аула, постройка управления должна быть произведена обществом, а содержание оных, ремонтирование и наем сторожей на аульные денежные средства» [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 9]. В 1869 г. начальник Горского участка отчитывался перед начальством, что в Балкарии, Хуламе и Безенги уже куплены места для постройки аульных управлений, а в первых двух обществах уже приступили к строительным работам [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 19 об.]. Все горские общества состояли из небольших поселков, и тот поселок, где располагалось правление, считался в общине главным. Е. Баранов, совершивший в начале 90-х гг. XIX в. поездку в Урусбиевское общество отметил, что «правление состояло из двух комнат: одна судейская, другая спальня писаря и канцелярия» [Баранов 1891: 4]. Дополняя это описание, другой современник писал: «Сельское управление помещается в частном доме одного из местных кулаков-богачей… Общественная квартира или «кунацкая» тоже нанимается» [Тепцов 1892: 134]. И хотя на путешественников горский аул производил в целом неблагоприятное впечатление из-за убогих саклей, узких грязных улиц и тесной скученной застройки, тем не менее, в их записках нашли отражение те новые знаковые явления, которые сигнализировали о постепенно меняющемся облике балкарских поселений, и были связаны как с реорганизацией системы местного управления, так и с социокультурными трансформациями внутри горского общества. Постепенно менялось то, что мы называем жизненной средой. Неслучайно один из бытописателей отмечал то огромное впечатление, которое произвело на жителей Урусбиевского общества строительство деревянного домика в европейском стиле. «…Каждый день приходят группы женщин и с удивлением и любопытством осматривают устройство голландских печей, филенчатых дверей с замками, обыкновенных шкафов со стеклами…» [М. И-ев. Урусбиевское общество… 1890: 4].
С 1860-х гг. в горских аулах постепенно налаживается медицинское и ветеринарное обслуживание. Анализ санитарного состояния аулов, здоровья населения и статистика болезней в Балкарии, попадает в медицинские отчеты [ЖС. 1992. № 2. С. 148-153]. В 1863 г. в Урусбиевский аул был командирован окружной медик «для исследования там, на месте о причинах обнаружившейся болезненности и смертности между малолетними детьми и принятия необходимых медико-полицейских мер к прекращению этой болезни» [ЦГА КБР. Ф. 30. Оп. 1. Д. 2. Л. 22 об.].
В записной книжке М. Ковалевского во время его путешествия по Кавказу в 1885 г. была сделана запись о Хасаутском ауле. «Полтора года, как существует школа, в ней два учителя, учат татарскому языку, учению Корана, учеников 35 человек, только мальчики. Русскому не учат. Я встретил всего двух мальчиков, знавших по-русски, учились в Пятигорской горской школе. Аул существует всего 21 год» [СПб.ФА РАН. Ф. 103. Оп. 1. Д. 319. Л. 18 об.].
С целью религиозного образования в некоторых больших селениях при мечети действовали мусульманские школы – медресе, где мальчиков, а иногда и девочек, обучали арабской грамоте. Это был один из основных каналов распространения исламского вероучения и исламской культуры в горском обществе. Ученики эфенди назывались софты (или сохты). Обычно они собирались из разных селений и жили за счет общества, для этого дети ходили по аулам и собирали себе продовольствие [Тульчинский 1903: 193]. В основном весь курс обучения состоял в заучивании наизусть арабского текста Корана, который не всегда понимался учениками. И когда, наконец, софты обнаруживали достаточные познания в богословских науках, то они получали звание эфенди. Один из путешественников конца XIX в. отметил, что в Урусбиевском ауле «при мечети обучалось около 15 софт». Учитель веры был из местных жителей, учился в Дагестане, а закончил свое образование в Стамбуле [Леонтьев 1897: 138]. В 1890 г. в балкарских селах было зарегистрировано 20 школ-медресе, в которых обучался 151 человек [Кумыков 1965: 347]. В конце XIX – начале XX в. в примечетских медресе произошли некоторые изменения. На смену простому заучиванию Корана и арабской графики, пришли более современные методики, больше внимания стали уделять изучению естественных наук, религиозной литературы, истории и риторики; повысился уровень образования служителей исламского вероучения. По данным участкового начальника за 1915 г. в балкарских селениях действовало 17 школ-медресе, в них работало 18 учителей и обучалось 164 человека. Эти школы содержались на частные средства [Биттирова 1999: 16].
Надо сказать, что все побывавшие в 1880-е гг. в горских обществах, обращали внимание на красивые, недавно построенные мечети, которые к концу века были практически в каждом населенном пункте [Кипиани 1884: 44]. Причем крупные аулы обзаводились несколькими квартальными мечетями, при наличии главной соборной. «Список населенных мест по сведениям 1874 года» фиксирует мечеть уже практически в каждом балкарском обществе [Списки… 1878]. Первое, на что обратили внимание путешествовавшие по Чегемскому ущелью в 80-х гг. XIX в. академики Вс. Миллер и М. Ковалевский, – это «новая, довольно обширная деревянная мечеть, русской постройки, окруженная крытой галереей» [Миллер, Ковалевский 1884: 558]. Как достопримечательность ее отметил и В.Я. Тепцов, добавив что «вблизи мечети тоже на средства общества, выстроены аульные ватер-клозеты. В них правоверные делают свои омовения из ручья» [Тепцов 1892: 165]. Наиболее интенсивно строительство мечетей в балкарских обществах велось в 1880-90-е гг. Список населенных мест Терской области за 1888 г. фиксирует в Балкарском обществе уже 13 мечетей, в поселке Кашхатау – 1, в Хуламе – 2, в Безенги – 3, в Чегеме-2 и в Урусбиевском обществе 1 мечеть [Казбек 1888: 74-75]. Еще более впечатляющие данные о количестве мусульманских культовых сооружений в балкарских населенных пунктах показывают сведения, собранные в 1896 г. ЦСК МВД. Так, в Балкарском обществе значится 14 мечетей и один молельный дом, в Хуламском – 6, в Чегемском – 13, в Урусбиевском обществе – 1, в Гунделене – 4, в Хасауте – 1 мечеть [РГИА. Ф. 1290. Оп. 11. Д. 2384. Л. 34-197]. В целом в Балкарии сложилась ситуация, благоприятная для сохранения, воспроизводства и трансмиссии мусульманской культуры. Этому способствовала и организация хаджа в святые земли.
Что касается светского образования, то сеть министерских школ была сформирована в Терской области только к 1914 г. В балкарских селах находилось всего три начальных учебных заведения. Наряду со школой в Кашкатау, действовавшей с начала XX в., в 1913 г. были открыты еще две – в Урусбиевском и в Хасаутском аулах. В 1915 г. во всех школах Балкарии обучалось только 110 человек [Саблиров 2001: 112].
Новые формы хозяйствования
С 1860-х гг. отмечается проникновение в горское хозяйство товарно-денежных отношений; в балкарских аулах появляются стационарные торговые лавки, постепенно вытесняя меновую торговлю. М. Кипиани, в 1881 г. осматривая селение Чегем, «нашел здесь лавку с красным товаром, где торгует русский человек из Нальчика» [Кипиани 1884: 45]. Естественно, что уровень развития социально-бытовой инфраструктуры в том или ином ауле напрямую был связан с численностью его жителей. Вместе с тем важную роль играло местоположение селения и время его возникновения. По сведениям за 1897 г. в Хасауте имелась 1 мелочная и 1 мануфактурная лавки, в Хуламе – 1 мелочная и 3 временных мануфактурных лавки, в Гунделене – 1 мелочная и 3 мануфактурных лавки, в Урусбиевском поселке – 3 мануфактурных лавки, в Чегеме – 2 мелочные и 7 мануфактурных лавок [РГИА. Ф. 1290. Оп. 11. Д. 2384. Л. 34 и об., 67 и об., 114 и об., 115 и об., 196-197].
В 70-х XIX в. Хамзат Урусбиев, изучив швейцарскую технологию производства сыра, открыл в Баксанском ущелье сыроварню, которая «в 1874 г. выработала от 150 коров до 400 пудов швейцарского сыра. Затрудняло дело отсутствие рынков. Урусбиев сдавал сыр на комиссию в Пятигорске в магазине Эрина, а во Владикавказе начал недавно продажу на базаре», – сообщала газета «Терские ведомости» [ТВ. 1875. 9 июля: 2-3]. Это предприятие было закрыто в связи с эпидемией чумы. В 1887 г. Александр Урусбиев возобновил производство сыра «в весьма скромных размерах». Но случаи такой предпринимательской активности были единичны. В начале XX в. в Чегемском обществе Балкароков организовал сыроваренный, а Барасбиев – маслодельный завод, куда население этого общества сбывала часть молока. Отхожим промыслом население не занималось, за исключением жителей Черекского ущелья, которые отправлялись на заработки в другие общества во время уборки сена, а также для устройства каменных изгородей вокруг загонов. Средства к жизни население получало, главным образом, от продажи скота в Закавказье и на рынке слободы Нальчик, кроме того, некоторый доход давала выделка простых сукон и полстей.
В условиях развернувшейся во второй половине XIX – начале XX в. «горнопромышленной лихорадки» в Балкарии началась интенсивная разведка месторождений полезных ископаемых. Еще в начале 1860-х гг. сообщалось об открытии подпоручиком Чекаловым месторождения серебросвинцовой руды, находящейся «в горах Большой Кабарды на казенной пустопорожней земле от укр. Нальчика приблизительно верстах в 60-ти» [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 2. Д. 29. Л. 2]. В 1870-х гг. геологическая разведка в горских ущельях велась действительным статским советником Абихом [ЦГА КБР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 190. Л. 8-9, 27]. Мещанин Житомирской губернии Зейпик Фрахтман и кабардинец Измаил Лиев хлопотали о разрешении добывать каменный уголь на землях, принадлежавшим частным собственникам Балкарукову, Кучукову и Барасбиевым [ЦГА КБР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 190. Л. 17-18, 40-и об., 57-60]. В конце века Гунделеновское общество предоставило право присяжному поверенному Ф.И. Тимченко-Ярещенко производить геологическую разведку на своих общественных землях и устраивать технические сооружения для добычи полезных ископаемых [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 2. Д. 29. Л. 29 и об.]. Этот предприниматель получил подобные приговоры также от Хуламского и Чегемского обществ [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 2. Д. 29. Л. 40; Ф. 6. Оп. 1. Д. 427. Л. 3]. Но местная администрация наложила запрет на сдачу в аренду земли и разработку руд в горских обществах. В 1900 г. возникло дело о предоставлении учредителю «Русско-кавказского горнозаводского общества» Вендровскому права «войти в соглашение с жителями обществ селений Балкарского и Безенгиевского» по использованию их земель «под разведку и разработку рудных месторождений» [Крикунова 1961: 69]. Но самое примечательное то, что отдельные представители балкарского народа активно включились в промышленную разработку полезных ископаемых и проявили выдающуюся предприимчивость. Так, источники свидетельствуют о предпринимательской деятельности братьев Муллаевых, занимавшихся «изысканием и разведкой полезных ископаемых в Нальчикском округе в пределах Балкарии» в конце XIX–начале XX в. Студент Харьковского технологического института Магомед Муллаев получил разрешение Хуламского общества на разработку киноварной руды [ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 2. Д. 29. Л. 39], а его брат Исхак Муллаев добился от безенгиевцев разрешения производить разведку горных богатств на землях общества, прокладывать для заводских надобностей дороги, ставить мосты, пользоваться силой рек, камнем и песком для построек [Крикунова 1961: 71].
Описанные случаи предпринимательской активности по переработке сельскохозяйственной продукции, в строительстве дорог и разработке полезных ископаемых носили единичный характер. Сохранялось безусловное доминирование традиционных видов деятельности. По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи, в сельском хозяйстве было занято – 90% а в обрабатывающей промышленности и городских промыслах только 1,2% балкарского населения [Первая всеобщая перепись… 1905: 140-141, 146-147].
Новые виды деятельности были освоены только отдельными представителями балкарской элиты, но они сформулировали и вынесли на повестку дня наиболее актуальные вопросы социальной, культурной и экономической жизни горского населения. Под руководством И.А. Урусбиева создан музыкальный кружок, дававший публичные концерты в слободе Нальчик [ЖС. 1991. № 1. С. 133]. В 1908 г. в Нальчикском округе «г. Урусбиевым открыта первая в слободе типография и при ней переплетная мастерская и писчебумажный магазин» [ТВ. 1908. 8 августа. № 172].
Итоги
Итак, в течение XIX в. российское правительство осуществляло административно-судебные преобразования на Северном Кавказе не по шаблону, а с учетом специфики местных условий. Дифференцированный подход применялся даже для отдельных местностей и этнических групп, и балкарские горские общества – тому прекрасный пример. Вводимые российскими властями административно-судебные институты повторяли социально-правовой ландшафт региона. С одной стороны, это имело некоторые негативные, последствия, так как консервировало архаические социальные структуры местных этносоциальных общностей и затрудняло одновекторное с Россией социально-политическое развитие.
С другой стороны, оценки, высказанные американской исследовательницей Джейн Бербанк в отношении волостных судов Центральной России [Бербанк 2000: 294], могут быть отнесены к горским и аульным судам, действовавшим в Терской области с 70-х гг. XIX в. до 1917 г. Созданная судебная система, основанная на принципе сегрегации и отвечавшая специфическим чертам горского общественного уклада, была в то же время учреждена имперской властью, что приблизило горцев к пониманию статутного государственного права и способствовал развитию чувства гражданственности. Для северокавказских народов это была конструктивная правовая практика, доступное судопроизводство, осуществляемое местными судьями, и, тем не менее, узаконенное государством. Посредством этих институтов горцы могли осуществлять связь с государством, участвовать в официальных процедурах выборов, рассматривать юридические учреждения как средства защиты своих прав.
Само оформление низовой судебно-административной единицы проходило по инициативе государства, которое своими законами определяло основные параметры территориальных общностей, однако этот процесс шел в активном диалоге с местным социумом, внося существенную корректировку в судебно-административное устройство региона. Поэтому его итоги можно расценивать как результат, созданный двусторонними усилиями общества и государства.
С 1860-х гг. можно констатировать складывание в балкарских обществах качественно новой социально-бытовой инфраструктуры, включавшей такие несвойственные для горских поселений начала XIX в. элементы, как колесные дороги, медицинское обеспечение, образовательные учреждения, культовые мусульманские сооружения, административные и общественные здания, торговые и промысловые заведения. Развитие инфраструктуры усиливало эффективность механизмов воздействия государства на традиционные институты самоорганизации. Основными каналами влияния на локальное сообщество становились местное чиновничество, инкорпорированные органы самоуправления и хозяйственная практика.
Изолированность горских обществ была нарушена участившимися экскурсиями с познавательными и научными целями. Определенная предпринимательская активность в удаленных ущельях внесла свежую струю в замкнутый традиционный образ жизни. Тем не менее, масштабы включения горского населения в систему всероссийского рынка оставались весьма ограниченными. Балкарцы втягивались в рыночные отношения почти исключительно через реализацию продуктов традиционных промыслов и животноводства.
Источником исторической динамики балкарского общества, тех трансформаций, которые оно претерпело на протяжении XIX – начала XX в., стала политика Российского государства на Кавказе и его воздействие на внутреннюю жизнь местных обществ. Постепенно горская община приобретала все более «открытый», «разомкнутый» характер. Одновременно с этим, благодаря переселенческой политике администрации существенно расширялся ареал расселения горцев. Возник пояс балкарских поселений в предгорьях как бы соединяющий выходы из ущелий и придающий им территориальную целостность. Общество выходило за пределы локальных общин, приобретая собственный социетальный масштаб, соответствующий новым этническим границам. Сами понятия «Балкария» и «балкарцы», ранее относившиеся только к одному их горских обществ получают в начале XX в. свое современное наполнение. Более точный поиск той грани, за которой социальная история должна превратиться в историю общества представляется важной задачей изучения истории Балкарии ХХ века.
Sobre autores
E. MURATOVA
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Autor responsável pela correspondência
Email: lena_gm@mail.ru
Bibliografia
- Абаев 1911 – Абаев М.К. Балкария: Исторический очерк // Мусульманин (Париж). – 1911. – № 14-17. – С. 586-627.
- Агишев, Бушен 1912 – Агишев Н.М., Бушен В.Д. Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края. – СПб.: Сенатская типогр., 1912. – 288 с.
- АКАК 1904 – Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: в 12 т. Т. XII. – Тифлис: Тип. Главного Управления Наместника Кавказского, 1904. – 1558 с.
- Баранов 1891 – Баранов Е. Поездки в Урусбиевское общество горских татар // Терские ведомости. – 1891. – № 56. – С. 4.
- Бербанк 2000 – Бербанк Дж. Правовая культура, гражданство и крестьянская юриспруденция: перспективы начала XX в. // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. – Самара: Самар. ун-т, 2000. – С. 269-298.
- Биттирова 1999 – Биттирова Т.Ш. Религиозная культура и литература карачаево-балкарцев. – Карачаевск: изд-во КЧГПУ, 1999. – 66 с.
- Биттирова, Сабанчиев 2017 – Биттирова Т.Ш., Сабанчиев Х.-М.А. Мисост Кучукович Абаев // Мисост Абаев: историк, публицист, общественный деятель. – Нальчик: Печатный двор, 2017. – С. 5-34.
- Геграев 2007 – Геграев Х.К. Особенности процессов естественного воспроизводства населения Балкарии в конце XIX – начале XX века // Перспектива-2007: Материалы Международного конгресса студентов, аспирантов и молодых ученых. – Нальчик: КБГУ, 2007. – Т.1. – С. 20-27.
- Горец 1900 – Горец. Горцы Нальчикского округа // Каспий (Баку) – 1900. – № 46.
- Грабовский 1870 – Грабовский Н.Ф. Экономическое положение бывших зависимых сословий Кабардинского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып.3. – Тифлис, 1870. – Отд. IV. – С. 1-28.
- Далгат 1991 – Далгат Б.К. Слобода Нальчик (Отрывок из дневника туриста) // Живая старина. – 1991. – № 1. – С.146-150.
- Документы… 1959 – Документы по истории Балкарии. 40-90-е гг. ХIХ в. / Сост. Е.О. Крикунова. – Нальчик: Каб-Балк. кн. изд-во, 1959. – 262 с.
- ЖC – Живая старина (журнал).
- Забудский 1851 – Забудский Н. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Ставропольская губерния. – СПб.: Тип-я Департамента Генштаба, 1851. – 274 с.
- Казбек 1888 – Казбек Г.Н. Военно-статистическое описание Терской области: в 2-х ч. – Тифлис: Изд-во Кавказ. воен. округа, 1888. – Ч. 1. – 412 с.
- Калмыков 1975 – Калмыков Ж.А. Из истории судебных учреждений в дореволюционной Кабардино-Балкарии (1890-1917 гг.) // Известия северокавказского научного центра высшей школы. Общественные науки. – 1975. – № 1. – С.87-92.
- Кипиани 1884 – Кипиани М.З. От Казбека до Эльбруса: Путевые заметки о нагорной полосе Терской области. – Владикавказ: Типография Тер. обл. правл., 1884. – 47 с.
- Крикунова 1961 – Крикунова Е.О. К истории промышленной разработки минеральных богатств в Кабардино-Балкарии // Краеведческие записки. – Вып. 1. –Нальчик: Каб-Балк. кн.изд-во, 1961. – С.64-74.
- Кумыков 1965 – Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. – Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-во, 1965. – 420 с.
- Леонтьев 1897 – Леонтьев И. Поездка к Баксанскому леднику // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1897. – Вып. 22. – Отд. 2. – С. 119-162.
- М. И-ев. Урусбиевское общество… 1890 – М. И-ев. Урусбиевское общество. Нальчикский округ // Терские ведомости. – 1890. – 24 июня. – № 51. – С.4.
- М. Татарское племя… 1859 – М. Татарское племя на Кавказе // Кавказ. – 1859. – № 91.
- Малахова 2001 – Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на Северном Кавказе в конце ХVIII-ХIХ вв. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2001. – 400 с.
- Миллер, Ковалевский 1884 – Миллер Вс., Ковалевский М.М. В горских обществах Кабарды // Вестник Европы. – 1884. – Т.2. – Кн. 4. – С. 540-588.
- П.П.-в. Листки из портфеля… 1868 – П.П.-в. Листки из портфеля служащего // Терские ведомости. – 1868. – № 14.
- Первая всеобщая перепись…1905 - Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Терская область / Под ред. Н.А. Троицкого. – Т. 68. – СПб., 1905. – 236 с.
- Положение об управлении… 1865 – Положение об управлении Терской областью. 29 мая 1862 года // Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2. – Т. XXXVII. – № 38326. – Отд.1. – СПб.: тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в. Канцелярии, 1865. – С. 497-502.
- Потто 1994 – Потто В.А. Кавказская война: в 5 т. Т. 2: Ермоловское время. – Ставрополь: Кавказский край, 1994. – 688 с.
- Пространство власти… 2001 – Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности / Науч. ред. Ананьич Б.В., Барзилов С.И. – М.: Москов. обществ. науч. фонд, 2001. – 511 с.
- РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
- РГИА – Российский государственный исторический архив.
- Россия и народы… 2018 – Россия и народы Северного Кавказа в XVI – середине XIX века: социокультурная дистанция и движение к государственно-политическому единству. – Нальчик: ИГИ КБНЦ РАН, 2018. – 268 с.
- Саблиров 2001 – Саблиров М.З. Культура народов Кабарды и Балкарии в конце XIX-начале XX вв. – Нальчик: Адыгэ хэку, 2001. – 232 с.
- Сборник сведений… 1878 – Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. Т. 4 / Под ред. Н. Зейдлица. – Тифлис: Типография Главного Управления Наместника Кавказского, 1878. – С. III-IV.
- СПб. ФА РАН – Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук.
- Списки… 1878 – Списки населенных мест Кавказского края. – Вып. 1. Терская область: список населенных мест по сведениям 1874 года / Сост. Н Зейдлицем. – Тифлис: Типография Главного Управления Наместника Кавказского, 1878. – 83 с.
- ТВ – Терские ведомости (газета).
- Тепцов 1892 – Тепцов В.Я. По истокам Кубани и Терека // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1892. – Вып.14. – С. 59-212.
- Труды… 1908 – Труды комиссии по исследованию современного положения землевладения и землепользования в Нагорной полосе Терской области. – Владикавказ: Электропечатня Н.К. Григорьева, 1908. – 372 с.
- Тульчинский 1903 – Тульчинский Н.П. Пять горских обществ Кабарды // Терский сборник. – Владикавказ, 1903. – Вып. 5. – С. 152-216.
- Хлынина и др. 2012 – Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и формирования границ региона. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – 272 с.
- ЦГА КБР – Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики.
- ЦГА РСО-А – Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания.
- Эсадзе 1907 – Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом: в 2-х т. Т.2. – Тифлис: тип. «Гуттенберг», 1907. – 246 с.
Arquivos suplementares