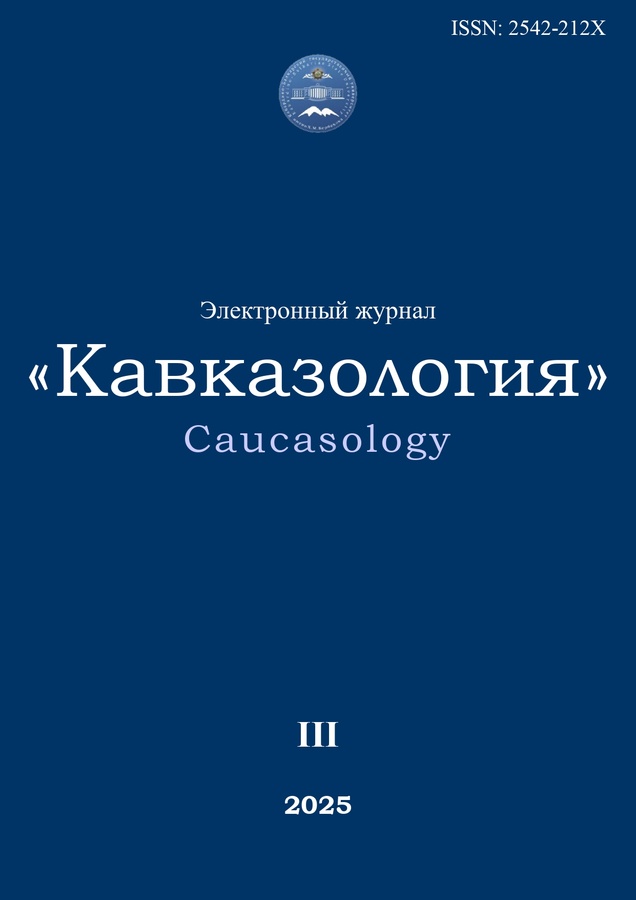К вопросу об исполнении долговых обязательств в системе регулирования общественных отношений у балкарцев в последней трети XIX – начале ХХ века
- Авторы: Байчекуева А.Ж.1
-
Учреждения:
- Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 177-187
- Раздел: Этнология, антропология и этнография
- Статья получена: 29.04.2025
- Статья опубликована: 15.12.2024
- URL: https://medbiosci.ru/2542-212X/article/view/289933
- DOI: https://doi.org/10.31143/2542-212X-2024-2-177-187
- EDN: https://elibrary.ru/DVPRWG
- ID: 289933
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье определяется роль долговых обязательств в системе регулирования общественных отношений у балкарского населения Нальчикского округа Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в. Для этого рассмотрена практика решения споров и конфликтов по ним в Нальчикском горском словесном суде, сельских (аульных) и медиаторских судах. Установлено, что в это время долговые обязательства у этой группы населения возникали в рамках широкого круга имущественных отношений (вытекавших из договоров бегенды или ортака; нарушения условий займов из Кабардинской общественной суммы; неисполнения условий договоров купли-продажи земельных участков, сельско-хозяйственной продукции, скота; нарушения условий заключения брачных соглашений (уплаты калыма) и т.п.). Сделан вывод, что основной формой ответственности по этой категории споров были материальные или денежные компенсации в объеме, эквивалентном понесенному ущербу, в чем устанавливается ее типологические сходство с другими группами общественных отношений, регулировавшимися в том время на основании норм обычного права.
Полный текст
Введение
Регулирование долговых отношений, возникавших между кредиторами и заемщиками или в результате нарушения имущественных прав собственников, в мировом сообществе имеет многовековую историю. В традиционных обществах на ранних этапах исторического процесса в качестве основных регуляторов отношений в сфере долговых обязательств были в основном нормы обычного и религиозного права. Зачастую они сохраняли свой регулятивный потенциал и после включения той или иной общности (в том числе и этнической) в состав государства со сложившимися правовыми институтами в этой сфере. В этом плане исследование исторических форм регулирования долговых обязательств у балкарского населения Нальчикского округа Терской области в последней трети XIX – начале ХХ в. представляет большой научный интерес, т.к. дает возможность выявить и охарактеризовать особенности функционирования их институтов обычного имущественного права в условиях включения в политико-правовое пространство Российской империи.
Вопросы функционирования традиционных институтов соционормативной культуры балкарского населения Нальчикского округа, основных на разных формах долговых обязательств, так или иначе затрагивались в трудах М.К. Абаева [Абаев 1911], Н.М. Рейнке [Материалы… 1912], Н.П. Тульчинского [Тульчинский 1903], Т.А. Жекомихова [Жакомихов 1965], Е.Н. Студенецкой [Студенецкая 1958], Г.К. Азаматова [Азаматов 1967], Е.Г. Муратовой [Битова 1997; Муратова 2007], Е.С. Нухрикян [Нухрикян 2015; Нухрикян 2016], П.А. Кузьминова [Кузьминов, Абаева 2020], А.Х. Абазова [Абазов 2014; Абазов 2015; Абазов 2016; Абазов 2017; Абазов 2022], З.Ж. Глашевой [Глашева 2014] и др. Вместе с тем опубликованные [Документы по истории Балкарии… 1959; Документы по истории Балкарии… 1962] и неопубликованные [УЦГА АС КБР. Ф. И-22] источники содержат достаточно большой массив информации о роли долговых обязательств в системе регулирования общественных отношений с опорой на традиционные институты соционормативной культуры балкарского населения Нальчикского округа в последней трети XIX – начале ХХ в.
Обсуждение
В последней трети XIX – начале ХХ в. долговые обязательства у представителей балкарского населения Нальчикского округа возникали в рамках широкого круга имущественных отношений, в том числе на основе соглашений о передаче имущества в пользование на условиях бегенды или ортака, несовершенного погашения или непогашения займов из Кабардинской общественной суммы и частных займов, неисполнения условий совершенных и заверенных в установленном порядке гражданских сделок (в том числе, по купле-продаже земельных участков, сельско-хозяйственной продукции, скота), невыполнение или частичное выполнение условий заключения брачных соглашений (уплаты калыма) и т.п.
Регулирование споров, возникавших по вопросам пользования чужим имуществом или скотом и вытекавших из отношений бегенды или ортака, в системе регулирования долговых отношений по нормам обычного права балкарцев было весьма распространено в деятельности Нальчикского горского словесного суда (1871-1918 гг.). В данном случае ортак понимается как передача собственником имущества или скота в пользование другим лицам под часть ренты или приплода, а бегенда – как передача в пользование земельного участка в качестве обеспечительной меры по долговым обязательствам. Анализ правоприменительной практики временного отделения Нальчикского горского словесного суда показывает, что отношения «бегенды» и «ортака» могли как заключаться в счет исполнения долговых обязательств, так и стать основанием для их возникновения. Например, в 1910 г. временное отделение словесного суда рассматривало дело по иску балкарца из урусбиевского общества Т-ва о взыскании с ответчика 125 руб. за земельный участок, ранее отданный в пользование на «бегендном праве» [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 64 об.]. Следствие установило, что за несколько лет до этого отец ответчика Т-ва должен был уплатить истцу по исполнительному листу этого суда долг в размере 125 руб., но из-за неимения средств передал ему на правах «ортака» земельный участок [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 64 об.]. Т.е. предметом спора стал факт передачи земельного участка «в ортак» в счет обеспечения исполнения ранее возникших долговых обязательств. Зачастую предметом спора становились требования владельцев о возвращении переданных в «бегендное пользование» земельных участков при условии погашения ранее взятых долгов [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 182 об.]. Причем в таких случаях отказы держателей бегенды не являлись основанием для продолжения долговых обязательств. Суд, как правило, принимал решения о прекращении договора бегенды при условии погашения займов должниками [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 183]. Круг этих примеров можно продолжить, при этом исследование вопросов регулирования долговых обязательств, вытекавших из отношений бегенды и ортака, у представителей балкарского населения Нальчикского округа может предметом специального монографического исследования.
Анализ документов показывает, что в последней трети XIX – начале ХХ в. у представителей балкарского населения Нальчикского округа споры о нарушении долговых обязательств (в особенности по денежным и имущественным займам) были не самым распространённым основанием для подачи жалоб (и исковых заявлений) в Нальчикский горский словесный суд. В описи дел НГСС по горскому отделению за 1884 г. было зафиксировано 25 дел по долговым обязательствам [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 1090. Л. 1–8 об.], что составляло менее 5 % от общего числа рассматриваемых судом дел. Следует отметить, что такая доля споров по нарушенным долговым обязательствам по отношению к общему количеству рассматриваемых дел в этом суде сохранялась практически на протяжении всего периода его деятельности. Установить аналогические показатели в отношении сельских и медиаторских судов не представляется возможным из-за отсутствия в достаточном количестве репрезентативных данных.
Тем не менее, практика решения споров по долговым обязательствам в Нальчикском горском словесном суде не прекращалась со времени его образования в 1871 г. и до момента ликвидации в период гражданской войны. Так, например, в 1914 г. в этом суде разбиралось дело по иску балкарца из безенгиевского общества Д-ва к представителю хуламского об-ва Ш-ву о взыскании долга в размере 100 руб. в результате неисполнения обязательства передать денежные средства при заключении договора купли-продажи сельско-хозяйственной продукции [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 11 об.]. Истец заявил, что продал ответчику сено общей стоимостью 160 руб. На момент заключения сделки ответчик передал истцу 60 руб., остальную сумму не вернул в оговоренный срок, что и стало основанием для его обращения в суд. Суд постановил удовлетворить иск и выдал исполнительный лист [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 13 об.]. Схожее дело рассматривалось в 1914 г. по иску балкарца из чегемского общества А-ва к представителю урусбиевского общества А-ву о взыскании с него долга в размере 84 руб. за проданных быков [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 33 об.]. Суд также постановил удовлетворить иск в полном объеме [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 34]. В 1914 г. Нальчикский ГСС обязал взыскать с представителя чегемского общества Ч-ва в пользу односельчанина Б-ва 100 руб. за лошадь, которую ответчик взял в пользование и не вернул [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 24]. В том же 1914 г. Нальчикский суд рассматривал дело о взыскании 1000 руб. калыма по иску представительницы балкарского общества А-вой со своего супруга А. [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 230 об.]. В ходе разбирательства ответчик согласился с претензией, однако ходатайствовал перед судом о разделении суммы долга на 2 части: 200 руб. – деньгами, и 800 руб. – скотом. Суд принял решение обязать ответчика выплатить в пользу супруги 1000 руб. калыма дифференцированными платежами: 200 руб. – деньгами, и 800 руб. – скотом [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 231]. Круг этих примеров можно продолжить, но в большинстве из них выявляется типологическое сходство: стремление потерпевшей стороны восстановить понесенный в результате нарушения долговых обязательств имущественный ущерб с опорой на традиционные формы решения споров и конфликтов (денежная или материальная компенсация фактически понесенных убытков, опора на институты народного правосудия и т.п.).
Нередко своевременно непогашенные долговые обязательства становились предметом споров и после смерти должников. В практике временного отделения Нальчикского горского словесного суда встречались случаи, когда иски о взыскании долгов предъявлялись в отношении наследников должников. В таких случаях сумма иска могла складываться из суммы долга и накопленных по ним процентов [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Д. 2890. Л. 3]. Таким образом, долги и неотвратимость ответственности по долговым обязательствам могли передаваться по наследству.
По вопросам неисполнения долговых обязательств представителями балкарского населения Нальчикского округа в практике Горского словесного суда встречались и дела по их долгам в Кабардинскую общественную сумму [cм., например: УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3556; [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3143. Л. 2–3 об. и т.п]. Инициатором таких разбирательств (истцом) выступал казначей общественной суммы [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3659. Л. 1]. Примечательно, что рассмотрение дел о взыскании долгов по непогашенным займам в Кабардинскую общественную сумму в качестве суда первой инстанции было исключительной прерогативой Нальчикского горского словесного суда. В этих случаях казначей Общественной суммы направлял в Словесный суд соответствующий рапорт с приложением ведомостей о должниках с указанием их личностей и мест жительства, сведений о сумме долга, времени неисполнения обязательства, данных о поручителях и т.п. В большинстве случаев казначей подавал таковые рапорты напрямую в суд, а оттуда материал в отношении представителей балкарского населения округа передавался по подведомственности во временно отделение суда для решения по существу и исполнения принятого решения.
Анализ судебной практики временного отделения горского словесного суда в слободе Нальчик показывает, что в большинстве случаев общая сумма, подлежащая взысканию с должника, включала как размер долга (непогашенного займа или его части), проценты за пользование заемными средствами и штраф за неисполнение обязательства. Иногда такие расчеты предлагались казначеем Кабардинской общественной суммы в подаваемых в словесный суд рапортах (исках о взыскании долгов). Причем, как правило, сумма долга и штрафа указывалась в абсолютных (точных) величинах, а процентов – в относительных, т.е. подлежала установлению на момент вынесения судом решения о взыскании [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3923. Л. 2]. Причем решения по этим вопросам выносились судом как в присутствии должников, так и при их отсутствии (в заочном порядке) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3556. Л. 4]. Зачастую на решения словесного суда по этой категории дел, вынесенные в заочном порядке, подавались апелляционные жалобы в Терское областное правление [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3556. Л. 4].
В некоторых случаях словесный суд выносил решения о взыскании долгов в КОС исключительно в отношении поручителей должников (в виду установленной в ходе судебного разбирательства финансовой несостоятельности заемщика) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3552. Л. 6]. Иногда казначей сразу подавал заявление в горский словесный суд о взыскании суммы долга с поручителей должника с просьбой о компенсации полной суммы долга по принципу круговой поруки [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3659. Л. 4 – 4 об.]. В этих случаях взыскание обращалось на них в равных долях, т.е. поручители в качестве меры ответственности за неисполнение должником своих обязательств уплачивали долг (с учетом всех его слагаемых – непогашенной суммы займа, процентов за пользование займом и, в некоторых случаях, штрафа за неисполнение обязательств) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3552. Л. 6].
Документы горского словесного суда показывают, что во многих случаях основанием для возбуждения споров о погашении долгов является неисполнение условий совершаемых гражданских сделок (в том числе, купле-продаже вещей, скота, земельных участков, займах в частном порядке и т.п.). Разбирательство споров в суде облегчалось, если истцы подкрепляли свои исковые заявления подтверждающими документами или свидетельскими показаниями [cм., например: УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 148].
В это время немалая нагрузка по решению споров между представителями балкарского населения Нальчикского округа по вопросам о взыскании долгов ложилась на сельские (аульные) суды. Об этом можно судить на основе анализа апелляционных жалоб, подаваемых на их решения во временное отделение горского словесного суда. Так, например, в 1910 г. временное отделение рассматривало следующие апелляционные жалобы на решения сельских судов: 1) на решение сельского суда балкарского общества от 1909 г. о взыскании долга в размере 17 руб. с А-ва в пользу М-ва (горский словесный суд оставил решение сельского суда в силе) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 164 об. – 165]; 2) на заочное решение сельского суда урусбиевского общества о взыскании с А-ва 50 руб. деньгами или скотом (решение было отменено и направлено на новое рассмотрение в тот же суд1) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 164 об. – 165]; 3) на решение сельского суда хуламского общества от 1909 г. о взыскании долга в размере 28 руб. с А-ва в пользу А-ва (ГСС оставил решение сельского суда в силе) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 165 об. – 166]; 4) на решение сельского суда урусбиевского общества от 1909 г. о взыскании долга в размере 50 руб. за сено (или же отдать сено) с Х-ва в пользу Х-ва (ГСС отменил решение сельского суда и поручил ему разобрать это дело вновь более обстоятельно через допрос указанных сторонами свидетелей) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 165 об. – 166]. При этом, типология споров и формы их решения в горском словесном и сельских судах были схожими, различалась лишь цена иска, т.к. являлась основным критерием разграничения их подсудности.
С этого времени в большинстве случаев прошения (исковые заявления) потерпевших подкреплялись письменными расписками от должников. Расписки, как правило, заверялись старшинами соответственных населенных пунктов или составлялись в присутствии свидетелей (о чем на них делалась соответствующая отметка или ставилась подпись / печать свидетелей) [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 3401. Л. 2]. Например, в 1910 г. временное отделение Нальчикского словесного суда разбирало дело по иску К-ва к А-вым о взыскании с них долга в размере 235 руб. на основании удостоверенной этим же судом расписки в рамках договора продажи земельного участка [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 147 об.]. Суд на основании подтверждающих документов постановил взыскать указанную сумму [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 148]. Другой пример: в 1914 г. в том же суде рассматривалось дело по иску представителя чегемского общества К-ва к балкарцу Ч-ву о взыскании с него долга в размере 324 руб. 75 коп. по расписке [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 5 об.]. Суд прекратил дело из-за неявки сторон на судебное разбирательство [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 6]. Иногда письменным подтверждаем нарушенных долговых обязательств были составленные в установленном порядке векселя. Например, в 1914 г. в деле о взыскании долга по векселю в размере 300 руб. с представителя балкарского общества Б-ва по иску А-ва суд постановил суд в качестве обеспечительной меры постановил наложить арест на имущество ответчика.
Свой регулятивный потенциал в качестве одной из форм доказывания при рассмотрении дел о неисполнении долговых обязательств по-прежнему оставались свидетельские показания. Например, в 1914 г. словесный суд в Нальчике на основании свидетельских показаний обязал взыскать в представителя чегемского общества Ш-ва в пользу односельчанина Б-ва 150 руб. за убитого им быка [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 29]. Хотя приблизительно с середины 90-х гг. XIX в. важной формой доказывания постепенно становились письменные документы, подтверждавшие факт принятия долговых обязательств и составлявшиеся в установленном порядке должностными лицами (например, казначеем Кабардинской общественной суммы), в некоторых случаях в присутствии работников сельских (аульных) администраций, представителей мусульманского духовенства и очевидцев.
Споры по долговым обязательствам подлежали урегулированию как на основании судебных решений, так и на досудебных стадиях, например, в форме мировых соглашений. Мировые соглашения также оформлялись в суде письменном виде, сведения о них заносились в настольный журнал [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 26]. «Мировые сделки» как письменные соглашения также представляют собой весьма информативную группу источников по исследованию долговых обязательств по нормам обычного права балкарского населения в конце XIX – начале ХХ в. В 1914 г. в Нальчикском ГСС разбиралось дело по иску жителя с. Атажукино I Д-ва к жителю с. Гунделен Б-ву о взыскании долга в размере 100 руб. и было завершено «мировой сделкой» в связи с уплатой долга до судебного начала разбирательства [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 6024. Т. 1. Л. 11].
Заключение
Таким образом, в последней трети XIX – начале ХХ в. долговые обязательства возникали на основе применения в качестве социальных регуляторов институтов традиционной соционормативной культуры в области имущественных, поземельных, семейно-брачных отношений, а также (в некоторых случаях) в результате совершения противоправных действий. Споры по долговым обязательствам подлежали урегулированию в Нальчикском горском словесном суде, сельских (аульных) судах, иногда передавались на рассмотрение посреднических (медиаторских) судов. Основной формой ответственности по этой категории споров были материальные или денежные компенсации в объеме, эквивалентном понесенному ущербу, в чем устанавливается ее типологические сходство с остальными группами общественных отношений, регулировавшихся на основании норм обычного права балкарцев. Ответчиками по делам о неисполнении долговых обязательств становились как должники непосредственно, так и их наследники. Новаторством в системе регулирования долговых обязательств у балкарцев региона было решение споров были споры о возмещении должниками займов, взятых из Кабардинской общественной суммы. Общим по этой категории споров было то, что инициатором разбирательств (истцом) был казначей суммы; решения выносились судом как в присутствии должника, так и в заочном порядке; итоговый размер компенсации превышал фактический долг и состоял еще из процентов за пользование им и штрафа; в случае финансовой и имущественной несостоятельности должника ответственность возлагалась на его поручителей. При этом в качестве основной формы доказывания применялись составленные и заверенные в установленном порядке письменные документы (векселя, договора купли-продажи, займа, расписки и т.п.), а при их отсутствии – показания свидетелей.
1 А.Б.: Это решение было отменено на основании, что сельские суды не имели права принимать решения по рассматриваемым делам в заочном порядке. В качестве меры ответственности за неправильно принятое решение горский словесный суд постановил «поставить на вид» сельский суд [УЦГА АС КБР. Ф. И-22. Оп. 1. Ед. хр. 5991. Т. 1. Л. 166].
Об авторах
Азинат Жамаловна Байчекуева
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Автор, ответственный за переписку.
Email: baychekueva88@mail.ru
старший преподаватель
Россия, НальчикСписок литературы
- Абаев 1911 – Абаев М.К. Балкария: исторический очерк // Мусульманин. – 1911. – № 14–17. – С. 586–627.
- Абазов 2014 – Абазов А.Х. Нальчикский округ в судебной системе Терской области (последняя треть XIX – начало ХХ в.). – Нальчик, Издательский отдел КБИГИ, 2014. – 104 с.
- Абазов 2015 – Абазов А.Х. Горские словесные суды Терской и Кубанской областей в 1871-1918 гг. // История государства и права. – 2015. – № 23. – С. 58-63.
- Абазов 2016 – Абазов А.Х. Народы Центрального Кавказа в судебной системе Российской империи в конце XVIII – начале ХХ в. – Нальчик: ООО «Печатный двор», 2016. – 264 с.
- Абазов 2017 – Абазов А.Х. Народы Центрального Кавказа в политико-правовом пространстве Российской империи: судебные преобразования конца XVIII – начала ХХ в.: дисс. д-ра ист. н-к. – Нальчик, 2017. – 505 с.
- Абазов 2022 – Абазов А.Х. Документирование деятельности Нальчикского горского словесного суда: делопроизводство и обеспечение внешней коммуникации // Электронный журнал "Кавказология". – 2022. – № 4. – С. 239-255
- Азаматов 1967 – Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в первой половине XIX в. Автореф. дис. канд. ист. н-к. – Нальчик: б. и., 1967. – 22 с.
- Битова 1997 – Битова Е.Г. Социальная история Балкарии XIX века: Сельская община. – Нальчик: Эльбрус, 1997. – 173 с.
- Глашева 2014 – Глашева З.Ж. Развитие товарно-денежных отношений в балкарских обществах в пореформенный период // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2014. – № 4 (60). – С. 141-147.
- Документы по истории Балкарии 1959 – Документы по истории Балкарии 40-90 гг. XIX в. / Сост. Е.О. Крикунова. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1959. – 239 с.
- Документы по истории Балкарии 1962 – Документы по истории Балкарии (конец XIX в. – начало ХХ в.) / Сост. Е.О. Крикунова. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1962. – 308 с.
- Жакомихов 1965 – Жакомихов Т.А. История народного хозяйства Кабардино-Балкарии. Часть 1. – Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1965. – 208 с.
- Кузьминов, Абаева 2020 – Кузьминов П.А., Абаева М.Ш. Становление товарно-денежных отношений в Балкарии во второй половине XIX – начале XX вв. // Российское предпринимательство: история развития, опыт и место в политико-экономическом дискурсе (на примере развития предпринимательства в России и Северокавказском регионе): материалы Всероссийской научной конференции, Карачаевск, 06–07 июля 2020 года. – Карачаевск: б/и., 2020. – С. 133-145.
- Материалы… 1912 – Материалы по обозрению горских и народных судов Кавказского края / Собрано под наблюдением сенатора и.о. обер-прокурора общ. собр. кассац. деп. Правительствующего сената Н.М. Рейнке, чл. Моск. судеб. палаты Н.М. Агишевым и тов. прокурора Тамб. окр. суда В.Д. Бушеном. Санкт-Петербург: Сенаторская типография, 1912. 288 с.
- Муратова 2007 – Муратова Е.Г. Поземельные отношения у балкарцев во второй половине XIX – начале XX в. // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 147-156.
- Нухрикян 2015 – Нухрикян Е.С. Эволюция правового регулирования землепользования в горских обществах Карачая и Балкарии (1860-е гг. – начало ХХ в.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 6-2 (56). – С. 128-134.
- Нухрикян 2016 – Нухрикян Е.С. Социально-экономическое развитие и хозяйственные отношения в Карачае и Балкарии в XIX – начале XX в.: автореф. дисс. канд. ист. н-к. – Владикавказ, 2016. – 22 с.
- Студенецкая 1958 – Студенецкая Е.Н. Ортак – одна из форм эксплуатации в Карачае и Балкарии (конец XIX – начало XX в.) // СТКЧГПИ. – 1958. – Вып. 1. – С. 215-232.
- Тульчинский 1903 – Тульчинский Н.П. Пять горских обществ Кабарды. – Владикавказ: Типография Терского областного правления, 1903. – 154 с.
- УЦГА АС КБР – Управление Центра Государственного Архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики. Ф. И-22 «Нальчикский горский словесный суд».
Дополнительные файлы