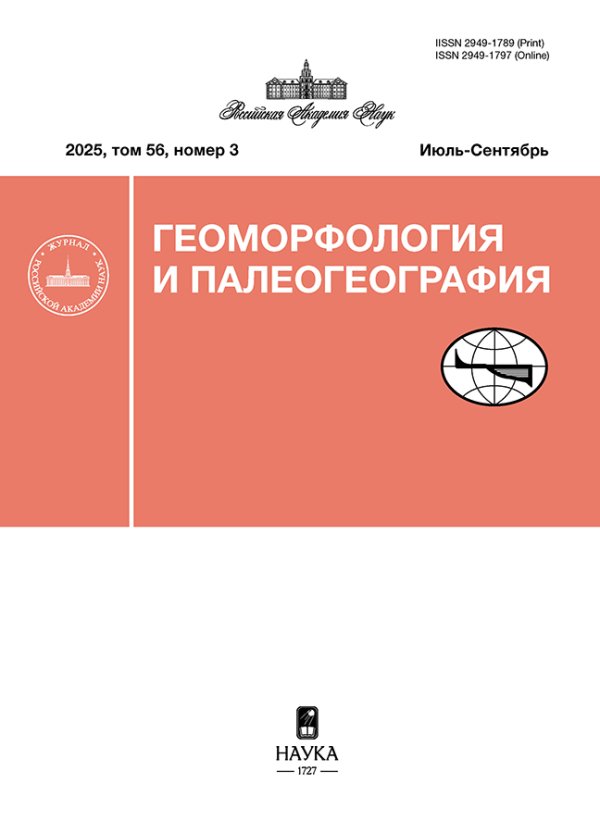Long-term dynamics of velocities of horizontal channel erosions on the rivers of Udmurtia
- Authors: Rysin I.I.1, Grigorev I.I.1, Petukhova L.N.1, Perevoshchikov A.A.1
-
Affiliations:
- Udmurt State University
- Issue: Vol 55, No 1 (2024)
- Pages: 26-39
- Section: EXOGENOUS PROCESSES OF RELIEF FORMATION
- URL: https://medbiosci.ru/2949-1789/article/view/257488
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178924010033
- EDN: https://elibrary.ru/IRWCHB
- ID: 257488
Cite item
Full Text
Abstract
The results of a study of channel displacement for 2000–2022 in 55 key areas located on rivers of different orders, draining across different landscapes of Udmurtia, are presented. The erosion rates were determined using benchmarks and tacheometric survey. To analyze the obtained results, the rivers were divided into 4 groups based on their order magnitude (according to the method of A. Scheidegger). Maximum erosion rate (up to 15 m/year) is typical for rivers of an order higher than 14, 6–8 m/year for medium rivers with an order of 9–14, 5.5 m/year for small rivers with an order of 6–9, and up to 4.2 m/year for very small rivers (of order 6 or less) under natural conditions and up to 8.1 m/year with man-made intervention. The mean annual and maximum amount of erosion were calculated for each reference areas for the period of observation. Correlation analysis showed a high significant relationship between the erosion rate and river order and, accordingly, the average annual and maximum discharges. The connection between the values of erosion and the annual amount of precipitation was found only for 3 small rivers within the Kilmez River basin. Trend analysis of erosion over a 23-year time interval was performed for the selected groups of rivers.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Для рационального использования и охраны водных ресурсов необходимы исследования характеристик русел и русловых деформаций, поскольку они тесно взаимосвязаны и являются составной частью эрозионно-русловых систем, где на протяжении геологического времени происходит размыв и переотложение материала. Размывы берегов рек — наиболее эффектное проявление русловых деформаций. Они сопровождаются образованием прирусловых отмелей (побочней) у противоположных берегов, обуславливают изменение параметров русловых форм, их продольное и поперечное смещение. Экологически значимые связи в эрозионно-русловых системах обусловливаются обменом веществом и энергией между различными звеньями системы. Характер и направленность этих связей во многом зависят от климатических и ландшафтных условий территории. Наряду с климатом еще более значимую роль на изменение эрозионно-русловых систем играет хозяйственное преобразование ландшафтов (Маккавеев, 1955; Чалов, 1998; Чалов, 2008; Чалов, 2011; Knighton, 1998; Robert, 2003). Особую актуальность имеет эволюция эрозионно-русловых систем в процессе интенсивного земледелия и водопользования, а также его трансформации при изменении эколого-экономических условий. Слабо изученной до сих пор является вклад русловых деформаций в балансовую составляющую стока наносов (Чалов, 2021). Результаты этих исследований являются составной частью гидрологического обоснования проектов различных водохозяйственных мероприятий и имеют большое практическое значение (Беркович, 2001; Чернов, 2009; Эрозионно…, 2017).
Цель данной статьи — оценка многолетней динамики скоростей горизонтальных русловых размывов на различных реках Удмуртии, различающихся как порядком, так и ландшафтными особенностями их бассейнов и выявление наиболее значимых факторов с помощью корреляционного анализа. Данные мониторинга русловых размывов послужат в дальнейшем основой для прогнозирования развития излучин в конкретных ландшафтно-геоморфологических условиях с целью предотвращения опасных геоэкологических ситуаций. Количественная оценка осуществлялась по результатам реперных замеров. Данные тахеометрической съемки размываемых участков будут представлены в отдельной статье.
Равнинная территория Удмуртской Республики (УР) расчленена густой сетью рек, общая протяженность которых составляет почти 30 тыс. км. Проявляется и зональное увеличение густоты речной сети с юга (0.30–0.45 км/км2) на север (0.60–0.70 км/км2). Преобладают широкопойменные реки с активным развитием процессов меандрирования (Рысин, Петухова, 2006; Атлас…, 2020). В пределах территории УР преобладают южно-таежные ландшафты в северной и центральной части, на юге они сменяются сильно преобразованными хозяйственной деятельностью ландшафтами смешанных (хвойно-широколиственных) лесов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью исследования особенностей развития горизонтальных русловых деформаций на территории УР по топографическим картам было выделено 55 ключевых участков, охватывающих реки разного порядка и различные ландшафты (рис. 1). Основными критериями выбора участков являлись:
Рис. 1. Карта-схема расположения ключевых участков по изучению морфодинамики русел рек Удмуртской Республики.
Fig. 1. Map-diagram of the location of key sites for the study of morphodynamics of riverbeds of the Udmurt Republic.
Одним из методов изучения динамики рельефа является метод стержней и марок (Спиридонов, 1970). Сущность его заключается в проведении повторных замеров расстояний до неподвижных стержневых реперов или марок. Металлические стержни (реперы) забиваются вертикально в грунт на такую глубину, чтобы обеспечить полную их устойчивость и на такое расстояние от береговой линии, чтобы они могли длительно существовать в условиях размыва (от 10 до 20 м). В качестве “марок” в основном использовались отдельно стоящие деревья, столбы, окрашиваемые в яркие цвета, чтобы сделать их хорошо заметными. Применяются и земляные марки — выкопанные углубления в форме буквы “Т”, хорошо сохраняющиеся в течение длительного времени (длинная часть марки указывает направление, в котором проводится замер). Измерения осуществляются по строго определенному направлению (азимуту) с помощью мерной ленты до пересечения углублений, где также забивается стальной стержень. В результате получаются данные с точностью до сантиметров. В зависимости от длины размываемого участка излучины количество реперов (или марок) варьировалось от 2–3 до 5–10. Для определения скоростей размыва на всех ключевых участках было заложено около 300 реперов и марок, а в пределах 30 участков осуществлялась тахеометрическая съемка размываемого берегового уступа. В случае смещения размываемого участка вниз по течению в исследуемой излучине закладывались новые реперы (что случалось крайне редко), на неразмываемых участках реперные объекты также сохранялись и замеры продолжались. Учитывались также локальные участки размывов, где отсутствовали реперы.
Наряду с полевыми данными, широко использовались крупномасштабные топографические карты, аэро-, фото- и космические снимки, по которым определялись различные морфологические и морфометрические характеристики русла. Реки от истока до устья были разделены на отдельные достаточно однородные по водности участки, границами которых служили места впадения крупных притоков. Общее количество выделенных участков на реках составило 245. Для каждого из участков рек определялись модальные значения параметров излучин: шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина l, высота размываемого уступа Н и другие. Для безразмерных параметров — l/L и r/h — использовались осредненные значения. Расчеты были проведены для 3827 отдельных излучин и результаты были опубликованы ранее (Рысин, Петухова, 2006).
По соотношению основных параметров излучин, и, прежде всего от степени развитости излучины l/L, были выделены, в соответствии с морфодинамической классификацией МГУ (Чалов и др., 2004; Чалов, 2011), основные морфодинамические типы русел. На территории УР выделено 6 типов русел: прямолинейные (l/L < 1.15), сегментные пологие излучины (1.15 < l/L < 1.40), сегментные развитые (1.40 < l/L < 1.70), сегментные крутые (1.70 < l/L < 2.00), петлеобразные (l/L > 2.00) и прорванные (l/L = 1.50–2.00). Полученные таким образом данные послужили основой для заложения реперных объектов и мест тахеометрической съемки (Рысин, Петухова, 2006). Мониторинг русловых размывов осуществлялся преимущественно на излучинах разной степени развитости, исключением являлись прямолинейные участки с отсутствием размывов.
Анализ полученных за двадцать с лишним лет полевых данных свидетельствует о большом диапазоне скоростей бокового размыва. При этом имеются существенные различия по рекам, отличающимся размерами (порядком, водоносностью и т.д.). Одной из характеристик водотока, дающей осредненное представление о размере реки, условным индексом речного потока является порядок реки. Для рек территории УР расчет их порядков выполнялся по схеме А.Е. Шайдеггера (Шайдеггер, 1964):
,
где Р — число притоков 1-го порядка (притоком 1-го порядка считается река длиной менее 10 км). Порядок рек можно также использовать как критерий перехода от малых рек к средним и большим (крупным). Для территории УР предлагается относить реки 1–6-го порядка к очень малым, 6.1–9-го порядка к малым, реки 9.1–14-го порядка — к средним и свыше 14.1 порядка — к большим.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных за двадцать три года (2000–2022 гг.) полевых экспедиционных наблюдений свидетельствует, что наибольшие скорости размыва характерны для рек с порядком выше 9-го (по А. Шайдеггеру). Максимальные значения размыва, наблюдаемые на таких реках, достигают 6–8 м и более, среднегодовые скорости размыва колеблются в интервале 0.8–3.1 м/год. На р. Вятка, имеющей 15 порядок, среднегодовые скорости размыва превышают 3–5 м/год, а максимальные из зафиксированных значений составляют 12–15 м/год. Достаточно активно проявляются горизонтальные русловые деформации на р. Чепца у д. Яр (порядок 12.3): среднегодовые скорости размыва здесь составляют обычно 1–3 м/год, а максимальные — 7.1 м были отмечены в 2005 г.
С порядком реки (по методике А. Шайдеггера) тесно связаны и некоторые морфодинамические характеристики русла, такие как ширина и глубина русла, их отношение, а также среднемаксимальные расходы рек, что было подтверждено на различных реках Европейской России, Сибири и Дальнего Востока (Джуха, Чалов, 1989; Павлов, 1994; Завадский, Чалов, 1997; Назаров, Егоркина, 2004; Чернов, 2009).
Для малых рек (6.1–9 порядок) средние скорости отступания берега составляют 0.4–0.6 м/год. Но на отдельных участках размывы намного выше: на р. Кырыкмас (д. Тавзямал) в 2012 г. максимальный размыв составил 5.05 м, в 2017 г. — 5.35 м. На р. Пызеп (д. Бани) в 2012 г. максимальный размыв на одном из участков составил 4.8 м, а в 2019 г. данный показатель достиг рекордных для данной группы 5.5 м.
Для очень малых рек (порядок 6.0 и ниже) значения средних скоростей размыва составляет — 0.1–0.3 м/год, хотя в отдельных точках зарегистрировано смещение берега на 1 м и более. Так, на участке реки Шаркан у д. Титово (порядок 5.6) средний максимальный размыв в 2000 и в 2003 гг. превысил 2 м. На р. Адамка у с. Грахово (порядок 3.8) средний максимальный размыв в 2011 г. составил 4.2 м, а на р. Агрызка у д. Баграш-Бигра (порядок 4.5) максимальный размыв в 2003 г. составил 8.1 м, что было вызвано прорывом земляной дамбы выше расположенного пруда. Относительно низкие скорости горизонтальных русловых деформаций характерны и для малых рек соседнего Пермского края и Республики Татарстан (Мозжерин, Курбанова, 2004; Назаров, Егоркина, 2004).
Рис. 2. Зависимость среднегодовых (а) и среднемаксимальных (б) скоростей размыва от порядка реки на территории Удмуртии за период 2000–2022 гг.
Fig. 2. The dependence of the average annual (a) and average maximum (б) erosion rates on the order of the river in the territory of Udmurtia for the period 2000–2022.
Все вышесказанное подтверждается и рассчитанными статистическими зависимостями между среднегодовыми и среднемаксимальными размывами с одной стороны и величиной порядка реки, с другой. Установлена криволинейная зависимость экспоненциального вида, поэтому наряду с обычным коэффициентом корреляции (r) были рассчитаны корреляционное отношение (ç) и квадрат корреляционного отношения (η2) по методике Г.Ф. Лакина (1990). На графике видно, что значения среднегодовых (Vsr) и среднемаксимальных (Vmax) скоростей размыва берегов увеличиваются с увеличением порядка реки (рис. 2). Коэффициенты корреляции между среднегодовыми размывами и порядком реки () указывают на достаточно тесную связь, что наглядно показывает и график (рис. 2, (а)). Показатели связи между среднемаксимальными размывами и порядком реки ) также свидетельствуют о существенной взаимосвязи, что демонстрируется на графике (рис. 2, (б)). Полученные зависимости описываются экспоненциальными уравнениями и близки с ранее полученными зависимостями (Petukhova, Rysin, 2006, Петухова, Рысин, 2006):
Статистические показатели средних годовых и максимальных размывов на реперных участках за рассматриваемый период представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Статистические показатели по среднегодовым размывам русел рек Удмуртии по реперным данным за период 2000–2022 гг.
Table 1. Statistical indicators on the average annual erosion of riverbeds of Udmurtia according to reference data for the period 2000–2022
Порядок реки | N | M | Max | Me | σ | Е | А | Cv |
6.0 и менее | 257 | 0.37 | 3.15 | 0.155 | 0.015 | 10.8 | 2.68 | 0.65 |
6.1–9.0 | 566 | 0.31 | 3.05 | 0.20 | 0.016 | 13.4 | 3.13 | 1.26 |
9.1–14.0 | 202 | 0.46 | 3.1 | 0.30 | 0.031 | 7.76 | 2.31 | 0.98 |
14.1 и более | 23 | 2.13 | 5.9 | 1.4 | 0.31 | 0.12 | 0.97 | 0.71 |
Все реки | 1048 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 0.016 | 28.6 | 4.41 | 1.41 |
Примечание. N — количество показателей, М — среднее арифметическое, Max — максимальное значение, Me — медиана, σ — стандартная ошибка, Е — эксцесс, А — асимметричность, Cv – коэффициент вариации.
Таблица 2. Статистические показатели по максимальным размывам русел рек Удмуртии по реперным данным за период 2000–2022 гг.
Table 2. Statistical indicators on the maximum washouts of Udmurtia riverbeds according to reference data for the period 2000–2022
Порядок реки | N | M | Max | Me | σ | Е | А | Cv |
6.0 и менее | 257 | 0.57 | 8.1 | 0.35 | 0.049 | 37.4 | 4.91 | 1.37 |
6.1–9.0 | 566 | 0.75 | 6.7 | 0.43 | 0.038 | 9.27 | 2.35 | 1.21 |
9.1–14.0 | 202 | 1.17 | 7.2 | 0.72 | 0.087 | 5.15 | 2.02 | 1.06 |
14.1 и более | 23 | 5.14 | 15.0 | 3.05 | 0.96 | –0.16 | 1.07 | 0.90 |
Все реки | 1048 | 0.91 | 15.0 | 0.5 | 0.018 | 36.1 | 4.89 | 1.46 |
Примечание. Условные обозначения см. табл. 1.
Анализ статистических данных показывает, что изменчивость величин размыва берегов рек относительно средней величины варьируется в значительных пределах. Коэффициенты вариации самые низкие у средних и больших рек, что, вероятно, косвенно может указывать на их более высокую размывающую способность по сравнению с малыми водотоками. Значение медианы и среднего арифметического не сильно отличаются друг от друга, при этом медиана во всех случаях меньше среднего, то есть совокупность крайне неоднородна и содержит экстремальные значения. Асимметрия во всех случаях положительна, для большинства рек преобладают высокие значения, что говорит о преобладании значений ниже среднего. Значения асимметрии близкие к единице отмечены только для рек с порядком более 14.1, следовательно, распределение значений размывов здесь мало отличается от нормального. По высоким положительным значениям эксцесса можно узнать, что графики распределения величин размывов по всем группам рек являются островершинными за исключением максимальных размывов на реке с порядком более 14.1 (р. Вятка), здесь этот график — плосковершинный.
Рис. 3. Динамика среднегодовых (а) и среднемаксимальных (б) скоростей размыва (м/год) на реках Удмуртии за 2000–2022 гг.
Fig. 3. Dynamics of average annual (a) and average maximum (б) erosion rates (m/year) on the rivers of Udmurtia for 2000–2022.
Анализ результатов реперных замеров за 23 года показал, что в настоящее время отмечается тенденция уменьшения скоростей береговых размывов как для среднегодовых, так и максимальных значений (рис. 3). Возможно, это связано с тем, что в последние годы снижается интенсивность половодного и паводочного стока на исследуемых реках, что не подтверждается данными тахеометрических съемок. По другой версии участки активного размыва возможно сместились за прошедшее время от мест с реперными наблюдениями на ниже расположенные излучины. О смещении максимальных участков размыва в сторону нижнего крыла излучины указывается, например, в наблюдениях на р. Керженец в Нижегородском Заволжье (Кораблева, Чернов, 2012; Кораблева, Чернов, 2019).
По графикам видно, что они в общем виде имеют сходства, особенно в начале и в конце наблюдений. Если для среднегодовых значений размыва максимальные значения тяготеют к первой половине наблюдений (рис. 3, (а)) и относятся к 2001 (0.53 м), 2006 (0.52 м), 2000 и 2010 гг. (0.49 м), то для среднемаксимальных значений к перечисленным годам добавляется еще 2005 год (1.31 м) (рис. 3, (б)). В эти годы на большинстве рек, где ведутся гидрологические наблюдения, максимальные расходы половодья превышали многолетние среднегодовые от 6–13 раз (рр. Чепца, Сива, Вала, Позимь и др.) до 32 (2000 г.) — 90 раз (2001 г.) на малой р. Адамка (левобережье нижней Вятки).
С другой стороны, и абсолютные минимумы расположены в левой части графика и относятся к 2004 г. В этот год для большинства исследуемых рек были характерны очень низкие расходы половодья, превышающие многолетние среднегодовые от 3.5 (р. Сива) до 5.7 раз (р. Позимь), а на р. Адамка в 15.4 раза, что является самым низким показателем по данной реке за имеющийся ряд наблюдений (1998–2018 гг.). На других реках анализируемый показатель варьировал в пределах 6–9 раз.
Рис. 4. Динамика среднегодовых (а) и среднемаксимальных (б) скоростей размыва на самых малых реках, среднегодовых (в) и среднемаксимальных (г) скоростей размыва на малых реках, среднегодовых (д) и среднемаксимальных (е) скоростей размыва (м/год) на средних реках Удмуртии за 2000 —2022 гг.
Fig. 4. Dynamics of average annual (a) and average maximum (б) erosion rates on the smallest rivers, average annual (в) and average maximum (г) erosion rates on small rivers, average annual (д) and average maximum (e) erosion rates (m/year) on medium rivers of Udmurtia for 2000 –2022.
Совершенно иная картина наблюдается на самых малых реках с порядком водотоков от 6 и менее (рис. 4). На обеих графиках отчетливо выделяется хорошо выраженный отрицательный тренд. Если для среднегодовых значений максимумы характерны для 2011 (0.51 м) и 2003 (0.43 м) гг. (рис. 4, (а)), то для среднемаксимальных значений максимум смещен на правую сторону графика и отмечен в 2018 г. (1.67 м), при этом второй максимум совпадает с первым для средних значений и зарегистрирован в 2011 г. (1.34 м) (рис. 4, (б)).
Для 28 малых рек (порядок 6.1–9.0) на графике среднегодовых размывов отрицательный тренд практически не заметен, показатели средних размывов варьируют близко к средним значениям (рис. 4, (в)). Минимальные значения характерны для левой части графика и зарегистрированы в 2004 (0.14 м) и 2009 гг. (0.17 м). Два одинаковых максимума наблюдались в 2006 и 2016 гг. (0.47 м), третий максимум отмечался в 2022 г. (0.44 м). Для среднемаксимальных размывов график существенно отличается, здесь отчетливо выражен отрицательный тренд (рис. 4, (г)). Максимальные значения отмечались в начале наблюдений — в 2001 (1.15 м) и 2006 гг. (1.17 м), а минимумы смещены в правую часть графика и приходятся на последние годы — 2020 (0.41 м) и 2021 гг. (0.40 м).
Наблюдения на средних водотоках (порядок 9.1–14) осуществляются на 5 реках в пределах 12 участков. Оба графика имеют хорошо выраженный отрицательный тренд с соответствующими уравнениями. Максимальные значения среднегодовых размывов были отмечены в 2001 (0.75 м) и 2005 гг. (0.72 м), минимальные, соответственно — в 2004, 2009 (0.18 м) и 2021 гг. (0.16 м) (рис. 4, (д)). Для среднемаксимальных размывов минимальные значения наблюдались, как и для предыдущей группы рек, в последние годы — в 2020 (0.38 м) и 2021 гг. (0.42 м), максимумы происходили в 2005 (2.29 м) и 2010 гг. (1.64 м) (рис. 4, (е)).
Графики среднегодовых и максимальных значений размыва за анализируемый период для р. Вятка на участке “Крымская Слудка” очень близки по характеру рисунка и имеют отчетливо выраженный отрицательный тренд. Наибольшие значения среднегодовых (5.9 м) и максимальных размывов (15 м) были зарегистрированы в 2005 г., как и для группы средних рек. Второй максимум для среднегодовых размывов был отмечен в 2010 г. (4.5 м), а для максимальных размывов, соответственно в 2002 г. (14.2 м). Минимальные значения размывов были зафиксированы в 2015 г.: для среднегодовых значений, соответственно — 0.35 м, а для максимальных — 0.6 м. Второй по величине минимум для среднегодовых размывов относится к 2013 г. (0.6 м), а для максимальных — к 2014 г. (1.0 м). В литературе описываются в основном средние многолетние размывы для крупных и крупнейших рек в пределах 10–15 м/год, но также есть сведения о боковых размывах до 200 м/год, а скорость смещения форм руслового рельефа может превышать 300 м (Попов, Кондитерева, 1974; Чалов и др., 2016; Чалов и др., 2017; Махинов и др., 2018).
Поскольку наблюдения за боковым размывом на самых малых водотоках ведется на 14 реках, а гидрологический пост, где регулярно измеряются расходы и уровни, имеется лишь на одной р. Адамке (с. Грахово), то говорить о роли этих факторов, влияющих на величину размыва самых малых рек, будет необъективно. Так, например, для р. Адамка роль максимальных расходов половодья на среднегодовые и среднемаксимальные размывы достоверно не установлена (рис. 5, (а)).
Рис. 5. Графики зависимости максимальных скоростей размыва от максимальных расходов на р. Адамка (с. Грахово) (а), максимальных скоростей размыва от максимальных расходов на р. Лоза (п. Игра) (б), среднегодовых скоростей размыва от среднегодовых расходов на р. Нылга (с. Нылга) (в), максимальных скоростей размыва от максимальных расходов на р. Сива (с. Гавриловка) (г), максимальных скоростей размыва от максимальных расходов на р. Чепца (д. Каменное Заделье) (д) и среднегодовых скоростей размыва от максимальных расходов на р. Чепца (д. Дизьмино) (е).
Fig. 5. Graphs of the dependence of the maximum erosion rates on the maximum costs of the Adamka River (Grakhovo village) (a), the maximum erosion rates on the maximum costs of the Loza River (Igra village) (б), the average annual erosion rates on the average annual costs of the Nylga River (Nylga village) (в), the maximum erosion rates on the maximum costs of Siva River (Gavrilovka village) (г), the maximum erosion rates from the maximum expenditures on the Cheptsa River (Kamennoye Zadelye village) (д) and the average annual erosion rates from the maximum expenditures on the Cheptsa River (Dizmino village) (e).
Для малых рек статистически достоверная связь между максимальными скоростями размыва и максимальными расходами установлена для р. Лоза на ключевом участке у пос. Игра (порядок реки 8.8), где имеется гидрологический пост с рядами наблюдений за 2002–2018 гг. Линейное уравнение и коэффициенты связи представлены на рис. 5, (б). Для данной реки выявлена также высокая положительная связь между среднегодовыми размывами и среднегодовыми расходами (r = 0.59; R2 = 0.348). Статистически достоверная связь также установлена между среднегодовыми скоростями размыва и среднегодовыми расходами на р. Нылга на участке близ с. Нылга, где также находится гидрологический пост и имеется аналогичный ряд наблюдений. Связь в данном случае криволинейная и описывается экспоненциальным уравнением с существенными показателями связи (r = 0.49; R2 = 0.276) (рис. 5, (в)). Заметно ниже по значимости связь обнаружена между максимальными скоростями размыва и максимальными расходами на р. Сива (порядок 10.6) на участке у с. Гавриловка, где находится гидропост с рядами наблюдений за 2000–2018 гг. Для данного участка также получено сравнение линейной связи и рассчитаны коэффициенты зависимости (r = 0.36; R2 = 0.129) (рис. 5, (г)). Выявлена не высокая, но достоверная положительная связь между максимальными скоростями размыва и максимальными расходами на р. Чепца (порядок 11.4) на участке у д. Каменное Заделье (рис. 5, (д)). Расходы определялись по гидропосту в с. Полом за 2002–2018 гг. Достаточно надежная и существенная криволинейная связь установлена между среднегодовыми скоростями размыва и максимальными расходами на р. Чепца (порядок 12.3) на участке у д. Дизьмино по данным гидропоста в г. Глазов (2000–2018 гг.) (рис. 5, (е)). Аналогичная зависимость была получена для данной реки между максимальными размывами и максимальными расходами (r = 0.53; R2 = 0.175).
Для других участков рек, где ведутся регулярные гидрологические наблюдения (рр. Чепца, Вала, Лумпун, Позимь, Адамка) зависимости между вышеприведенными показателями достоверно не установлены (табл. 3). Обращает на себя внимание наличие для многих рек отрицательных связей между скоростями размывов и расходами, что можно объяснить действием более влиятельных факторов, таких как слабая размываемость отложений, интенсивное зарастание ранее размываемых участков, влияние хозяйственной деятельности (спуск или создание прудов, берегозащитные мероприятия и т. п.).
Таблица 3. Показатели статистической связи между величиной боковых размывов рек и среднегодовыми, максимальными расходами на реках Удмуртии
Table 3. Indicators of the statistical relationship between the magnitude of lateral river washouts and the average annual, maximum expenditures on the rivers of Udmurtia
Река | Порядок реки | Среднегодовая скорость размыва | Среднемаксимальная скорость размыва | ||
среднегодовой расход | максимальный расход | среднегодовой расход | максимальный расход | ||
Чепца (Яр) | 12.3 | R² = 0.025 | R² = 0.0086 | R² = 0.05 | R² = 0.0404 |
r = 0.034 | r = –0.09 | r = 0.01 | r = 0.02 | ||
Сива (Гавриловка) | 10.6 | R² = 0.0672 | R² = 0.0592 | R² = 0.013 | R² = 0.1294 |
r = 0.26 | r = 0.24 | r = 0.11 | r = 0.36 | ||
Чепца (Дебесы) | 8.7 | R² = 0.0078 | R² = 0.0019 | R² = 0.0007 | R² = 0.0386 |
r = –0.09 | r = 0.04 | r = 0.03 | r = –0.19 | ||
Позимь (ст. Позимь) | 8.6 | R² = 0.0035 | R² = 0.0563 | R² = 0.0029 | R² = 0.0452 |
r = 0.06 | r = –0.23 | r = –0.05 | r = –0.21 | ||
Лумпун (Харламовская Пристань) | 6.8 | R² = 0.1826 | R² = 0.0345 | R² = 0.1295 | R² = 0.0727 |
r = –0.43 | r = 0.19 | r = –0.36 | r = 0.27 | ||
Адамка (Грахово) | 3.8 | R² = 0.0018 | R² = 0.0442 | R² = 0.0223 | R² = 0.052 |
r = –0.04 | r = –0.21 | r = –0.15 | r = –0.23 | ||
Поскольку расходы на реках зависят в первую очередь от суммы осадков, характера их выпадения, условий снеготаяния и других факторов, то нами была предпринята попытка определения статистических зависимостей между величиной бокового размыва на реках и годовой суммой осадков на ближайшей от участка наблюдения метеостанции. На рис. 6 представлены эти зависимости и коэффициенты связи для трех рек. Для очень малой р. Арлеть (порядок 6.0), впадающей слева в р. Кильмезь, получено уравнение линейной связи и рассчитаны показатели статистически достоверной связи (r = 0.57; R2 = 0.33) (рис. 6, (а)). Аналогичная зависимость установлена и для малой реки Кильмезь на участке “Головизнин Язок” (порядок 8.7), где получены менее значимые показатели связи (r = 0.49; R2 = 0.238) (рис. 6, (б)). Для другой малой р. Нылга (левый приток р. Вала), расположенной в бассейне р. Кильмезь, показатели связи оказались более значимыми (r = 0.60; R2 = 0.365). Для бассейнов других рек статистически достоверных связей не выявлено.
Рис. 6. Зависимость среднегодовых скоростей размыва на р. Арлеть (д. Чибир-Зюнья) от годового количества осадков (а), зависимость среднегодовых скоростей размыва на р. Кильмезь (д. Головизнин-Язок) от годового количества осадков (б), зависимость среднегодовых скоростей размыва на р. Нылга (с. Нылга) от годового количества осадков (в).
Fig. 6. The dependence of the average annual erosion rates on the Arlet River (Chibir-Zunya village) on the annual amount of precipitation (a), the dependence of the average annual erosion rates on the Kilmez River (Goloviznin-Yazok village) on the annual amount of precipitation (б), the dependence of the average annual erosion rates on the Nylga River (Nylga village) on the annual amount of precipitation (в).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ многолетних (2000–2022 гг.) полевых исследований горизонтальных русловых деформаций на реках Удмуртии показал, что скорости бокового смещения берегов варьируют в большом диапазоне: от нескольких сантиметров до многих метров (10–15 м/год). Интенсивность размыва в первую очередь зависит от водности реки, которая часто определяется порядком водотока. Максимальные размывы характерны для рек с порядком выше 14 (по схеме А. Шайдеггера), достигающие 12–15 м/год, а среднегодовые значения составляют 3–5 м/год. Для средних рек (с порядком 9–14) максимальные величины размывов составляют 6–8 м/год, а среднегодовые — 1–3 м/год. Для малых рек с порядком 6–9 максимальные размывы достигали 5.5 м/год, среднегодовые варьировали в пределах 0.4–0.6 м/год. На очень малых реках (порядок 6 и менее) максимальные скорости размыва берегов достигали до 4.2 м/год в естественных условиях и до 8.1 м/год при техногенном вмешательстве, среднегодовые величины размывов составляли обычно 0.1–0.3 м/год. Анализ статистических данных показывает, что изменчивость величин размыва берегов рек относительно средней величины варьирует в значительных пределах. Коэффициенты вариации самые низкие у средних и больших рек, что, вероятно, косвенно может указывать на их более высокую размывающую способность по сравнению с малыми водотоками.
Установлена достаточно тесная связь между среднегодовыми размывами и порядком реки, о чем свидетельствуют значимые коэффициенты корреляции (r = 0.54; ç = 0.510; ç2 = 0.260). Еще более высокими оказались зависимости между среднемаксимальными размывами и порядком реки (r = 0.59; ç = 0.682; ç2 = 0.464). Полученные зависимости описываются экспоненциальными уравнениями.
Временной анализ результатов реперных замеров за исследуемый период показал, что в настоящее время прослеживается общая тенденция уменьшения скоростей береговых размывов как для среднегодовых, так и максимальных значений. Наклоны линий тренда для разных групп рек различаются, но не существенно. Возможно, что это связано со снижением интенсивности половодного и паводочного стока на исследуемых реках. По другой версии, участки активного размыва, возможно, сместились за прошедшее время от мест с реперными наблюдениями.
Для многих рек, где имеются гидрологические посты с регулярными наблюдениями за уровнями и расходами воды, получены достоверные значимые связи между скоростями размывов с одной стороны, максимальными и среднегодовыми расходами с другой. Коэффициенты корреляции изменяются от 0.36 (р. Сива) до 0.63 (р. Лоза). Для некоторых рек достоверные связи между анализируемыми показателями не выявлены.
В завершении работы была предпринята попытка определения статистических зависимостей между величиной бокового размыва на реках и годовой суммой осадков на ближайшей от участка наблюдения метеостанции, поскольку расходы на реках зависят в первую очередь от суммы осадков, выпадающих в их бассейне. Значимые связи были получены для верховий р. Кильмезь (r = 0.49), очень малой р. Арлеть (r = 0.57) и малой р. Нылга (r = 0.60), принадлежащие бассейну р. Кильмезь, отличающейся широким распространением песчаных отложений. С песчаными покровами здесь также связаны высокая залесенность и заболоченность территории. Для большинства изучаемых рек аналогичные связи не установлены.
Мониторинг русловых размывов необходим при составлении прогнозов развития горизонтальных русловых деформаций в конкретных ландшафтно-геоморфологических условиях с целью предотвращения опасных геоэкологических ситуаций.
БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-27-00194 (https://rscf.ru/project/23-27-00194).
ACKNOWLEDGMENTS
The study was funded by the Russian Science Foundation, Project № 23-27-00194. https://rscf.ru/project/23-27-00194
About the authors
I. I. Rysin
Udmurt State University
Author for correspondence.
Email: rysin.iwan@yandex.ru
Russian Federation, Izhevsk
I. I. Grigorev
Udmurt State University
Email: ivangrig@yandex.ru
Russian Federation, Izhevsk
L. N. Petukhova
Udmurt State University
Email: egorov.i53@mail.ru
Russian Federation, Izhevsk
A. A. Perevoshchikov
Udmurt State University
Email: rysin.iwan@yandex.ru
Russian Federation, Izhevsk
References
- Berkovich K.K. (2001). Geograficheskii analiz antropogennykh izmenenii ruslovykh protsessov (Geographical analysis of anthropogenic changes in channel processes). M.: GEOS (Publ.). 164 p. (in Russ.)
- Chalov R.S. (1998). Morfodinamika rusel ravninnykh rek (Morphodynamics of lowland riverbeds). R.S. Chalov, A.M. Alabjan, V.V. Ivanov, R.V. Lodina, A.V. Panin (Eds.). M.: GEOS (Publ.). 288 p. (in Russ.)
- Chalov R.S. (2008). Ruslovedenie: teoriya, geografiya, praktika. Tom 1. Ruslovye protsessy: faktory, mekhanizmy, formy proyavleniya i usloviya formirovaniya rechnykh rusel (Russian language studies: theory, geography, practice. Iss. 1. Channel processes: factors, mechanisms, forms of manifestation and conditions for the formation of river channels). M.: LKI (Publ.). 608 p. (in Russ.)
- Chalov R.S. (2011). Ruslovedenie: teoriya, geografiya, praktika. Tom 2. Morfodinamika rechnykh rusel (Channel studies: theory, geography, practice. V. 2. Morphodynamics of river channels). M.: KRASAND (Publ.). 960 p. (in Russ.)
- Chalov R.S., Chernov A.V., Berkovich K.M. et al. (2017). Geography of hazardous channel processes on Russian rivers. Izvestiya PGO. V. 4. Iss. 149. P. 13–33. (in Russ.)
- Chalov R.S., Golosov V.N., Sidorchuk A.Ju. (Eds.). (2017). Erozionno-ruslovye sistemy: monografiya (Erosion-channel systems: monograph). M.: INFRA-M (Publ.). 702 p. (in Russ.)
- Chalov R.S., Zavadskij A.S., Panin A.V. (2004). Rechnye izluchiny (River bends). M.: MGU (Publ.). 371 p. (in Russ.)
- Chalov R.S., Zavadskij A.S., Ruleva S.N. et al. (2016). Morphology, deformations and temporary modifications of the Lena River channel and its influence on the Yakutsk economic infrastructure. Geomorfologiya. № 3. P. 22–35. (in Russ.). https://doi.org/10.15356/0435-4281-2016-3-22-35
- Chalov S.R. (2021). Rechnye nanosy v erozionno-ruslovykh sistemakh (River sediments in erosion-channel systems). Doc. thesis. M.: MGU (Publ.). 50 p. (in Russ.)
- Chernov A.V. (2009). Geografiya i geoekologicheskoe sostoyanie rusel i poim rek Severnoi Evrazii (Geography and geoecology of channels and floodplains of the rivers of Northern Eurasia). M.: Krona (Publ.). 614 p. (in Russ.)
- Dzhuha I.G., Chalov R.S. (1989). Yug River channel morphology and dynamics — an example of small river channel-forming activity. Geomorfologiya. № 1. P. 83–91. (in Russ.)
- Knighton A.D. (1998). Fluvial Forms and Processes: A New Perspective. London: Arnold. 383 p. http://dx.doi.org/10.4324/9780203784662
- Korableva O.V., Chernov A.V. (2012). Dynamics of floodplain-channel complexes of the rivers of the Nizhny Novgorod Trans-Volga region (on the example of the Kerzhenets River). In: Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika “Kerzhenskii”. Iss. 5. Nizhnii Novgorod: Gos. prirodnyi biosfernyi zapovednik “Kerzhenskii” (Publ.). 196 p. (in Russ.)
- Korableva O.V., Chernov A.V. (2019). Modern dynamics of floodplain-channel complexes of the middle Kerzhenets River (according to monitoring observations in 2001–2018). In: Nauchnye problemy ozdorovleniya Rossiiskikh rek i puti ikh resheniya. M.: IVP RAN (Publ.). P. 172–176. (in Russ.)
- Lakin G.F. (1990). Biometriya (Biometrics). M.: Vysshaya shkola (Publ.). 352 p. (in Russ.)
- Makhinov A.N., Kim V.I., Anoshkin A.V. et al. (2018). Transformation of local floodplain-channel systems of the Amur and Ussuri rivers as a factor in the emergence of transboundary problems. Regional’nye problemy. Iss. 21. № 2. P. 61–68. (in Russ.)
- Makkaveev N.I. (1955). Ruslo reki i eroziya v ee basseine (River bed and erosion in its basin). M.: AN SSSR (Publ.). 347 p. (in Russ.)
- Mozzherin V.I., Kurbanova S.G. (2004). Deyatel’nost’ cheloveka i erozionno-ruslovye sistemy Srednego Povolzhya (Human activity and erosion-channel systems of the Middle Volga region). Kazan’: Art-Dizain (Publ.). 128 p. (in Russ.)
- Nazarov N.N., Egorkina S.S. (2004). Reki Permskogo Prikam’ya: gorizontal’nye ruslovye deformatsii (Rivers of the Perm Kama region: horizontal channel deformations). Perm’: IPK Zvezda (Publ.). 155 p. (in Russ.)
- Pavlov I.N. (1994). Channel morphology of plain rivers of the Altai Territory. Geomorfologiya. № 3. P. 78–85. (in Russ.)
- Petukhova L.N., Rysin I.I. (2006). Horizontal channel deformation and their factors on the rivers of Udmurtia. Geomorfologiya. № 4. P. 70–78. (in Russ.). https://doi.org/10.15356/0435-4281-2006-4-70-78
- Petukhova L.N., Rysin I.I. (2006). Patterns in the development of horizontal river channel transformations in the Republic of Udmurtian Federation. In: Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains. R.S. Chalov, M. Kamykowska, K. Krzemien (Eds.). Cracow. P. 119–131.
- Popov I.V., Konditereva Je.A. (1974). Forecast of channel deformations of the Volga at the site of the Saralevsky water junction in connection with the design of improving its navigable conditions. Trudy GGI. № 216. P. 65–93. (in Russ.)
- Robert A. (2003). River processes: an introduction to fluvial dynamics. London: Arnold. 214 p.
- Rysin I.I. (Ed.). (2020). Atlas Udmurtskoi Respubliki (Atlas of the Udmurt Republic). M.–Izhevsk: Feoriya, Udmurtiya (Publ.). 288 p. (in Russ.)
- Rysin I.I., Petukhova L.N. (2006). Ruslovye protsessy na rekakh Udmurtii (Channel processes on the Udmurtia rivers). Izhevsk: Assotsiatsiya “Nauchnaya kniga” (Publ.). 176 p. (in Russ.)
- Shajdegger A.E. (1964). Teoreticheskaya geomorfologiya (Theoretical geomorphology). M.: Progress (Publ.). 450 p. (in Russ.)
- Spiridonov A.I. (1970). Osnovy obshchei metodiki polevykh geomorfologicheskikh issledovanii i geomorfologicheskogo kartografirovaniya (Fundamentals of the general methodology of field geomorphological research and geomorphological mapping). M.: Vysshaya shkola (Publ.). 456 p. (in Russ.)
- Zavadskij A.S., Chalov R.S. (1997). Regional analysis of free meandering. Vestnik Mosk. Un-ta. Ser. 5. Geografiya. № 3. P. 32–36. (in Russ.)
Supplementary files