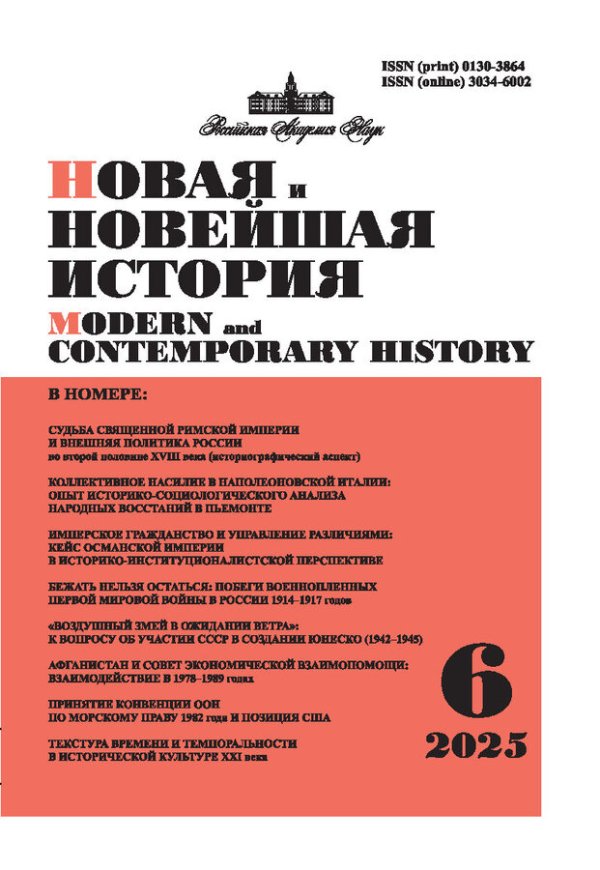The gift of God: the nature of the Middle East in the pilgrimage writings of Russian hieromonks Leontius and Meletius, 18th Century
- Authors: Kirillina S.А.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 66-75
- Section: Modern history
- URL: https://medbiosci.ru/0130-3864/article/view/273507
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424060059
- ID: 273507
Cite item
Full Text
Abstract
Russian Christian pilgrims who visited the Holy Land in the eighteenth century and have left written accounts were interested in more than simply the customary religious aspects of pilgrimage. They also explored secular motifs and issues. In addition to religious concerns, they sought to understand the nature of the Middle East and the striking diversity and exoticism that characterised the region. The article focuses on the theme of nature as presented in two narrative sources: the pilgrimage accounts written by the Russian hieromonks Leontius (1763–1765) and Meletius (1793–1794). Leontius’ notes on his journey to the holy sites of Egypt and Palestine are currently in the archive and awaiting publication. Meletius’ “Journey to Jerusalem” was published twice (1798 and 1800), but failed to gain much scholarly attention. Analysis of these travelogues reveals that both inquisitive pilgrims articulated their perspectives on the Middle East with remarkable candour and openness. They are extremely emotional about its natural phenomena, guided by the God-centred perception of the world through the prism of Russian Orthodoxy. In describing the nature of the Middle East, Leontius and Meletius conveyed to us the sacred image of the Holy Land, which looked like a beautiful but elusive mirage, evoking nostalgic thoughts of the very distant past, but not of the present.
Keywords
Full Text
Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее
(Пс. 23:1-2).
Историко-культурная ценность описаний путешествий на Святую землю российскими паломниками-писателями XVIII в. определяется не только присущим им мощным религиозно-нравственный посылом, но и ценнейшей для историка многофокусностью. «Хождения» представляют собой повествующие о конкретике повседневности эго-документы1, в которых рельефно проступает личность автора с его богатым внутренним миром, тревогами, душевными волнениями и чаяниями, житейскими заботами и интенсивными духовными переживаниями. Путь российских богомольцев пролегал через бескрайние пространства Османской империи, раскинувшейся на трех континентах. На страницах наиболее информативных повествований о путешествии на Ближний Восток восприятие его природы многократно усиливается за счет широкого спектра эмоций, которые порождает встреча с инаковым неизведанным миром.
Весьма репрезентативны в этом отношении два паломнических описания, составленные в период царствования Екатерины Великой. Первое – заметки о путешествии 1763–1766 гг. к святым местам Египта и Палестины иеромонаха полтавского Крестовоздвиженского монастыря Леонтия (в миру Луки Степановича Зеленского, 1726–1807 гг.), которые представлены в первых трех томах его неопубликованной тринадцатитомной «Истории жизни младшего Григоровича»2. Этот монументальный труд, до сих пор ожидающий своего издателя, по характеристике видного историка церкви А.А. Дмитриевского, исполнен «неподдельной красоты и поэтической художественности», а сам Леонтий, будучи «умным от природы и начитанным», предстает перед нами как писатель плодовитый и наделенный недюжинным литературным даром3. Второе – повествование о хождении в Палестину выходца из астраханской купеческой семьи4 иеромонаха Саровской пустыни Мелетия (ум. в 1805 г.), которое он совершил в 1793–1794 гг.5 Его «Путешествие во Иерусалим», хотя и дважды публиковалось (в 1798 и 1800 гг.), тем не менее практически выпало из исследовательского фокуса отечественного научного сообщества, что, вероятно, связано с нелестным отзывом Н.Г. Чернышевского, незаслуженно приписавшего труду Мелетия вторичный характер6. Однако тезис о его заурядности никак не подтверждается при детальном с ним ознакомлении. Напротив, мы имеем дело с исключительно содержательной работой, повествующей не только о хрестоматийных христианских святынях, но и о разных гранях бытия обитателей Османской державы. Автор «Путешествия во Иерусалим» высокообразован, обладает обширными познаниями в духовной и светской сферах, он – апологет российской официальной церковной политики и иеромонах «остраго ума и благомыслящий о России»7.
Природа в паломническом восприятии – это неразрывная часть мироздания, возникшего в процессе Божественного творения. С искренним восхищением, а порой и с детским простодушием, богомольцы вглядываются в широкую палитру природного мира Ближнего Востока. В их описаниях ландшафтов и природных феноменов проявляется чувственно-эстетическое восприятие природы, любование свойственной ей красотой. В то же время, пленяясь природой, преклоняясь перед ее стихиями и трепеща перед ними, путники воспринимали естественную среду обитания весьма прагматично и утилитарно с точки зрения ее полезности для человека.
Прежде всего паломников привлекала экзотика и богатство ближневосточной флоры, изобилие произрастающих в субтропиках невиданных растений и плодов – наранжей (апельсинов) и померанцев8, лимонов и лаймов, смокв (инжира), мушмулы9, винограда, маслин, фиников, миндаля и др10. Будучи в «морских воротах» Палестины – в Яффе, Леонтий изумлялся тому, как в апреле ветви лимонных деревьев склонялись под тяжестью зрелых плодов11. По его наблюдению, в котором неизбежно присутствует сравнение ближневосточного растительного мира с русской природой, яффская земля была столь плодородна, что дары природы его отчего края – Полтавщины – достигали на ней гигантских размеров и обретали новые вкусовые качества: «Всего красивее в Иопии произрастения земли, редкия и по болшей части нашим землям вовсе несвойственныя, как то необичной величины огурцы, приторной сладости дини, круглые как шар, арбузы столь крепкия, что так же, как и в Египте, додержуются от новых до новых»12. Возбуждая любопытство читателя, Мелетий рассказывает об увиденном им в Палестине неведомом фрукте, именуемом местными жителями «хох»13 (размером «с малое яблоко, вкусом похоже на недоспелой огурец»14), который был на поверку то ли сливой, то ли персиком, только зеленым, потому как испробовал путник этот плод в начале апреля. Однако к завершению своих странствий иеромонах уже отлично разбирался в восточно-средиземноморских плодовых культурах и опытным глазом отличал отменные анатолийские смоквы из Смирны от проигрывавшего им в сладости инжира с Эгейского архипелага15.
У богомольцев, переместившихся в пространстве в среду обитания с иным, нежели на родине, климатом, возникало вящее ощущение, что они попали в «богонасажденный едемский сад»16. После треволнений плаванья по Черному морю Мелетий воспринял как райские кущи «прекрасныя Босфорския места… веселое зрелище гор, долин и равнин, покрытых различным лесом, одетых зеленостию и испещренными цветами, с протекающими источниками»17. На европейском берегу Босфора его внимание привлекли «села, замки, раскрашенные домы с прекрасными садами и рощами», которые, однако, как не преминул заметить приметливый саровский священно- инок, при всех своих «приятностях» были наполнены «великими огнестрельными орудиями»18.
«Преддверье Святой земли» – Стамбул – поражал паломников красочностью парков и садов, заполненных «кипарисными и другими благолиственными древами»19. Обозрев снаружи расположенный «в изящнейшем месте города» султанский дворец Топкапы, Мелетий особо отметил, что внутри высоких крепостных стен находится гарем – «жилище Султанских жен и сад, различными древесами и произрастаниями с протекающими водами, для зрения и вкуса изобилующий»20. Однако свежие яркие впечатления никоим образом не сказались на трезвости оценки увиденного им в османском стольном граде. Так, расположенные рядом с кварталом Фанар «сады и рощи с прохлаждающими источниками» оттолкнули Мелетия своим нестерпимым смрадом, так как, по его словам, в тех «прекрасных… местах, по причине повсюду на кладбищах лежащих трупов, естественный воздух существовать не может»21.
В Египте, который, в отличие от Мелетия, Леонтий включил в свой паломнический маршрут, его, как и других побывавших там богомольцев, не оставили равнодушными доминировавшие в местном ландшафте финиковые пальмы. По свидетельству Леонтия, во время «нилоплаванья» «не насыщалось любопытное… [его] зрение красотою финиковых плодородных лесов»22. Он высоко оценивал мастерство египетских ремесленников, изготавливавших из пальмовых листьев разнообразные предметы быта – циновки, корзины, канаты, веревки и т.п.23 Леонтий не раз упоминал, как ему пригодился в путешествии «робазембил»24 – прочная торба для пожитков, которую на Ближнем Востоке «вояжиры употребляют… вместо чемодана». Эти мешкообразные сумы, по свидетельству иеромонаха, местные умельцы «соплетают… художественно с финиковаго, на нашу осоку похожего листу длиннаго в 2 ½ аршина»25. Привычная россиянам гречиха используется богомольцами для сравнения при описании культивируемого в дельте Нила хлопчатника. По замечанию Леонтия, «стебла (хлопковые стебли. – С.К.) до самаго ея цвету не можно не почесть за нашу гречиху, то ж пока она не цветет»26.
Из всех вечнозеленых растений Земли обетованной богомольцы выделяют «масличные древа»27. При этом в их религиозно ориентированном восприятии среди всех олив Палестины первенствуют те, которые растут на склоне освещенной драматическими событиями Нового Завета Елеонской горы. По свидетельству предшественника Леонтия и Мелетия Василия Григоровича-Барского, там «маслинни великие и сице ветхие (такие древние. – С.К.), яко еще от воплощения Христова (якоже повествуют), даже доселе стоят и плодородят, не усихающе»28. Однако, будучи в Иерусалиме, Мелетий с сожалением констатировал: «Гора Елеонская имя Елеона получила по причине в древности покрывавших ея во многом количестве масличных дерев, которыя на оной и ныне растут, но уже изредка»29.
Среди в изобилии произраставших в Билад аш-Шаме30 плодоносящих деревьев богомольцы выделяли шелковицу. Тутовое дерево заинтриговало Леонтия еще когда он находился на Афоне. При этом он, минуя связанное с ним шелководство, пишет, что оно «приносит приятнейшаго вкуса виннаго плод», который «подобен вишневым ягодам, но не имеет… в себе косточки» и служит сырьем, из коего «неленивые охотники делают водку» – тутовку31.
Неспешно двигавшихся по просторам владений османского падишаха российских странников не могли не очаровывать поражающие своей строгой красотой Галилейские горы или, как писал Мелетий, открывавшийся с борта корабля сказочный вид громады горы Афон, которая, казалось, плыла по волнам навстречу богомольцам32.
Среди лежащих на паломническом пути гор доминировали те, которые были осенены библейской историей, благословлены деяниями святых и подвижничеством «великаго образа… схимников»33. Потрясающая картина природы, представшая перед Леонтием при приближении к значимой вершине Святой земли – месту Преображения Господня, Фаворской горе, – сподвигла его на проникновенные строки: «На лощинах между дремучим лесом яркая зеленость не наших родов трав и пестрота прелестнейших цветов с перваго взгляду на красоту оних привели… меня в восхищение». По убеждению священноинока, гора Фавор, покрытая густой дубравой и напоминающая «превеликой круглой курган, сделанный человеческими руками, но не человеческою силою», достойна именоваться «царицею всех гор не по одной своей внешней красоте», но прежде всего по явленному там Иисусом Христом чуду34.
Путь российских паломников, которым довелось добраться до еще одной ключевой точки христианской сакральной географии – горы Синай – и расположенного у ее подножья монастыря святой Екатерины, пролегал как через пустынные, так и гористые участки Синайского полуострова. Синайские «бесчисленные разнофигурные горы» настолько впечатлили Леонтия, что в его подаче местный ландшафт, будучи частью заповедного пространства, приобрел фантасмагорические черты. Дав волю воображению, он рисует картину, крайне далекую от того, как выглядит Синай, иссушенный нещадным июльским зноем. Явно плодом богатой авторской фантазии выглядят строки: «Всего больше привели… в восхищение мой ум долины, промежу гордыми горами лежа, своей приятностию умеряющие покрывающий их от пустоты происходящий ужас, тщетно борющийся с приятностию присноторжествующей над ним весны, которая чудное извитие мой взор пленивших долин покрывает низким, всегда зеленеющим моругом (дымкой. – С.К.), ни в чем не уступающим венецкой фабрики бархату, при том приметные нам неизвестные цветы, кои чрез неблизкое растояние смеялись над моим тупозрением, их красот недосязающим»35.
Воспроизводя зримый образ странствия на Ближний Восток и пребывания на Святой земле, паломники постоянно упоминают воду. Едва ли не в каждом «Хождении» мы обнаруживаем описание буйства грозной морской стихии. Леонтия лютая непогода застала в Черном море на пути в Стамбул, и его «обезображенное… суденышко, будучи хотя и чежолее морских волн, прыгало по ним, однако ж, как пешая саранча»36. Насмерть перепуганный иеромонах, «видя перед собою почти живую смерть и себя почитая в царстве мертвых», тем не менее прежде всего думал о том, как бы нечаянно не лишиться зашитых в воротник кафтана червонцев, и, сетуя на свою горькую судьбу, винил во всем управлявших судном турок за то, что они, «по нещастию нимало не разумеющие мореплавания, отпустив корабль на волю …Борея, принялись за глупые свои молитвы, тщетно полагаясь на Магомета»37.
Мелетия, до путешествия в Святую землю ни разу в море не ходившего, разгул морской стихии поразил своей мощью и свирепостью. Неизгладимые впечатления от шторма на Черном море на подходе к Босфору он передал ярко и талантливо: «Ветер увеличился до чрезвычайности, помчал нас на подобие быстролетящей птицы; море, воскипев, ужасно свирепствовало, и горами подобныя волны его, корабль, то вверх, как бы на воздух, то вниз, аки в пропасть бросали. И как сие, так равно безпрерывное поворачивание его с боку на бок, колебание мачт, скрып, перерывание снастей, треск и звуки со взливающеюся… на корабль водою, не малой страх и опасность нам причиняли»38. Несколько пережитых священноиноком морских бурь были столь неистовыми, что во время одной из них его попутчики в отчаянии рыдали, моля «Бога о избавлении от потопления», а сам Мелетий, полуживой от морской болезни, переносил ураган стоически и, по его словам, «страхом, уповая на милость Божию… не был поражен»39.
Не меньшим тяжким испытанием морского плаванья был сильный встречный ветер и изнуряющий штиль. Корабль Леонтия, направлявшийся из Палестины в османскую столицу, из-за противного ветра достиг Дарданелл только через три долгие недели40. Однако «сущим горем в море», по суждению Леонтия, была именно «долговременная тишина», когда судно, согласно его витиеватому сравнению, «собой представляет томящагося при смерти либо мертваго человека, если не живую, но уже довольно старую бабу, обвесившую все своя органы на своем шкелете»41.
Намыкавшись на море, «беды приемлюще»42, и добравшись до долгожданной земли, которая, по словам Леонтия, была «светла как луна»43, вконец измотанные паломники узнавали, что пристать к берегу невозможно, и они должны переправляться на сушу на лодках с неглубокой осадкой. Так, акватория у Яффы имела опасный рельеф дна с рифами и отмелями, о чем пишет Мелетий: «Корабли по неудобности места близко к городу не подходят, но далеко в море останавливаются на якорях»44. Такими же неприспособленными для швартовки крупных морских кораблей были гавани Рашида (Розетты) и Думьята (Дамиетты) – узловых пунктов на «египетском отрезке» паломнического маршрута.
Упомянем еще один соленый водоем, который оставлял неизгладимый след в памяти богомольцев, – Мертвое море – связанное с ветхозаветным прошлым (истреблением Господом нечестивых жителей Содома и Гоморры и спасением Лота с дочерями). Мелетий, углубляясь в стародавние времена, напоминает читателям о жене Лота, превращенной в «столб сланый», который, как он пишет, «у Арапов как Христианских, так и Магометанских… в памяти неизглажен». И далее он рассуждает о географии этого бессточного озера и его солености: «Оное никуда далее себя истоку не имеет. Всегдашнее же вхождение в него Иорданских вод, не иначе в равномерности его содержит, как точию извлечением из него воздухом воды в облака, орошающия тамоштия земли. Море сие премножество в себе соли имеет, так что… к полуденному его краю (на южной стороне. – С.К.) можно оное по наседшейся соли поперек переехать на верблюде, которому глубины не более будет как по колена»45.
По-иному воспринимается российскими богомольцами пресная вода – источник жизни и символ благодати. Те паломники-писатели, которые добирались до Палестины через Египет, первым делом пишут о Ниле. Леонтий начал описание великой водной артерии с присущей ему высокопарностью: «С начала душеполезной моей перегринации, хотя я не приметил… в себе никаковаго любопытства, однако в Египте… нечувствительно вкралась в мою голову странная нашей братии охота примечать изредка слова, дела, вещи и места, заслуживающие наше внимание, из коих первое было место, земляная дельта, коя одному боговидцу Моисею едва известно, когда именно написанная природой вместо пера водою на земли в самом том месте, где… славнейшая в свете река Нил впадает в Средиземное море двумя устьями, исключая малые ея ручьи (рукава. – С.К.)». Далее, оставив выспренний слог, иеромонах переходит к топографии низовий Нила, свидетельствуя, что его межеустье своей конфигурацией напоминает «греческую букву дельта» или на «славенское добро» (буква Д)46.
Нил у Леонтия ассоциируется прежде всего с развитым в его долине земледелием, состояние которого напрямую зависит как от природных факторов, так и от человека. Плывя из Каира в Думьят вдоль «длинных на наши нивы похожих гряд, зимой и летом покрытых пашнями… Нилом зделанных на песках с ила безподобных равнин, трудом жителей совершенно обработанных», он фиксирует свои впечатления: «Хотя ниловские поля и дважды в год поливает Нил от себя в два разлития от излишества вод своих, однако оныя верно позасыхали б, если б земледельцы не поливали их из того ж Нила, растворяя теплыя его воды горячим своим потом вместо дождя, коего Египет мало когда видит, хоть в нем и всегда зимует наше малороссийское лето»47.
Пресную воду паломники-писатели оценивали педантично и тщательно: мимо их внимания не проходят ни ее вкус, ни запах, ни цвет, ни температура, ни свежесть или затхлость, ни прозрачность или загрязненность. Так, согласно суждению Леонтия, нильская вода «беломутная, но ни чьему здоровью не вредная»48.
Богомольцы дружно восторгались превосходными вкусовыми качествами воды из реки Иордан, где принял крещение Иисус Христос, а иные утверждали, что она чиста и прозрачна, к числу которых относился и Мелетий: «Вода в Иордане чиста, легка и вкусна. Все поклонники берут оною в сосуды и отвозят в домы свои»49. Однако это следует признать очевидным преувеличением. Еще игумен Даниил, автор первого дошедшего до нас отечественного письменного памятника о странствовании на христианский Восток (XII в.), писал, что она «сладка вельми, и несть сыти пиющим воду ту святую», однако она «мутна»50. Место крещения Спасителя располагается в низовьях реки Иордан, где воду вряд ли можно назвать кристально чистой, а в период дождей она и вовсе помутневшая и коричневатого цвета. Леонтий, впервые побывавший на Иордане ранней осенью и с напрягом перебравшийся на другой берег (отмели, где «не было воды по пояс», перемежались с глубоководьем, где его сносило стремительное течение), записал в дневнике: «В святопочитаемой реке Иордане вода мутна, потому что грунт ея больше иловат, нежели пещан, а где каменной, там она больше быстра, нежели глубока»51.
Находясь в Иерусалиме, масса паломников стремилась посетить Силоамскую купель, где, согласно Евангелию от Иоанна, омывшись, слепорожденный благодаря явленному Иисусом Христом чуду прозрел, и зачерпнуть из нее святую воду. Однако на исходе XVIII в. достопамятная Силоамская купель являла собой унылое зрелище. По свидетельству Мелетия, пить из нее воду стало небезопасно: «Она ныне испорчена, поелику тут напояют овец и измывают бумажныя ткани… что я сам видел»52.
Паломники-писатели живо интересуются всем, что связано с «водной темой». Так, у Мелетия мы обнаруживаем информацию о городском водоснабжении, акведуках и подземных водопроводных трубах, водонапорных башнях, колодцах, цистернах для хранения дождевой воды, искусственных водопоях и системе ирригации53.
Мечта о животворной воде и ее критический недостаток служат исходным пунктом при восприятии богомольцами пустыни Ближнего Востока как безводного пространства, лишенного растительности. Захватывающее дух описание пустынного ландшафта включено в пространный рассказ Леонтия о его путешествии «безмернаго труда»54 из египетской столицы на Синай, в монастырь святой Екатерины, и обратно. Пустыня воспринималась священноиноком как «пещаное море», «песчаная пучина»55 или «необитаемая… пустая и безводная степь», в которой нет ничего, «кроме песку… [и] едкой пыли… как горстью сыплемой в глаза», в которой не могут водиться «ни звери, ни птицы за неимением ни лесу, ни воды», и где не бывает «ни снегу, ни дозжа», отчего «тщетно… кому вздумается там искать дремучаго лесу дубоваго, березовых густых рощ, садов, наполненных… райскими деревами, кои от бремени редчайшаго вкуса плодов их покрывающих все приклонены до земли»56. Безжизненными, под стать окружающему бесплодному пейзажу, показались вначале Леонтию встречавшиеся на пути кустарники верблюжьей колючки. Характеризуя диковинное растение, он сравнивает его с понятной ему флорой и фауной57. «Сухообразные те деревянные шкелеты» иеромонах счел похожими «на наши яблони», а едва различимые на ветках листики – на «мышьи уши». Это растение, продолжал иеромонах, можно уподобить «по бодистым (острым, колючим. – С.К.) его хотя и деревянным иглам… ежели не лесному, то морскому ежу, поелику у морскаго ежа не столь костяные осты, как у леснаго»58. Переход по засушливой местности, своей пустотой и безлюдьем приводящей в «ужас всякаго проходящаго», сопровождался «тяготами… дневного… нестерпимаго зноя», когда беспощадное «арапское солнце… не светит, но жжет как огнем»59, и неукротимой жаждой, когда притороченная к верблюжьему седлу «черепяная бутылия» была уже наполовину пуста, а впереди предстоял шестичасовой марш-бросок до следующего источника воды60. Во время ночлега путешественников докучал сыпучий песок, от которого было невозможно укрыться. Леонтий так описывает ночевку на подступах к Красному морю: «[Мы] поклали свои торбы в возглавие себе, все поуснули на месте оном, и где ж недолго спали за ветром, дышушчим всю ночь ужасно песком, кой нас… [так] толсто засыпал, что мы, лишь с полуночи тронувшись, едва всяк нашел себя как заживо погребенного в песке мертвеца, но в три минуты воскресшаго на верблюде»61.
Не раз, странствуя по бескрайней пустыне, Леонтий, когда силы были на пределе, приходил в отчаяние и молил Бога уберечь его от «малодушья бури»62, и не было предела его ажитации, когда взору открывались обжитые места. Так было на подходе к долгожданному Суэцу, когда вдали замаячили «верьхи мачт кораблей, покрывавших… гавань». «Недавно умирающий дух мой, – описывал свое воодушевление иеромонах, – толико оживотворился, что и немного пожилая плоть моя обновилась, яко юность нестараго орла; и от сих то двух благ… родилась в душе моей неизреченная радость»63.
Перемещаясь в ином географическом ареале и сталкиваясь с природными и температурными условиями, кардинально отличающимися от привычных, паломники-писатели сравнивали климат иноземья с погодой в родных местах. К примеру, Леонтий, будучи на Красном море, делает пометку: «Египетская зима в теплоте не уступит нашему лету»64. Не могли российские богомольцы оставить без внимания и погодные аномалии. Так, Мелетий, находясь в Иерусалиме в марте 1794 г., зафиксировал в своем дневнике, что в Святом граде разразилась редкостной силы гроза с порывистым ветром, дождем, снегом и градом величиной с горошину, что не случалось там уже как 40 лет65. Он же упоминает о случившейся в Иерусалиме за несколько лет до его приезда в Палестину лютой стуже, во время которой погибло множество «разноверных убогих людей»66.
За методично фиксируемыми в «Хождениях» достоверными географическими реалиями, которые перемежаются описаниями природы, порожденными разыгравшимся воображением, отчетливо просматривается свойственная религиозно ориентированному теоцентричному мировосприятию ценностная система координат, согласно которой, с одной стороны, мироздание членится на светлую и темную сферы, а с другой – признается зависимость всего сущего от Божественного промысла («Все в руце Божией»). В восходящей к Ветхому Завету картине мира, устроенного по заданным Творцом законам, все движимо Божьей волей, включая созидательные и разрушительные силы природы. Гнев Господин карает зло, порожденное прегрешениями человеческими, как это произошло с Содомом и Гоморрой. Такие проклятые Вседержителем места, так и попущением Всевышнего опустевшие, заброшенные и испепеленные «подобными огню солнечными лучами»67 края, противопоставляются землям, отмеченным благодатью Божьей и его благоволением.
Первостепенным по значимости пространством в этом отношении выступает Святая земля Палестины – место действия героев библейских сказаний и земного бытия Иисуса Христа. Природа – неотделимая часть этого сакрального пространства, а посвященные ей нарративы подчас сопровождаются легендарно-библейскими реминисценциями, а если они и не вербализированы, то явственно ощущаются. Образцом сакрального восприятия Палестины служит проникновенный отрывок из «Путешествия во Иерусалим» Мелетия – славословие в адрес реки Иордан как «участника» священной истории: «Благословенный Иордан сколько ни знаменит есть по прехождению в нем по суху сынов Израилевых со Иисусом Навином, такожде Илии и Елиcсея, по очищению Нееманову от проказы и других чудесностях, воспоминаемых в Ветхом Завете; но всего более и преславнее просиял крещением во струях своих Сына Божия, при котором трисолнечное Божество открылось вселенной, Сын крещался плотию, Дух Святый в виде голубине (голубя. – С.К.) осенял его, Отец с небеси испустил глас: “Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих”»68.
Богатство и изобилие природы ближневосточного региона, как оно живописуется российскими паломниками-писателями, отчетливо вписывается в образ Святой земли как земного воплощения рая, благословленного Устроителем всего существующего. При этом на первый план выступает образ рая как Эдема, имеющего географическую локализацию «на востоке»69. Еще игумен Даниил, оставивший описание Святой земли, видел в ней и в ее природе «райские» черты. Странник Даниил был сдержан и немногословен, признавая, что пишет он «не хитро, но просто»70. Однако, когда речь заходила о колыбели христианства, он, не сдерживая перехлестывавшие его эмоции, возглашал: «И ныне поистинне есть земля та Богом обетованна и благословена есть от Бога… Несказанна есть земля та… красотою и всем добром»71.
Спустя шесть веков паломники-писатели, не скрывая восторга, продолжали славить Святую землю. Она как авансцена библейских событий выдерживает сравнение с раем у Мелетия, когда он пишет о ее «доброй… для паствы (выпаса. – С.К.) скота» и «к возделыванию» земле, приносящей «великой урожай», о дивных дарах природы, «плодоносных и сладкоуханных» деревьях, «благотворительной природе» с ее «рощицами и пролесками»72.
Однако сакральный образ Земли обетованной, как он подается на страницах «Хождений» Леонтия и Мелетия, выглядит, скорее, как чарующий, но ускользающий мираж, порождающий острую ностальгию по давно минувшим дням.
На Леонтия, созерцающего красоты «святославной Иордан реки»73 и вслушивающегося в «журчание ручаев приснохолодной воды, быстротекущой из ключей, изригаемых каменными превысокими горами», нахлынули грустные мысли о запустении некогда цветущего края, где ныне обитают «одни дикие пастухи, скотина и звери»74. Иеромонах спросил проводника, человека непритязательного и бесхитростного: «Зачем… столь тучная, равно к хлебопашеству и к скотоводству удобная земля не населена трудолюбивым народом, как то была в старие времена?» На прозвучавший почти риторически вопрос был получен лаконичный ответ: «Не велел Бог быть иначе, благоволивый тако»75.
Мелетий побывал на Ближнем Востоке через 30 лет после Леонтия. В завершающую часть своего «Путешествия во Иерусалим» он поместил гимн в честь Святой земли, начав свое славословие в настоящем времени и завершив его в прошедшем: «В разсуждении же всей Палестины излишне упоминать о произрастаниях и изобилии оной, поелику никто, кроме вольнодумческих суетных умов, о том не противоречит, что бог шествующему из Египта Израильскому народу страну сию предлагает как полную трапезу, кипящую медом и млеком. Пшеница, ячмень и проч. раждались тамо до преизобилия; винограды, смокви, масличния и другия плодоносныя древа покрывали землю, так что в мирное царство Соломоново все люди жительствовали под виноградами своими и под смоковницами, ядуще и пиюще без печали»76. Деструктивная деятельность человека стала причиной экологических проблем еще в незапамятные времена. «Окрестность Иерусалимская, как и другие места, – читаем у Мелетия, – при пагубном Титовом пленении Иерусалима77 была вся опустошена; леса, рощи и сады вырублены, и тогда лишились поток Кедрский всех своих осеняющих кедров, Елеон же маслин»78. Иеромонаха переполняет чувство горести и сострадания, когда он думает о постигшей Палестину незавидной судьбе: «К жалости, вся почти обетованная земля ныне остается без возделования и опустошается от необузданных своих жителей, которые за лучшее поставляют жить грабительством и терпеть скудость, нежели от трудов быть в довольствии»79. Однако под каким бы углом зрения российские паломники-писатели не смотрели на Святую землю – «естествоведческим», духовным, историческим или бытийным, она неизменно была для них отмеченной печатью сакральности родиной христианства.
1 О теоретико-аналитическом подходе к анализу эго-документов см.: Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte / Hrsg. W. Schulze. Berlin, 1996; Touching the Past. Studies in the Historical Sociolinguistics of Ego-documents / eds M.J. van der Wal, G. Rutten. Amsterdam; Philadelphia, 2013.
2 Леонтий (архимандрит). История жизни младшего Григоровича. Т. 1–3 // Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 152. Библиотека Азиатского департамента. Оп. 505. Не ранее 1763 г. Д. 4 (Т. 1); 1765 г. Д. 7 (Т. 2); 1765 г. Д. 8 (Т. 3). О Леонтии см.: Попов А.П. Младший Григорович. Новооткрытый паломник по св. местам XVIII века. Кронштадт, 1911. Краткая информация о Леонтии содержится в предисловии к публикации извлечений из «Истории жизни младшего Григоровича»: Перминов П.В. (псевдоним П.В. Стегния). История жизни младшего Григоровича (отрывки) // Путешествия в Святую Землю. Записки русских путешественников XII–ХХ вв. М., 1994. С. 300–318. В романе П.В. Стегния о российском резиденте в Стамбуле А.М. Обрескове Леонтий выведен в качестве одного из главных героев: Перминов П.В. Посол III класса. M., 1992.
3 А.Д. (Дмитриевский А.А.) Критика и библиография: Прот. А.П. Попов. Младший Григорович. Новооткрытый паломник по св. местам XVIII века // Сообщения Императорского Православного Палестинского общества. 1911. Т. 22. С. 480, 477.
4 Болховитинов Е. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. М., 1995. С. 213.
5 Путешествие во Иерусалим Саровския Общежительныя Пустыни Иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. М., 1798. Краткую информацию о нем см.: Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрьский период). М., 1973. С. 85–86; Кобищанов Ю.М. Встреча христианских цивилизаций в святых местах Палестины и Египта (глазами русских паломников XV–XVIII веков) // Богословские труды. Сб. 35. К 150-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме (1847–1997). М., 1999. С. 202–203. Показательно, что Мелетий, как и Леонтий, присутствует в самой пространной на данный момент аннотированной библиографии трудов русских путешественников по христианскому Востоку, составленной американскими славистами Т. Ставру и П. Вейсенселем: Stavrou T.G., Weisensel P.R. Russian Travelers to the Christian East from the Twelfth to the Twentieth Century. Columbus, 1986 (о Мелетии – p. 129–130; о Леонтии – p. 82–83).
6 По словам Н.Г. Чернышевского, книга Мелетия – это «компиляция из прежних путешествий, уже бывших известными русской публике» (Чернышевский Н.Г. Путешествие А.С. Норова // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: в 15-ти т. Т. II. М., 1949. C. 518).
7 Путешествие во Иерусалим… С. 310. При цитировании источников в целом сохранены грамматика, стилистика и пунктуация оригинала. Однако в ряде случаев мы сочли необходимым установить последовательность в слитном и раздельном написании слов и скорректировать пунктуацию по смыслу.
8 Померанец, или бигарадия, – горький апельсин.
9 Мушмула, или локва, – плоды с приятным кисловатым вкусом употребляются в пищу в свежем виде.
10 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 375; Путешествие во Иерусалим… С. 62, 70, 77, 82, 314, 315.
11 Леонтий. Указ. соч. Т. 2. С. 401.
12 Там же. С. 400.
13 Собирательное «хух» (араб.) на сирийском диалекте означает «сливы», а на египетском и иракском – «персики».
14 Путешествие во Иерусалим… С. 300.
15 Там же. С. 315.
16 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 15.
17 Путешествие во Иерусалим… С. 9.
18 Там же.
19 Там же. С. 21.
20 Там же. С. 23.
21 Там же. С. 31.
22 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 73, 78, 363.
23 Там же. С. 75.
24 «роба зембили» (тур.) – буквально «корзина для одежды».
25 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 380, 382; Т. 2. С. 161 и др.
26 Там же. Т. 1. С. 363.
27 Путешествие во Иерусалим… С. 134, 143.
28 Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам Востока. Ч. I. 1723–1727 гг. М., 2004. С. 325.
29 Путешествие во Иерусалим… С. 295.
30 Билад аш-Шам (араб.) – историко-географическая область, включающая территории Сирии, Ливана и Палестины.
31 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 45–46.
32 Путешествие во Иерусалим… С. 318.
33 Леонтий. Указ. соч. Т. 2. С. 220.
34 Там же. С. 76, 77.
35 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 289.
36 Там же. С. 17.
37 Там же. Т. 1. С. 17–18, 13; Т. 2. С. 441, 443–444.
38 Путешествие во Иерусалим… С. 8.
39 Там же. С. 59.
40 Леонтий. Указ. соч. Т. 3. С. 276.
41 Там же. Т. 2. С. 421, 422.
42 Там же. Т. 1. С. 173.
43 Там же. Т. 2. С. 422.
44 Путешествие во Иерусалим… С. 75.
45 Там же. С. 185.
46 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 363–364.
47 Там же. С. 363.
48 Там же. С. 76.
49 Путешествие во Иерусалим… С. 183.
50 «Паломник» – вторая редакция «Хожения» игумена Даниила // «Хожение» игумена Даниила в Святую Землю в начале XII в. СПб., 2007. С. 196.
51 Леонтий. Указ. соч. Т. 2. С. 94.
52 Путешествие во Иерусалим… С. 93.
53 Там же. С. 21, 22, 34, 39, 66–67, 104–105, 152, 187–188, 246, 279–280.
54 Леонтий. Указ. соч. Т. 3. С. 3.
55 Там же. Т. 1. С. 153, 338, 155.
56 Там же. С. 169, 155–156.
57 О ближневосточной фауне в «Хождениях» русских паломников XVI–XVIII вв. см.: Kirillina S. Representations of the Animal World of the Ottoman Empire in Russian Christian Pilgrims’ Accounts (Sixteenth – Eighteenth Centuries) // Animals and People in the Ottoman Empire / ed. S. Faroqhi. Istanbul, 2010. P. 75–97.
58 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 157.
59 Там же. С. 169, 104, 168, 188, 232.
60 Там же. С. 97, 98.
61 Там же. С. 154.
62 Там же. С. 104.
63 Там же. С. 105.
64 Там же. С. 119.
65 Путешествие во Иерусалим… С. 149, 310.
66 Там же. С. 246.
67 Леонтий. Указ. соч. Т. 1. С. 155.
68 Путешествие во Иерусалим… С. 184.
69 «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке» (Быт. 2:8).
70 «Хожение» игумена Даниила. Первая редакция // «Хожение» игумена Даниила… С. 120.
71 Там же. С. 74.
72 Путешествие во Иерусалим… С. 134, 76, 187, 77, 300, 299–300, 309.
73 Леонтий. Указ. соч. Т. 2. С. 94.
74 Там же. С. 97.
75 Там же.
76 Путешествие во Иерусалим… С. 300.
77 Имеется в виду захват города римским императором Титом в 70 г. н. э.
78 Путешествие во Иерусалим… С. 299, 295.
79 Там же. С. 301.
About the authors
Svetlana А. Kirillina
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: s.kirillina@iaas.msu.ru
ORCID iD: 0000-0001-5769-3715
Scopus Author ID: 55587183900
Institute of Asian and African Studies
Russian Federation, MoscowReferences
- A.D. (Dmitrievskij A.A.) Kritika i bibliografija: Prot. A.P. Popov. Mladshij Grigorovich. Novootkrytyj palomnik po sv. mestam XVIII veka [Critique and Bibliography: Protopope A.P. Popov. Grigorovich the Junior. A Newly Discovered Pilgrim to the Holy Places of the 18th Century] // Soobshhenija Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obshhestva [Proceedings of the Imperial Orthodox Palestinian Society]. 1911. Vol. 22. S. 475–480. (In Russ.)
- Bolhovitinov E. Slovar’ istoricheskij o byvshih v Rossii pisateljah duhovnogo china Greko-rossijskoj cerkvi [The Historical Dictionary of the Russian Writers – Clerics of the Greek Orthodox Church]. Moskva, 1995. (In Russ.)
- Chernyshevskij N.G. Puteshestvie A.S. Norova [The Journey of A.S. Norov] // Chernyshevskij N.G. Poln. Sobr. Soch. [Сomplete Works]: v 15 vols. Vol. II. Moskva, 1949. S. 517–543. (In Russ.)
- Dancig B.M. Blizhnij Vostok v russkoj nauke i literature (dooktjabr’skij period) [The Middle East in Russian Scholarship and Literature (Pre-October Period)]. Moskva, 1973. (In Russ.)
- Grigorovich-Barskij V.G. Stranstvovanija po svjatym mestam Vostoka [The Wanderings to the Holy Places of the East]. Pt. I. 1723–1727. Moskva, 2004. (In Russ.)
- “Hozhenie” igumena Daniila v Svjatuju Zemlju v nachale XII v. [The Pilgrimage of Abbot Daniel to the to the Holy Land in the Early 12th Century] / izd. podg. O.A. Belobrova, M. Gardzaniti, G.M. Prokhorov (otv. red.), I.V. Fedorova. Sankt-Peterburg, 2007. (In Russ.)
- Kobishhanov Ju.M. Vstrecha hristianskih civilizacij v svjatyh mestah Palestiny i Egipta (glazami russkih palomnikov XV–XVIII vekov) [An Encounter of Civilizations in the Holy Places of Palestine and Egypt (through the Eyes of Russian Pilgrims of the 15th–18th centuries)] // Bogoslovskie trudy. Sb. 35. K 150-letiju Russkoj Duhovnoj Missii v Ierusalime [Theological Works. Collection 35. On the 150th Anniversary of the Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem]. Moskva, 1999. S. 197–204. (In Russ.)
- Perminov P.V. Istorija zhizni mladshego Grigorovicha (otryvki) [History of the Life of Grigorovich the Junior (Fragments)] // Puteshestvija v Svjatuju Zemlju. Zapiski russkih puteshestvennikov XII–XX vv. [Travels to the Holy Land. Accounts of Russian Travelers of the 12th –20th Centuries]. Moskva, 1994. S. 300–318. (In Russ.)
- Perminov P.V. Posol III klassa [Ambassador of the III Rank]. Moskva, 1992. (In Russ.)
- Popov A.P. Mladshij Grigorovich. Novootkrytyj palomnik po sv. mestam XVIII veka [Grigorovich the Junior. A Newly Discovered Pilgrim to the Holy Places of the 18th Century]. Kronstadt, 1911. (In Russ.)
- Puteshestvie vo Ierusalim Sarovskija Obshhezhitel’nyja Pustyni Ieromonaha Meletija v 1793 i 1794 godu [The Journey to Jerusalem of Priest-Monk Meletiy of the Sarov Cenobitic Pustyn in 1793 and 1794]. Moskva, 1798. (In Russ.)
- Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte / Hrsg. W. Schulze. Berlin, 1996.
- Kirillina S. Representations of the Animal World of the Ottoman Empire in Russian Christian Pilgrims’ Accounts (Sixteenth – Eighteenth Centuries) // Animals and People in the Ottoman Empire / ed. S. Faroqhi. Istanbul, 2010. P. 75–97.
- Stavrou T.G., Weisensel P.R. Russian Travelers to the Christian East from the Twelfth to the Twentieth Century. Columbus, 1986.
- Touching the Past. Studies in the Historical Sociolinguistics of Ego-documents / eds M.J. van der Wal, G. Rutten. Amsterdam; Philadelphia, 2013.
Supplementary files