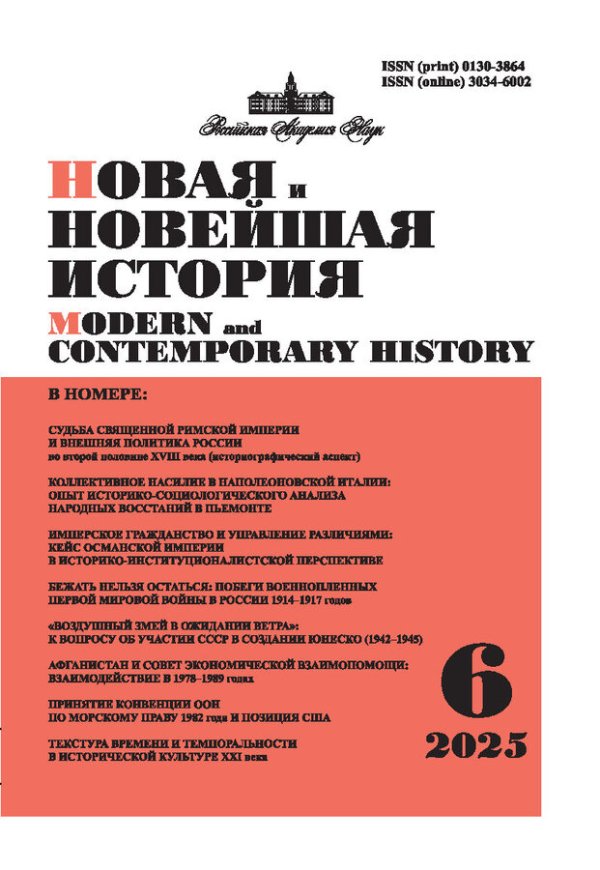“Let us conclude then the articles of peace...”: the naval strategy of the Russian empire and the formation of Russian-Moroccan relations in the second half of the eighteenth century
- Authors: Orlov V.V.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 92-102
- Section: Modern history
- URL: https://medbiosci.ru/0130-3864/article/view/273510
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424060074
- ID: 273510
Cite item
Full Text
Abstract
The author’s objective is to trace the principal stages of the genesis and evolution of the Russian maritime strategy in the context of the active expansion of its naval forces under Peter I and the deployment of the Archipelago expedition by Catherine II (1769–1775). The aim of this study is to evaluate the impact of these developments on the geoeconomic landscape. In addition, this study examines the geopolitical situation of the Russian Empire following the Russo-Turkish War (1768–1774). It also investigates how ruling circles in Alawi Morocco responded to the emergence of the Russian Navy in the Mediterranean, which had the effect of limiting the naval power of the Ottoman state. The article elucidates the multifaceted political, economic, and military circumstances that precipitated the Sultan of Morocco, Sidi Muhammad ibn Abdallah (1757–1790), to pursue the opening of his country to extensive foreign trade. However, given the weak commodity flows and the economic inexpediency of maintaining large formations of the Russian Navy in the Mediterranean, the initial stage of Russian-Moroccan relations was limited to the exchange of letters and messages. Consequently, the demise of Sidi Muhammad (1790) and Catherine II (1796) brought an end to the development of this project. The author addresses the issue of the veracity of the Russian-Moroccan peace and trade treaty of the eighteenth century, examining the arguments that suggest it was in fact never signed. However, even if it were to be proven that the treaty was drafted, the fulfilment of its hypothetical provisions would present a significant challenge for both parties.
Full Text
На карте внешнеполитических интересов Российской империи Марокко (Дальний Магриб) стало отчетливо прорисовываться в середине XVIII столетия. Набор смутных и фрагментарных представлений о североафриканских землях и их значимости для Османского государства существовал в Русском царстве, по всей видимости, еще во времена Смуты и воцарения Романовых. Однако отдаленность Африки от русских рубежей и ожесточенное противоборство с османами на причерноморских территориях не оставляли московским государям возможности планировать и проводить последовательную внешнюю политику в Магрибе. Стратегические задачи Москвы были связаны главным образом с обороной южных рубежей государства, а соответствующие военные и политические усилия царей сосредоточивались в низовьях Волги, Приазовье и в плодородных степях Дикого поля, разделявших Русское царство и вассальное османам Крымское ханство.
Активное строительство военно-морского флота при Петре I и основание новой балтийской столицы-порта продемонстрировали наличие у России многообразных интересов на морях. Но Марокко не находилось в фокусе такого интереса.
В первой половине XVIII в. единственный доступный маршрут, соединявший Санкт-Петербург со Средиземноморьем, проходил через Балтику, Северное море, Ла-Манш и Гибралтарский пролив. Отдельные российские корабли, следуя балтийско-атлантическим путем, посещали порты Испании и Северной Африки.
Первый раз российский корабль под государственным флагом совершил плавание по Средиземному морю в 1717–1719 гг. Это был 50-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Армонт», принимавший участие в Северной войне. Его коммерческий рейс проходил через средиземноморские порты Испании, Ливорно и Венецию. В 1725 г. в испанский порт Кадис прибыла эскадра из трех российских кораблей под командованием капитана 3-го ранга И.М. Кошелева, также с торговой миссией. По ее итогам Кошелев в мае 1726 г. именным указом Екатерины I был произведен через один чин в капитаны 1-го ранга. Как отмечалось в журнале Адмиралтейств-коллегии (№ 2778, 17 мая 1726 г.), такого отличия он удостоился, «понеже он в Испании с российскими кораблями был первый»1. В 1754 г. итальянское судно «Мадонна де ла Грациа» осуществило под российским флагом грузопассажирские перевозки между Алжиром и Александрией. Через три года российский подданный капитан Франкович на другом корабле повторил этот маршрут2.
Уже в первые годы правления Екатерины II российский флот приступил к плановому и разностороннему исследованию как военно-политических, так и экономических условий навигации в Средиземном море. Так, в 1763–1764 гг. в России был построен 34-пушечный фрегат со знаковым названием «Надежда Благополучия». Согласно «Ведомости о кораблях и других судах, 26 августа 1764 года» он специально строился «для посылки в Медитеранское море»3. В 1764–1765 гг. новый корабль совершил по следам «Армонта» коммерческий рейс по итальянским портам. В документах екатерининской эпохи «Надежда Благополучия» также нередко называлась «Володимеров фрегат» по имени тульского купца Ивана Владимирова.
Этот предприимчивый коммерсант совместно с группой земляков (Ларионом Лугининым, Михаилом Пастуховым и Михаилом Грибановым) в сентябре 1763 г. обратился к императрице с ходатайством. Туляки просили Екатерину покровительствовать их инициативе по проведению пробного торгового рейса в средиземноморском регионе. «Уведомились мы, – отмечали тульские торговцы, – от статского действительного советника господина Теплова, что Ваше Императорское Величество, имея попечение матернее о благоденствии своих подданных, желаете, чтобы купечество Российское имело торг в Средиземном море из Санктпетербурга»4. Как установил П.И. Бартенев, опубликовавший этот примечательный документ, в ответ Екатерина II распорядилась «компании быть под нашим единственным ведением». Более того, она согласилась в течение первого года миссии оплачивать содержание корабля за государственный счет («фрегату быть на нашем содержании всем экипажем и командою»), оставив «пользователям государственных услуг» только оплату фрахтов. Наконец, императрица в своих пометках одобрила предложение просителей о том, что «сие предприятие будет служить только опытом на будущее время торгу государственному», и даже отозвалась на их настояние, чтобы фактору компании5, казанскому купцу Пономареву, были приданы профессиональные переводчики («Теплов приискать имеет способных и надежных людей»)6.
Хотя боевой корабль был зафрахтован исключительно для торговых нужд, им командовал многоопытный и решительный морской офицер Ф.С. Плещеев, произведенный в ходе предприятия в капитаны 1-го ранга7. Впоследствии ему было суждена героическая гибель на корабле «Святой Евстафий Плакида» – в ходе взаимного абордажа с османским флагманом «Бурджи Зафер» в проливе Хиос, что предопределило успех российского флота в Чесменском сражении (1770). В офицерском составе экипажа фрегата находились будущие участники Архипелагской экспедиции: В.П. Фондезин, П. Аничков, И. Арцибашев и др8. Моряки «Надежды Благополучия» перед отплытием отработали полный курс военно-морской выучки9. Кроме того, как можно предположить, Плещеев и Пономарев получили и ряд заданий, об исполнении которых они сообщали не в Тулу, а в Адмиралтейство. Наконец, о торговле тульских коммерсантов позаботилась Коллегия иностранных дел: российский посланник в Вене князь Д.М. Голицын обратился к правительствам итальянских государств с предложением оказать поддержку частному рейсу «Надежды Благополучия». В итоге Санкт-Петербург получил от Неаполя и Тосканы не только уверения в благонадежности, но и предложения о заключении торговых трактатов и открытии консульских учреждений России10.
Все эти обстоятельства, и особенно деятельное участие в подготовке рейса со стороны близкого сподвижника и статс-секретаря императрицы Г.Н. Теплова, ясно свидетельствуют о том, что активизация торговых связей с Апеннинами позволила российскому флоту осуществить длительную разведывательную миссию. Торговый персонал «Надежды Благополучия», находясь преимущественно в порту Ливорно, действительно провел множество коммерческих операций, и в сентябре 1765 г. фрегат вернулся к российским берегам, груженный европейскими товарами11.
Разведывательные задачи решались в ходе неоднократных стажировок российских военных моряков за рубежом. Так, в августе 1762 г., как отмечал «Указ правительствующего сената Адмиралтейств-коллегии», по согласованию с «Е.В. королем великобританским» началась подготовка группы молодых российских дворян – «способных к обучению и в поведении надежных» офицеров и обер-офицеров флота – к отправке в Лондон для определения на корабли и прохождения морской практики12. По данным «Списка отправленным в Англию офицерам и кто за оным отправлением здесь остались» от 12 декабря 1762 г., среди унтер-лейтенантов, участвовавших в этой миссии, был и Тимофей Гаврилович Козлянинов (Козлеинов, Козланов)(1740–1798) – впоследствии видный российский флотоводец, участник Архипелагской экспедиции, вице-адмирал, близкий к екатерининскому двору13. Т.Г. Козлянинов в 1765–1768 гг. (совместно с Н.С. Скуратовым, М.Г. Коковцевым и другими морскими офицерами) стажировался и во владениях Мальтийского ордена. На мальтийских верфях и в составе местных экипажей им предписывалось осваивать новейшие приемы кораблестроения и навигации. На деле предметом их интереса были состояние гаваней и крепостей, выяснение глубин, сезонной ветровой обстановки и другие тактические и технические особенности организации боевого похода в Средиземном море14.
Начиная с лета 1768 г. правительство Екатерины II начало в обстановке секретности собирать Первую средиземноморскую эскадру под командованием А.Г. Орлова и адмирала Г.А. Спиридова, и все мальтийские стажеры организованно вернулись на базы флота. Осенью 1768 г. А.Г. Орлов встретился в Ливорно с капитаном «Надежды Благополучия» Ф.С. Плещеевым, после чего последний вернулся в Кронштадт и вступил в экипаж флагманского корабля Г.А. Спиридова «Святой Евстафий Плакида». В 1769 г., уже во время развертывания Первой эскадры, в Гибралтаре было создано нештатное консульство Российской империи. Первым нештатным консулом России на западе Средиземноморья выступил британец Лидс Бут, действовавший в Испании в качестве агента российского влияния. В годы русско-турецкой войны 1768–1774 гг. он, по-видимому, являлся резидентом российской разведки.
Победы русского оружия на сухопутных театрах военных действий и успехи Архипелагской экспедиции поставили военное и дипломатическое ведомства Российской империи в новые геополитические и геоэкономические условия. Ранее России не удавалось достичь свободы судоходства по Черному морю и выхода на средиземноморские рубежи через Проливы. Прутский договор 1711 г. предусматривал развертывание российской торговли с Османской империей по суше, а в Белградском трактате 1739 г. оговаривалось право России вести морскую торговлю по Черному морю, но на турецких судах. В силу этого торговые и экономические интересы России на северо-западе Африки еще не могли обрести отчетливой формы. Однако геополитический посыл ранней постпетровской эпохи состоял в том, что военно-морское присутствие на северо-западе Африки необходимо для свободы российской торговли в Средиземном море15.
Успешное завершение русско-турецкой войны 1768–1774 гг. утвердило российское присутствие в северной части Причерноморья и сняло ограничения в режиме прохождения российскими судами Босфора и Дарданелл. В это же время появились и первые возможности для проекции российских интересов в Магрибе. В частности, Высокая Порта согласилась с развертыванием консульских учреждений Коллегии иностранных дел. Россия получила свободу «иметь пребывание консулам и вице-консулам, которых Российская империя во всех тех местах, где они признаны будут удобными, назначить за благо рассудит»16. Не были забыты и торговые преференции: османская сторона не возражала против заключения российскими купцами и правительством «коммерческих трактатов» в ее североафриканских провинциях (Алжир, Тунис и Триполи). В дальнейших русско-турецких торговых соглашениях 1782 и 1783 гг. это право российского правительства также было специально закреплено в виде отдельных положений17.
Страны Северо-Западной Африки первоначально находились вне фокуса внимания российского Адмиралтейства. Боевые походы российского флота и его успехи (взятие Наварина, Чесменское сражение, блокада Дарданелл, осада Бейрута18 и др.) относились к восточным берегам Средиземного моря. Да и ставка А.Г. Орлова располагалась, по терминологии тех лет, «в Греческом архипелаге» – на о. Парос в Эгейском море. Берега и порты Шерифской империи19 воспринимались российскими моряками, скорее, как этап на пути к решающим сражениям, поскольку все российские эскадры, принявшие участие в экспедиции, проходили близ Танжера. Тем не менее окончание Архипелагской экспедиции в 1775 г. создало благоприятные предпосылки для первых прямых контактов россиян с марокканцами.
В 1770-х годах марокканский султан Сиди Мухаммад ибн Абдаллах предпринял серию внешнеполитических инициатив, направленных на открытие портов и побережья Марокко для иностранцев. Его предки – Алауиты, управлявшие Дальним Магрибом с 1630-х годов, в большей степени были озабочены «собиранием» непокорных провинций и выстраиванием неформальных отношений с их племенными и суфийскими лидерами20. Сам же Сиди Мухаммад, образованный и опытный правитель, еще в 40-х годах XVIII в., будучи наместником в Марракеше, расширил и укрепил порты атлантического побережья, а также завел личные контакты с иноземными купеческими домами21.
Стремясь свести к минимуму деятельность марокканских корсаров, умиротворить воинственные горские племена и преодолеть характерный для Марокко второй трети XVIII в. кризис городской традиции, Сиди Мухаммад сделал ставку на возрождение коммерции и развитие торговых связей Шерифской империи с европейскими странами. Интерес алауитского монарха к внешней торговле во многом обусловливался и желанием усилить бюджет государства за счет таможенных сборов (ава’ид ал-джумрук). Этот источник доходов был связан с многочисленными портами Дальнего Магриба и позволял правительству султана действовать независимо от объема налоговых поступлений из непокорных отдаленных провинций. Кроме того, расцвет коммерческой активности служил восстановлению и развитию городской сети, а также расширению портовых городов. Например, в 1769 г. марокканцы отвоевали у португальцев атлантический порт-крепость Мазаган (Эль-Джадиду), имевший регулярную планировку и укрепленную гавань22. Сиди Мухаммад вскоре начал в городе восстановительные и строительные работы, а вместо европейского населения призвал в Мазаган общинников из местного полукочевого племенного союза дуккала23.
В ходе своего правления Сиди Мухаммад заботился о диверсификации коммерческих партнеров своей страны и поощрял конкуренцию среди христианских держав из-за торговли с Марокко. Так, алауитский султан заключил торговые договоры с Данией (1765), Швецией (1763), Францией (1767) и Португалией (1773)24. Эти соглашения не устанавливали режима капитуляций – правительства европейских стран ежегодно выплачивали султану дань за право торговли в Дальнем Магрибе25. Договоры давали купцам, прибывшим под флагами указанных стран, юридические гарантии и налоговые льготы. Эти меры привели к значительному росту торгового обмена. По подсчетам марокканского историка Мухаммада Салахдина, в 1766 г. из портов Марокко в Марсель пришли 8 кораблей и привезли товары общей стоимостью в 348 790 ливров, что приблизительно соответствовало 545 тыс. марокканских дирхамов. А в 1768 г., т. е. через год после заключения франко-марокканского торгового соглашения, уже 33 корабля привезли в Марсель марокканских товаров на общую сумму в 1,864 млн дирхамов26.
В 1777 г. Сиди Мухаммад ибн Абдаллах продолжил мероприятия по привлечению внешнеторговых партнеров и разослал консулам западных держав в Марокко циркулярные письма, в которых разрешил свободный заход европейских кораблей в марокканские порты. Также монарх-реформатор обратился к иностранным представителям с просьбой оказать содействие заключению мирных и торговых трактатов Шерифской империи со всеми европейскими государствами27. Предложение Сиди Мухаммада стало известно и российскому правительству благодаря посредничеству нештатного консула России в Гибралтаре Лидса Бута. К этому моменту почти все военно-морские соединения, участвовавшие в Архипелагской экспедиции, уже были выведены из Средиземного моря, а последняя небольшая эскадра под командованием капитана 1-го ранга Т.Г. Козлянинова крейсировала преимущественно в северной его части, вблизи итальянских берегов28. Тем не менее Козлянинову было дано, по его словам, высочайшее распоряжение: «В случае встречи моей с судами мароккской империи не только не оказывать им себя неприязнствующим, но паче стараться соблюдать миролюбие и дружбу, вспомоществуя оным в случае какой-либо их надобности… все наши мореходные корабли и суда в рассуждении сего равное со мною имеют повеление»29.
В апреле 1778 г. в порту Ливорно состоялась историческая встреча командира фрегата «Северный Орел» Т.Г. Козлянинова и посланника Шерифской империи в ряде итальянских княжеств Мухаммада ибн Абд ал-Малика. В ходе дипломатических дискуссий стороны уверили друг друга в добром расположении своих государей к заключению мирного и торгового соглашения. Затем они обменялись своего рода меморандумами, где суммировались результаты их переговоров. «В заключение даю вам все сие на письме для вящего утверждения, – писал марокканский посланник начальнику Т.Г. Козлянинова вице-президенту Адмиралтейств-коллегии И.Г. Чернышеву, – дабы вы со всеми нужными обстоятельствами могли донести о том самодержице своей, с которою государь мой желает иметь тоже доброе согласие, какое постановлено им с другими державами. Почему и надеюсь я быть чрез вас приведенным в состояние представить государю моему удовольствительный по сему ответ, когда сие всещедрому и всемогущему Богу угодно будет»30.
В мае 1778 г. на борту российских фрегатов «Святой Павел» и «Постоянство» Мухаммад ибн Абд ал-Малик и около ста выкупленных его посольством в Тоскане мусульманских пленников были отправлены из Ливорно в марокканский порт Танжер. Это был не просто жест доброй воли со стороны российского флота. Высадив пассажиров, российские корабли ожидали официальных посланий султана Екатерине II и вице-президенту Адмиралтейств-коллегии графу И.Г. Чернышеву. Командир «Святого Павла» капитан-лейтенант Н.С. Скуратов заметил в вахтенном журнале, что «во время прибытия в Танжер и отбытия из оного была сделана честь пальбою из города из пушек», а также оценил марокканский обычай выдачи натурального довольствия гостям султана (муна). «В стоянии нашем в Танжере, – писал он, – по соизволению мароккского государя прислано для довольствия на обоих фрегатах служителей быков – 29, баранов – 20, кур – 225, несколько было прислано мукою, хлебом и фруктов лимонами, апельцинами, зеленью, реткою и луком»31. В ходе двухмесячной стоянки российские моряки детально изучили погодные условия, размеры и глубины танжерского рейда, фортификацию города, оставили комментарии о природе, войске, флоте и торговле Дальнего Магриба.
Логистическая поддержка, оказанная российским флотом марокканской миссии в Тоскане, завершилась официальным обменом посланиями между Екатериной II и Сиди Мухаммадом ибн Абдаллахом. В июле 1778 г. марокканский монарх отмечал в письме «Екатерине Алексеевне второй, великой и сильной над всею Москвою»: «Мы уведомились о происходившем между вашим командиром Козляниновым и нашим слугою бен Абдель Малеком и из того усматриваем вашу к нам дружбу (превознесенную по власти Божией), что подало нам великое удовольствие, и по доношению нашего реченного слуги мы посылаем к вам нашу императорскую грамоту в уверении вас о нашем мире и дружбе на земле и на море; и когда ваш посол приедет в наши области, мы тогда заключим и потвердим мирные статьи (с помощью Божиею)»32. В отправленном затем на имя вице-президента Адмиралтейств-коллегии И.Г. Чернышева письме марокканская сторона также предлагала оформить договорные отношения Российской и Шерифской империй: «По прибытии вашего посла в наши области заключим тогда статьи мирные»33. Сходные предложения содержались и в специальной грамоте Сиди Мухаммада, данной в Марракеше 22 июля 1782 г. и предоставлявшей российским подданным в Дальнем Магрибе режим наибольшего благоприятствования. В ответной грамоте, датированной 8 мая 1783 г. и данной в Санкт-Петербурге, российская императрица писала: «Взаимствуя вашим дружелюбным поступкам, не отречемся в пространных областях империи нашей воздавать вам и подданным вашим равное равным, в чем вы совершенно уверены быть можете»34.
Несмотря на столь обнадеживающий обмен посланиями, мирный договор между Россией и Марокко, по всей видимости, так и не был подписан, а намерения обоих монархов не пошли дальше благих пожеланий. Оригинальный текст предполагаемого соглашения неоднократно разыскивался российскими историками (Б.М. Данцигом, Т.Л. Мусатовой, Н.П. Подгорновой) в фондах Архива внешней политики Российской империи. Эти поиски не дали положительного результата. Более того, текст российско-марокканского договора отсутствует и в перечнях договорных актов России с другими государствами, которые включены в «Полное собрание законов Российской империи». Наконец, в рассуждениях о вероятности подписания этого договора действителен argumentum ex silentio, аргумент из умолчания: историкам не удалось разыскать в архивах какие-либо дипломатические источники XIX в., содержащие отсылки к положениям этого договора или хотя бы к факту его существования. В то же время, если бы такой договор обладал юридической силой, он не мог бы не упоминаться в дипломатической документации как правовой фундамент взаимоотношений с Алауитским султанатом.
Слабость мотивации российской и марокканской сторон к подписанию юридически обязывающего документа можно усмотреть и в других исторических обстоятельствах. Это объективные ограничения, существовавшие в екатерининскую эпоху для российской морской торговли, непостоянный характер военного присутствия России в Средиземном море, а также изменения во внешней политике Сиди Мухаммада в последние годы его правления.
Смысл торговых договоренностей с Марокко для России просматривается только в предоставлении судам под российским флагом права заходить в марокканские порты, а также в возможности для российского флота оборонять торговые линии от морского разбоя. Однако логистика российской средиземноморской торговли в конце XVIII в. еще немногим отличалась по своим масштабам от описанных выше разовых плаваний «Армонта» (1717–1719) или «Надежды Благополучия» (1764–1765). Речь шла о редких и нерегулярных перевозках небольших партий товаров или малого количества пассажиров. На уровне межгосударственных контактов игра не стоила свеч.
Проекция военно-морской силы Российской империи также обходилась дорого и порой была нежелательна по оперативно-тактическим соображениям. Так, отряд кораблей Т.Г. Козлянинова, после Архипелагской экспедиции четыре года базировавшийся в южноевропейских портах, в 1779 г. был окончательно выведен в порты Балтики. Адмиралтейств-коллегия предполагала в случае нового конфликта с османами повторить успех Архипелагской экспедиции. Однако случилось так, что русско-турецкая война 1787–1791 гг. хронологически совпала с русско-шведской войной 1788–1790 гг. Угроза с моря для имперской столицы оказалась настолько значительной, что в Санкт-Петербурге было принято решение сосредоточить все силы флота под командованием С.К. Грейга в Балтийском море35.
Кроме того, рост расходов марокканского престола заставил Сиди Мухаммада пересмотреть условия допуска иностранных коммерсантов на марокканский рынок. В первой половине правления Сиди Мухаммада суммы, вырученные от ввозных тарифов, удовлетворяли большую часть нужд султанской администрации36. Однако постепенно султанское правительство повышало ввозные пошлины, местные налоги и якорный сбор. По свидетельству консула Франции в Сале Л. де Шенье, в 1760-х годах тарифы возросли с 8% до 15%, а пошлина на ввоз железа составила от 1/3 до 1/4 его стоимости37. Подсчеты же польского магрибиста А. Дзюбиньского показывают, что к 1781 г. ввозные сборы в Дальнем Магрибе поднялись на 20%, а оплата якорной стоянки в портах – на 50%38. Условия для российской торговли в Марокко к моменту обмена монаршими посланиями (1782–1783) оказались намного менее привлекательными, чем в 60-х годах XVIII в.
Важно и то обстоятельство, что преемники российской императрицы и марокканского султана правили в довольно неблагоприятных для российско-марокканских отношений условиях. Краткое и полное мятежей правление сына монарха-реформатора Мулай Йазида (1790–1792) привело Дальний Магриб к Семилетней смуте, которая завершилась в 1799 г. закреплением на престоле второго сына Сиди Мухаммада – Мулай Сулаймана. Поэтому для султанов-Алауитов торговые привилегии российских подданных или безопасность доставки их товаров не представляли существенного интереса. Внешняя политика Павла I была сосредоточена на Европе, контакты с Марокко сошли на нет.
* * *
Задумываясь о развитии внешнеполитической и военной стратегии России, мы можем назвать столкновение Российской и Османской империй в 1768–1774 гг. первой в отечественной истории широкомасштабной морской войной. На первый взгляд, этот тезис может показаться преувеличением. Конечно, Архипелагская экспедиция, предпринятая российским флотом в 1769–1775 гг., выступила в ходе конфликта с османами лишь в роли вспомогательной боевой кампании. Ее основной целью было растягивание османских фронтов и коммуникаций, организация повстанческих движений в тылу османской армии и отвлечение внимания стамбульского командования от придунайского и черноморского театров военных действий. Тем не менее принятие крупных и засекреченных подготовительных мер, беспрецедентный переход пяти эскадр вокруг Европы, яркое генеральное сражение при Чесме, приведшее противника к катастрофе, и богатый опыт крейсерских операций – все эти черты боевых действий российского флота приличествуют скорее традициям «старых» и опытных морских наций – англичан, французов, испанцев или португальцев. Стремительно введя империю в этот почетный клуб, российские флотоводцы и Екатерина Великая едва ли были готовы немедленно утвердить господство России в Средиземноморском бассейне. Ключевые задачи России по-прежнему были сосредоточены на северном Причерноморье и смягчении режима Проливов.
Однако заключение Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774) и ликвидация преград в судоходстве через Босфор и Дарданеллы имели исторические последствия для российско-марокканских отношений. Cобытия позволили успешно спроецировать интересы России и на западную акваторию Средиземного моря – от Мальты до Гибралтара. Случилось так, что вскоре после окончания Архипелагской экспедиции российские военные моряки осуществили первые межгосударственные контакты России и Марокко. Эти примеры дипломатического и культурного взаимодействия марокканских сановников и российских военных деятелей стали точкой отсчета для дальнейших этапов развития двусторонних отношений.
1 Материалы для истории русского флота. СПб., 1875. Ч. V. С. 329–330.
2 Мусатова Т.Л. Россия – Марокко: далекое и близкое прошлое. Очерки истории русско-марокканских связей в XVIII – начале XX в. М., 1990. С. 12.
3 Материалы для истории русского флота. СПб., 1886. Ч. XI. С. 117.
4 Прошение тульских купцов о торговле в Средиземном море с заметками Екатерины II // Русский архив. 1870. № 4–5. Стб. 542.
5 Фактор – полномочный агент торговой компании, доверенное лицо, материально ответственный посредник, которому поручается продажа товаров.
6 Прошение тульских купцов… Стб. 542–544.
7 См.: Белавенец П. Плещеев, Федор Степанович // Русский биографический словарь: в 25 томах. СПб., 1905. Т. 14: Плавильщиков – Примо. СПб., 1905. С. 117–118.
8 Образцов В. «Надежда Благополучия». Первый екатерининский фрегат в Средиземном море // Родина. 2010. № 2. С. 78–79. См. также: Рукавишников Е.Н. Мифы и реалии в истории плавания фрегата «Надежда Благополучия» (1764–1765 гг.) // Военно-исторический журнал. 2021. № 11 (739). С. 84–93.
9 См.: Гребенщикова Г.А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. Документы, факты, исследования. СПб., 2007. С. 52–54.
10 Уляницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке. М., 1883. С. 97.
11 Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой / под общ. ред. Е.Б. Смилянской. М., 2011. С. 37–38.
12 Материалы для истории русского флота. Ч. XI. С. 7–8.
13 Там же. С. 11–12.
14 Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Указ. соч. С. 34.
15 Россия – Марокко: история связей двух стран в документах и материалах. 1777–1916 / авт. и сост. Н.П. Подгорнова. М., 1999. С. 3.
16 См.: Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). М., 1955. С. 353.
17 Орлов В.В. «Неуклонно стоять на страже Гибралтарского пролива…»: В.Р. Бахерахт и военно-морское присутствие России в Марокко в XIX – начале XX в. // Исторический вестник. 2023. Т. 46. С. 273.
18 См. подробнее: Кобищанов Т.Ю. Крест над Бейрутом: российская экспедиция в Восточное Средиземноморье 1769–1774 гг. в восприятии сирийских современников // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2009. № 1. С. 9–16; № 2. С. 3–22.
19 В Европе (и позже в России) Марокко до середины XX в. именовали «Шерифской империей», поскольку правившие в этой стране династии Саадидов (1511–1659) и Алауитов (с 1631 г. по настоящее время) являлись шерифскими, т. е. вели свое происхождение от пророка Мухаммада.
20 Соловьева Д.В. Марокканский султан Сиди Мухаммад бен Абдаллах (1757–1790 гг.): проблемы трактовки теологического наследия // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 2018. № 3. С. 104–105.
21 Deverdun G. Marrakech. Des origines à 1912. Vol. 1. Rabat, 1959. P. 475; Grillon P. Un Chargé d’Affaires au Maroc. La correspondance du consul Louis Chénier, 1767–1782. Vol. 1. Paris, 1970. P. 31.
22 Jackson J.G. An Account of the Empire of Morocco and the Districts of Suse and Tafilelt, Compiled from Miscellaneous Observations Made during a Long Residence in, and Various Journeys through, these Countries to which is Added an Account of Shipwrecks on the Western Coast of Africa, and an Interesting Account of Timbuctoo, the great Emporium of Central Africa. London, 1814. P. 43.
23 Terrasse H. Histoire du Maroc des origines à l’établissement du protectorat français. Vol. 2. Casablanca, 1950. P. 295.
24 См.: Caillé J. Les accords internationaux du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah (1757–1790). Tanger, 1960.
25 Ан-Насири, Абу-л-Аббас Ахмад ибн Халид. Китаб ал-истикса ли ахбар дуввал ал-Магриб ал-акса (Книга изучения сведений о династиях Дальнего Магриба) (на араб. яз.). Т. 8. Касабланка, 1956. С. 34.
26 Salahdine M. Maroc: tribus, makhzen et colons. Essai d’histoire économique et sociale. Paris, 1986. P. 27.
27 Мусатова Т.Л. Указ. соч. С. 16. Немалое значение для «политики открытости» марокканского монарха имели его опасения перед османским влиянием в Магрибе. Данный подход был характерен и для правящих кругов других арабских стран Средиземноморья. См.: Жантиев Д.Р. Два образа младотурецкой революции: общественная реакция в Бейруте и Дамаске на революционные события 1908 года в Османской империи // Новая и новейшая история. 2023. № 1. С. 63–64. DOI: 10.31857/S013038640021317-6
28 Орлов В.В. Марокко и российский Военно-морской флот: три века контактов // Труды Института востоковедения РАН. Вып. 5. Мусульманский мир на исторических рубежах России / отв. ред. В.Я. Белокреницкий, Н.Ю. Ульченко. М., 2017. С. 114.
29 Письмо командира фрегата «Северный Орел» капитана первого ранга Т.Г. Козлянинова послу Марокко султана Марокко в Тоскане Мухаммеду бен Абд аль-Малеку с сообщением о выраженном императрицей России Екатериной II пожелании установить с Марокко отношения мира и дружбы (Ливорно, 5 апреля 1778 г.) // Россия – Марокко. С. 134.
30 Письмо посла султана Марокко в Тоскане Мухаммеда бен Абд аль-Малека вице-президенту Адмиралтейств-коллегии Российской империи И.Г. Чернышеву с сообщением о готовности султана Марокко Сиди Мухаммеда бен Абдаллаха установить с Россией отношения мира и дружбы (Ливорно, 13 апреля 1778 г.) // Россия – Марокко. С. 136.
31 Цит. по: Мусатова Т.Л. Указ. соч. С. 19, 22.
32 Письмо султана Мароко Сиди Мухаммеда бен Абдаллаха императрице России Екатерине II с предложением заключить между двумя государствами мирный договор // Россия – Марокко. С. 137.
33 Письмо султана Марокко Сиди Мухаммеда бен Абдаллаха вице-президенту Адмиралтейств-коллегии Российской империи И.Г. Чернышеву по поводу заключения мирного договора между двумя государствами (Марракеш, 14 июля 1778 г.) // Россия – Марокко. С. 138.
34 Грамота императрицы Екатерины II султану Сиди Мухаммеду бен Абдаллаху с сообщением о предоставлении марокканским подданным в России режима наибольшего благоприятствования // Россия – Марокко. С. 148.
35 Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Указ. соч. С. 744.
36 Laroui A. L’histoire du Maghreb: un essai du synthèse. Paris, 1970. P. 256–257
37 Chénier L. de. Recherches historiques sur les Maures et histoire de l’Empire de Maroc. Vol. 3. Paris, 1787. P. 534.
38 Dziubiński A. Historia Maroka. Wrocław, 1983. S. 319.
About the authors
Vladimir V. Orlov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: orlov@iaas.msu.ru
ORCID iD: 0000-0002-2649-5422
Scopus Author ID: 57217045829
ResearcherId: K-1041-2012
Institute of Asian and African Studies
Russian Federation, MoscowReferences
- Belavenets P. Plescheev, Fedor Stepanovich // Russkiy biograficheskiy slovar’slovar` : v 25 tomah [Russian Biographical Dictionary]. Sankt-Peterburg., 1905. Т. 14. Plavil’`schikov – Primo. Sankt-Peterburg, 1905. S. 117–118. (In Russ.)
- Druzhinina E.I. Kuchuk-Kaynardzhiysiy mir 1774 goda (yego podgotovka i zaklucheniye) [Kucuk-Kaynardzhy Peace Treaty of 1774 (its Preparation and Conclusion). Moskva, 1955 (In Russ.)
- Grebenshchikova G.A. Baltiyskiy flot v period pravlenia Ekateriny II. Dokumenty, fakty, issledovania [The Baltic Fleet during the Reign of Catherine II. Documents, Facts, Research]. Sankt-Peterburg, 2007. (In Russ.)
- Kobishchanov T.Yu. Krest nad Beyrutom: rossiyskaya ekspeditsiya v Vostochnoye Sredizemnomorye 1769–1774 gg. v vospriyatii siriyskih sovremennikov [The Cross over Beirut: the Russian Expedition to the Eastern Mediterranean 1769–1774 in the Perception of Syrian Contemporaries] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 13. Vostokovedenie [The Moscow University Journal. Series 13. Oriental Studies]. 2009. № 1. S. 9–16; № 2. S. 3–22. (In Russ.)
- Materiyaly dlya istorii russkogo flota [Materials for the History of the Russian Navy]. Ch. V. Sankt-Peterburg, 1875; Ch. XI. Sankt-Peterburg, 1886. (In Russ.)
- Musatova T.L. Rossiya – Marokko: dalekoye i blizkoye proshloye. Ocherky istorii russko-marokkanskih svyazey v XVIII – nachale XX v. [Russia–Morocco: the distant and near past. Essays on the history of Russian-Moroccan relations in the 18th – early 20th century]. Moskva, 1990. (In Russ.)
- Obraztsov V. “Nadezhda Blagopoluchiya”. Perviy yekaterininskiy fregat v Sredizemnon more [“The Hope of Well-Being”. The first Catherine’s Epoch Frigate in the Mediterranean] // Rodina [Motherland]. 2010. № 2. S. 78–79. (In Russ.)
- Orlov V.V. Marokko i rossiyskiy Voenno-morskoy flot: tri veka kontaktov [Morocco and the Russian Navy: three Centuries of Contacts] // Trudy Instituta vostokovedeniya RAN. Vyp. 5. Musulmanskiy mir na istoricheskyh rubezhah Rossii [Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. Iss. 5. The Muslim World on the Historical Frontiers of Russia] / otv. red. V.Ya. Belokrenitskiy, N.Yu. Ulchenko. Moskva, 2017. S. 112–121. (In Russ.)
- Orlov V.V. “Neuklonno stoyat’na strazhe Gibraltarskogo proliva…”: V.R. Bacheracht i voyenno-morskoye prisutstviye Rossii v Marokko v XIX – nachale XX v. [“To Stand Steadfastly on Guard of the Strait of Gibraltar...”: V.R. Bacherakht and the Russian Naval Presence in Morocco in the 19th – early 20th century] // Istoricheskiy vestnik [Historical Bulletin]. 2023. Vol. 46. S. 272–297. (In Russ.)
- Prosheniye tul’skih kuptsov o torgovle v Sredizemnom more s zametkami Ekateriny II [Petition of Tula Merchants on Trade in the Mediterranean Sea with Notes by Catherine II] // Russkiy arhiv [Russian Archive]. 1870. № 4–5. Stb. 541–545. (In Russ.)
- Rossiya – Marokko: istoriya svyazey dvuh stran v dokumentah i materialah [Russia–Morocco: the History of Relations between the Two Countries in Documents and Materials]. 1777–1916 / avt. i sost. N.P. Podgornova. Moskva, 1999. (In Russ.)
- Rukavishnikov E.N. Mify i realii v istorii plavaniya fregata “Nadezhda Blagopoluchiya” (1764–1765 gg.) [Myths and Realities in the History of the Navigation of the Frigate “Hope of Prosperity” (1764–1765)] // Voenno-istoricheskiy zhurnal [Military History Magazine]. 2021. № 11 (739). S. 84–93. (In Russ.)
- Smilianskaya I.M., Velizhev M.B., Smilianskaya E.B. Rossiya v Sredizemnomor’ye. Arhipelagskaya ekspeditsiya Ekateriny Velikoy [Russia in the Mediterranean. The Archipelago Expedition of Catherine the Great] / pod obshch. / red. E.B. Smilianskoy. Moskva, 2011. (In Russ.)
- Solov’yeva D.V. Marokkanskiy sultan Sidi Muhammad ben Abdallah (1757–1790 gg.): problemy traktovky teologicheskogo naslediya [The Moroccan Sultan Sidi Muhammad ben Abdullah (1757–1790): Problems of Interpretation of the Theological Heritage] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 13. Vostokovedenie [The Moscow University Journal. Series 13. Oriental Studies]. 2018. № 3. S. 101–111. (In Russ.)
- Ulyanitskiy V.A. Dardanelly, Bosfor i Chernoye more v XVIII veke [The Dardanelles, the Bosphorus and the Black Sea in the 18th century]. Moskva, 1883. (In Russ.)
- Zhantiev D.R. Dva obraza mladoturetskoy revolutsiyi: obschestvennaya reaktsiya v Beyrute i Damaske na revolutsionnye sobytiya 1908 goda v Osmanskoy imperii [Two Images of the Young Turk Revolution: Public Reaction in Beirut and Damascus to the Revolutionary Events of 1908 in the Ottoman Empire // Novaya i Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2023. № 1. S. 60–69. doi: 10.31857/S013038640021317-6 (In Russ.)
- Al-Nasiri, Abu al-Abbas Ahmad ibn Khalid. Kitab al-istiqsa li akhbar duwwal al-Maghrib al-Aqsa [The Book of Studying Information about the Dynasties of the Far Maghreb]. Vol. 1–9. Casablanca, 1954–1956. (In Arab.)
- Caillé J. Les accords internationaux du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah (1757–1790). Tanger, 1960.
- Chénier L. de. Recherches historiques sur les Maures et histoire de l’Empire de Maroc. Vol. 1–3. Paris, 1787.
- Deverdun G. Marrakech. Des origines à 1912. Vol. 1–2. Rabat, 1959.
- Dziubiński A. Historia Maroka. Wrocław, 1983.
- Grillon P. Un Chargé d’Affaires au Maroc. La correspondance du consul Louis Chénier, 1767–1782. Vol. 1–2. Paris, 1970.
- Jackson J.G. An Account of the Empire of Morocco and the Districts of Suse and Tafi-lelt, Compiled from Miscellaneous Observations Made during a Long Residence in, and Vari-ous Journeys through, these Countries to which is Added an Account of Shipwrecks on the Western Coast of Africa, and an Interesting Account of Timbuctoo, the great Emporium of Central Africa. London, 1814.
- Salahdine M. Maroc: tribus, makhzen et colons. Essai d’histoire économique et sociale. Paris, 1986.
- Terrasse H. Histoire du Maroc des origines à l’établissement du protectorat français. Vol. 1–2. Casablanca, 1949–1950.
Supplementary files