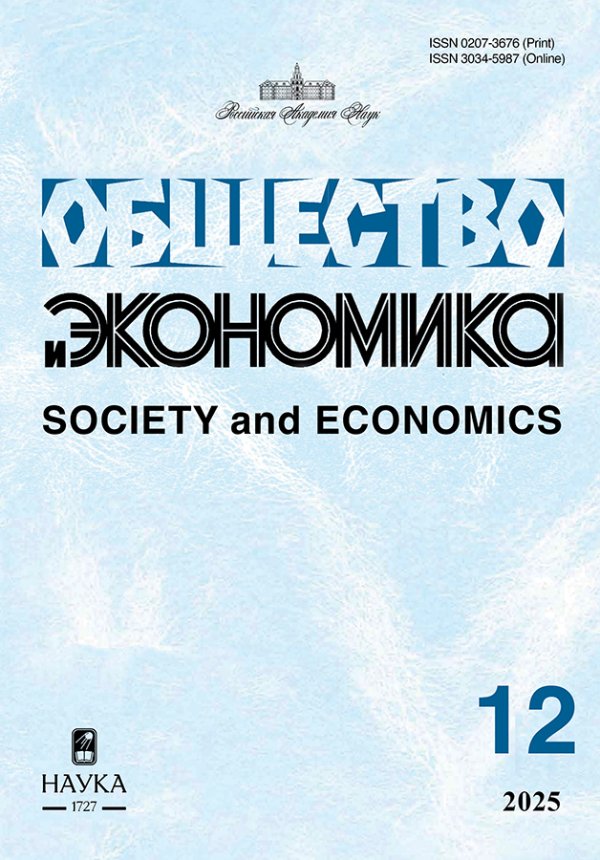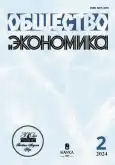On the applicability of China’s experience to helping Russia in the transition to socio-economic growth based on the development of technological and intellectual potential
- Authors: Aganbegyan A.1
-
Affiliations:
- Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 5-25
- Section: ECONOMIC POLICY
- URL: https://medbiosci.ru/0207-3676/article/view/256505
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624020017
- ID: 256505
Full Text
Abstract
The author outlines the main provisions that can contribute to the socio-economic development of Russia. The Chinese experience of ensuring a rapid economic growth, which can be adopted by Russia, is described in detail. Towards the same end, Russia needs to significantly increase investment in fixed capital and human development. This can be done at the expense of the state budget, directing funds primarily to fundamental science, education and healthcare. It is very important to pay special attention to reducing social inequality and improving the living standards of the population, thereby promoting the welfare state.
It is also necessary to raise the extremely low incomes in rural areas and small towns, amounting to 25–30 thousand roubles per capita per month.
Full Text
Эту статью я подготовил под влиянием недавно изданной книги академика Сергея Глазьева «Китайское экономическое чудо. Уроки для России и мира» 1. Это замечательная, глубокая и всесторонняя книга с огромным фактическим материалом.
Логика моего изложения проста. Вначале я анализирую причины 33-летнего застоя экономики в России. Затем попытаюсь понять, как и за счет чего Китай в течение 45 лет с 1978 г. развивался самыми высокими темпами социально-экономического роста среди всех стран мира. В заключительной части будут сделаны выводы, что из опыта Китая особенно важно для России, чтобы она поднялась до уровня ведущих развитых стран.
1. Почему экономика новой России «топчется на месте»?
За 33 года новой России (1991–2023 гг.) валовый продукт увеличился всего на 20%, меньше всех значимых стран мира, а тем более крупных стран. Валовый внутренний продукт Европейского союза за это время вырос более чем в 1,5 раза, США – в 2 раза, постсоциалистических стран Европы – в 2,5 раза, развивающихся стран мира – от 3 до 5 раз, а Китая – почти в 14 раз. Практически по всем социально-экономическим показателям в международных рейтингах Россия пятится вниз, по сравнению с советским временем.
Ответ на этот вопрос очевиден. В социально-экономической системе новой России не сформированы драйверы, которые бы толкали ее вверх. Экономика буксует, так как наша социально-экономическая система не имеет двигателя роста. Дело в том, что главный двигатель роста в рыночном хозяйстве, к которому мы перешли, – инвестиции в основной и человеческий капитал. Анализ причин социально-экономической динамики стран мира показывает, что рост ВВП зависит от доли инвестиций в основной и человеческий капитал в валовом продукте. Если эта доля инвестиций в основной капитал ниже 25%, то, как правило, экономика не растет, а стагнирует, так как этих инвестиций хватает только на простое, а не расширенное производство.
Что касается человеческого капитала, то он здесь состоит в знаниях, умениях и опыте при здоровой жизни. Эти знания формируются с помощью НИОКР, образования, информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий и здравоохранения. Объединение этих сфер обычно называют «экономикой знаний». Чтобы достичь высоких технологических, экономических и социальных результатов, доля «экономики знаний» в ВВП должна быть не ниже 20–25%, иначе основной капитал не сможет использоваться на благо страны.
Разумеется, дело не только в удельном весе инвестиций в основной и человеческий капитал в ВВП, но и в его эффективном использовании. Поэтому темпы роста могут быть разные при одинаковой доле указанных драйверов роста в ВВП. В качестве расширенных инвестиций в основной капитал используется показатель валового накопления основного капитала в системе национальных счетов. Этот показатель включает и теневые вложения, не поддающиеся прямому статистическому измерению. Видимые вложения в основной капитал фигурируют в статистике как инвестиции в основной капитал. Он обычно на 2–4% ниже валовых накоплений в составе ВВП.
В советский период доля валовых накоплений основного капитала в ВВП была в районе 35–40%, и поэтому экономика росла в каждое пятилетие больше или меньше, в зависимости от условий. В ходе трансформационного кризиса после распада СССР и формирования новой России в 1991–1998 гг. инвестиции в основной капитал упали в 4,8 раза при снижении ВВП в 1,8 раза и опустились до 16% ВВП. Затем, в период восстановительного подъема 1999–2008 гг., во многом в связи с восьмикратным увеличением цен на нефть, основной экспортный товар России поднялся в 1,9 раза, а инвестиции в основной капитал – в 2,8 раза. И они составили по максимуму 22% ВВП, колеблясь в последующий период в пределах 20–22%. А видимые инвестиции в основной капитал в нашей статистике опустились до 17–19%.
Сократилась и сфера «экономики знаний» в составе ВВП до 14–15%. Так что общая сумма двух драйверов социально-экономического развития в составе ВВП сократилась с 55–60% в советское время до 35% и ниже – в новой России. А этого недостаточно для систематического ежегодного социально-экономического роста, даже минимального для индустриальной страны, какой является Россия, в 3–4% в год.
А что происходило в других странах мира? Развитые страны вступили в постиндустриальный период, так как удельный вес промышленности в создании ВВП у них снизился до 15–25%, доля «экономики знаний» поднялась до 30–40%. И именно она, а не инвестиции в основной капитал, которые в среднем в развитых странах составляли 20% ВВП, стали драйвером социально-экономического роста.
Но этот рост в развитых странах своеобразен: традиционные отрасли в основном не увеличиваются. Они полностью насытили рынок. Растут высокотехнологичные товары, услуги и сфера «экономики знаний». Поэтому в развитых странах качество экономического роста более высокое, совсем другое, чем у индустриальных – развивающихся и постсоциалистических стран, где главная часть социально-экономического роста – увеличение традиционных отраслей. Так что минимальный рост экономики 1–3% вполне достаточен, ввиду его высокого качества для развитых стран. Такой рост индустриальных стран считается обычно стагнацией, застоем, а минимальный рост начинается с 3–4% в год.
Низкая доля инвестиций в основной капитал и «экономику знаний», главной составной части человеческого капитала в ВВП, усугубляется, во-первых, из-за недостаточно эффективного использования драйверов роста, прежде всего из-за некомплектности. Во-вторых, из-за преобладающего оттока капитала из России в другие страны, особенно значительного в 2008–2023 гг., когда из России суммарно убыло за 15 лет более 1,1 трлн долл. В-третьих, с 2014 г., со времени присоединения Крыма, развитые страны применили к России серьезные санкции, которые особенно жесткими и разносторонними стали в 2022–2023 гг. в связи с СВО в Украине.
Как оказалось, созданная социально-экономическая система оказалась без двигателя. Дело прежде всего в том, что Россия не закончила переход к развитой рыночной системе, а остановилась на полпути, начав массовое огосударствление экономики и создав условия для чрезмерного роста олигархического капитала. В результате предприятия и организации, находящиеся в России под эгидой государства, в последнее 10-летие производят около 70% ВВП, а частный сектор и иностранные компании – только 30%.
Из названных 70% около 40% к ВВП составляют казенные предприятия и организации (сумма федерального, региональных и муниципальных бюджетов), а также внебюджетные государственные фонды (пенсионный, страхование, здравоохранение и социальный). Еще 20% ВВП производят крупные концерны и объединения, контролируемые государством, которые формально выступают подчас как акционерные общества, но с контрольным пакетом у государства – Газпром, Роснефть, РЖД, Ростех, Росатом, Интер РАО, оборонные объединения и др. Кроме того, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях установлен контроль над отдельными предприятиями и организациями по разным причинам – либо для их спасения от банкротства, либо для удовлетворения каких-либо государственных нужд.
Понятно, что при такой высокой степени огосударствления рынок не может выполнять в полной мере свои регулирующие функции и является неразвитым. Рынок ограничен также монополизацией со стороны олигархических структур. Миллиардеры-олигархи, которых в России больше ста, владеют имуществом, составляющим около 35% ВВП (при оценке по рыночному валютному курсу). 500 богатейших людей в России владеют 600 млрд долл. капитала. Это больше, чем в любой стране мира. Хотя по объему капитала, принадлежащему олигархам, и их числу Россия, конечно, уступает США и Китаю. Но валовый внутренний продукт в этих странах мира больше российского в 56 раз по паритету покупательной способности. Из-за государственной и олигархической монополизации у нас отсутствует полноценный рынок капитала и эффективная конкурентная рыночная среда, которые в совокупности формируют драйвер развитых рыночных стран и развивающихся индустриальных стран, к которым относится Россия.
Большую роль здесь играет государственная монополизация банковской системы России, где на долю государственных банков и банков, подчиненных структурам, контролируемых государством, приходится 75% всех банковских активов. Активы одного Сбербанка составляют 37 трлн руб., что примерно равно всему консолидированному бюджету России. И еще 18 трлн активов сосредоточено в ВТБ после придания ему 5-триллионного, в прошлом частного, банка Открытие. В Газпромбанке 8 трлн руб. Под олигархическим влиянием находится часть частных банков, в частности самый крупный из них – Альфа-Банк.
Огосударствленная банковская система, в отличие от банковской системы других стран мира, практически не финансирует социально-экономического роста страны, вкладывая мизерные средства в виде инвестиционного кредита и кредитования образования и других отраслей, формирующих человеческий капитал. Из 139 трлн руб. банковских активов (это главный «денежный мешок» страны, втрое превышающий всю сумму государственных финансов) только 1,3 трлн (или 1%) пополняют инвестиции в основной и человеческий капитал. Из всех инвестиций это 5%, а не 30%, как в большинстве других рыночных стран.
Условия для ведения бизнеса в России недостаточно благоприятны, во многом из-за этого идет отток капитала. И именно из-за этого предприниматели России хранят до 400 млрд долл. в зарубежных офшорах, а не в своей стране. Они недостаточно заинтересованы вкладывать крупные инвестиции из-за того, что нет гарантий устойчивых условий ведения бизнеса в будущем, они непрерывно меняются в России. Обычно в сторону ухудшения.
Недавно министр экономического развития России при рассмотрении в правительстве бюджета на 2024 г. и плана бюджета на 2025 и 2026 г. обнародовал прогнозные показатели развития страны до 2030 г. За 2022–2030 гг., по мнению Минэкономразвития, ВВП России вырастет на 17%, а реальные доходы на 20%, т. е. менее чем по 2% в среднем за год. Инвестиции в основной капитал при этом увеличатся на 30%, менее чем на 3% в год, и их доля едва достигнет 20% вместо 17–18%. Это опять возврат к семилетней стагнации 2013–2019 гг., а не переход к устойчивому социально-экономическому росту. Эти прогнозы Минэкономразвития противоречат Указам Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. о социально-экономическом развитии страны до 2024–2025 гг. и Указу от 21 июня 2020 г. на перспективу до 2030 г.
На наш взгляд, у России есть реальные возможности в случае заключения перемирия по СВО в обозримый период и за счет внутренних ресурсов перейти к 3–4-процентному ежегодному росту. Для этого надо ускоренно, скажем, за 3 года, поднять долю инвестиций в основной капитал как минимум до 25%, а долю «экономики знаний» – до 20% к ВВП. Как этого достичь, в том числе используя опыт Китая, будет показано ниже.
2. Каким образом Китаю удавалось 45 лет поддерживать самые высокие темпы социально-экономического развития в мире и подтянуться к США по технологическому уровню?
Прежде всего Китай повысил удельный вес инвестиций в основной капитал сначала до 35, потом до 40%, а в последнее время до 46% ВВП – выше всех в мире. При определенной эффективности использования столь грандиозных инвестиций Китай, естественно, поднялся на первое место по среднему ежегодному росту экономики в течение самого долговременного периода среди стран мира.
Сошлемся также на опыт Японии, которая в течение 20–30 лет совершила рывок от отсталой к самой передовой развитой стране, уступающей только США. Другой пример – Южная Корея. Ей тоже потребовалось 20–30 лет, чтобы из отсталой страны превратиться в мирового лидера по важным научно-технологическим направлениям. От Японии с населением в 120 млн человек и Южной Кореи с населением в 50 млн человек с небольшой территорией Китай отличается и своей громадной территорией, и особенно населением, превышающим 1,4 млрд человек.
Но не численность и не территория сыграли главенствующую роль во взлете Китая. Причина – в эффективной социально-экономический политике. За счет чего Китаю удалось не только рекордно увеличить долю инвестиций в основной капитал в ВВП, но и поднять до 22% удельный вес «экономики знаний» в ВВП, с одной стороны, и эффективно использовать эти громадные ресурсы для роста экономики и социальной сферы, с другой стороны?
Удельный вес инвестиций в основной капитал в составе валового внутреннего продукта до 1980 г. был менее 29%, а затем к 2000 г. поднялся до 40%, а к 2010 г. достиг максимума в 46% и на близком к этому уровне поддерживался в последующие годы. Значительную часть дополнительных средств на эти цели составлял банковский инвестиционный кредит, доля которого увеличилась с 1,7% в 1978 г. до примерно 20% в 1985–1990 гг. Намного больше стали выделять средств на инвестиции сами предприятия и организации. Если раньше доля этих средств немного превышала 10% в составе инвестиций, то к 1980-м годам они увеличились до 30–35%, а к 1990-м – даже до 50%. Увеличилась и доля средств иностранных инвесторов с 4 до 7%. При этом сократилась доля госбюджета. Она доходила до 60% в 1978 г., через несколько лет снизилась до 40%, к 1985 г. – до 15–20%, к 1990 г. – до 8–10%. Для всего этого пришлось значительно развить банковскую систему, повысив долю активов банков по отношению к ВВП до 280%, а монетизацию экономики (долю денежных средств М2 к ВВП) с 36% – в 1980 г. до 182% – в 2010 г.
Во всех странах, которые совершили рывок вперед, уровень насыщенности экономики финансовыми ресурсами для опережающего роста ВВП был повышен (в Китае в 5 раз, в Японии в 2,4 раза, а в Южной Корее даже в 7 раз). Соответственно, в этих странах резко увеличилась доля кредитных ресурсов к валовому продукту. В Китае с 39 до 172% – в 4 раза, а в Южной Корее до 110% – в 3 раза. При этом необходимо было резко снизить ссудный процент. В Японии за 10-летие с 1990 до 2000 г. он был снижен с 7 до 2%, в Южной Корее к 2010 г. этот процент составил 5,5, а в Китае к 2010 г. – 5,3%. Это предполагало проведение серьезных мер по снижению инфляции. В Китае ее снизили до 3% к 1990 г. и до 0,3% – к 2000 г. В Южной Корее с высоких 15% в 1990 г. инфляцию довели до 2,5% к 2000 г. А в Японии за это время с 6,6 снизили до 1,1%.
Для того чтобы бизнес больше вложился в банковскую систему, пошли на сокращение налогов. В Южной Корее они установились на уровне примерно 20%, а в Китае с 27% с 1980-х годов ниже 20% к 2010 г.
Резко улучшены были условия для финансирования бизнеса, для того чтобы добиться от него большей отдачи. Особую значимость в Китае для этого имели создаваемые особые экономические зоны. Эти зоны были огромны. Вместо небольшого рыбацкого поселка с населением в 30 тыс. человек недалеко от Гонконга на юге Китая за 40 лет вырос инновационный город Шэньчжэнь с 12,6 млн человек (2021 г.). В нем расположено 11 тыс. лабораторий, предприятий и организаций, в том числе производители смарт-телефонов, мировые лидеры по разработке и передаче данных 5G, по применению искусственного интеллекта, секвенированию генов и др. Здесь заявляется 451 тысяча патентных заявок на изобретение, что больше, чем в любом городе мира (4,6% от всех патентных заявок в мире). Экспорт из этой особой зоны вырос до 145 млрд долл., а валовый региональный продукт – до 407 млрд (2020 г.). Это намного больше, чем, например, из Москвы. Эта зона концентрирует 1/3 венчурного капитала всего Китая. Здесь расположено 7 университетов и крупных филиалов главных китайских университетов.
Еще большая особая зона была организована в Шанхае. А наиболее крупная инновационная зона Китая – зона Чжунгуаньцунь в Пекине и его агломерации, где работают 807 тыс. человек и расположено около 20 тыс. предприятий и организаций. В этой зоне создано 52 компании-«единорога» с капитализацией 270 млрд долл. Общая выручка инновационных фирм в инновационной зоне Пекина и его агломерации составляет 815 млрд долл. Только в сфере искусственного интеллекта здесь работает 1600 компаний, где трудятся 40 тыс. сотрудников. В этой зоне расположены главные университеты Китая – Пекинский и Цинхуа и институты Китайской академии по естественным наукам.
Во многом благодаря этим инновационным зонам в Китае на май 2022 г. было создано 275 фирм-«единорогов» с капитализацией 1108 млрд долл. Из 2500 крупнейших инновационных компаний с объемом затрат на исследования и разработки свыше 34,7 млн евро на компанию в 43 странах мира в 2019 г. в Китае находилось 536 таких компаний, немного меньше, чем в США (775), но больше, чем во всех странах Евросоюза (421). Эти частные компании давали выручку 4 трлн долл. в год – 16,5% от всего ВВП Китая. В России таких компаний три, и их выручка – 1% ВВП России.
Кстати, венчурный капитал Китая суммарно был равен в 2021 г. 130 млрд долл., в сравнении с 2,4 млрд в России. Из ТОП-500 суперкомпьютеров мира в Китае сконцентрировано наибольшее число – 162 (в США – 127, в Германии – 34, в Японии – 31 и в России – 7). На 10 тыс. сотрудников промышленности в Китае насчитывается 246 роботов, а в США – 255, в России – 6. Доля Китая в мировом высокотехнологичном экспорте товаров и услуг в 2021 г. составляла более 33%, тогда как доля Германии – 7,3%, США – 6%, Японии – 4%, России – 0,3%2.
Из вышеприведенных показателей видно, что большие инвестиционные вложения в основной и человеческий капитал Китая приоритетно направляются на подъем технологического уровня страны, которая выдвинулась благодаря этому на второе место в мире после США и перешла на инновационный путь развития.
Опыт финансового форсажа и ускоренного роста банковских активов, да и монетизация экономики в целом не привели к существенной девальвации юаня по отношению к доллару, к повышению инфляции и кредитной ставки. Напротив, инфляция снизилась, а банковская ставка, несмотря на ее кратное повышение в США и странах Европейского союза, в Китае держится на низком уровне в размере 3,5%, а не на 16-процентном уровне, которого достигла ключевая ставка ЦБ России. Также, в отличие от России, валютный курс юаня, несмотря на то, что уровень экономического развития Китая (ВВП на душу населения) ниже России в 1,7 раза (21 тыс. долларов, в сравнении с 35 тыс. в России), держится ниже паритета покупательной способности всего в 1,5 раза, а не в 3 раза, как в России.
Как удается Китаю стабильно держать низкую инфляцию, мало меняющийся валютный курс, низкую банковскую ставку при такой высокой норме инвестиций в основной капитал и столь высоких темпах социально-экономического развития?
Именно ускоренное развитие экономики, на наш взгляд, все это позволяет. Ибо быстро возрастающая денежная масса (монетизация) востребована для быстро увеличивающихся инвестиций, растущих по 10 и выше процентов ежегодно. А это новый объем работ, огромное строительство, гигантский импорт и экспорт. И нужны дополнительные деньги, чтобы во все это вкладываться, тем более на длительный период. И дополнительная денежная масса обслуживает бизнес и увеличивающийся доход граждан, а не нависает над ценами, вызывая инфляцию, и не приводит к обесценению валюты, как это происходит в России.
В условиях нашей стагнации и нулевых темпов роста инвестиций в основной и человеческий капитал в течение последних 10 лет монетизация серьезно не увеличивается из-за боязни роста цен, которые растут у нас в 2–3 раза быстрее, чем в Китае. Сказанное относится и к курсу валюты, на который к тому же влияют санкции с ограниченным допуском России на мировой финансовый рынок.
11-я пятилетка в Китае (2006–2010 гг.) была последней с высокими темпами роста ВВП – 70%. С 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) началось серьезное замедление социально-экономического развития (46%). В 13-й пятилетке (2016–2020 гг.) ВВП увеличился только на 32%, частично из-за коронавирусной пандемии. На снижении темпов роста в Китае сказалось также сокращение внешнеторговых отношений Китая и США, особенно с «торговой войной», которую развернул Президент США Д. Трамп против Китая, введя пошлину на китайские товары, ограничив экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, и др.
14-я пятилетка может быть еще сложнее из-за негативного влияния на Китай событий в Украине и связанной с этим более агрессивной политикой США не только по отношению к России, но и к дружественным ей странам. За первые три года ВВП Китая поднялся только на 19%, а за 5 лет ожидается рост на 28% – самый низкий за девять пятилеток. Это снижение темпов в определенной мере связано также с чрезмерным финансированием строительства недвижимости в Китае, не согласованным со спросом на жилье, из-за чего резко ухудшилось положение крупнейших строительных компаний, и с возрастающими масштабами нереализуемых жилых объектов. 2022 г. в Китае характеризовался минимальными темпами роста ВВП – всего на 2%. В 2023 г. ожидается улучшение, рост примерно на 5% при нарастающих диспропорциях, которые затормозят, по мнению экспертов, развитие в последующие годы (здесь ожидается рост по 4%).
Нарастают также демографические трудности. Население Китая, несмотря на отмену жестких ограничений на рождение детей, продолжает сокращаться до 800 тыс. человек в год.
Нерешенная социальная проблема Китая – чрезмерная разница в доходах богатых и бедных. Размер душевого дохода 10% богатых семей выше душевого дохода соответствующего количества бедных более чем в 20 раз. Выше, чем в США и в России, где эта разница составляет 14–15 раз, а тем более в Европейском союзе (разница – 10, а в Германии – 6,9). Я не говорю здесь о достигнутом минимуме в Японии – 4,5 раз. Столь огромное социальное неравенство в Китае первооснову имеет в колоссальном разрыве уровня жизни в городе и на селе. Трудно найти страну, где эта разница столь велика – превышает 4 раза. А ведь на селе в Китае проживают почти 500 млн человек из общей численности 1,4 млрд человек. Показатель социального неравенства по доходам – коэффициент Джини в Китае составляет 0,45, в России – около 0,4, в Германии – 0,3, в СССР этот показатель составлял примерно 0,2. Близка к этому показателю и Япония.
Предстоящие трудности в Китае связаны также с его низким экономическим уровнем, по которому Китай занимает 82 место в мире с показателем ВВП на душу населения по ППС в размере немногим более 21 тыс. долл., в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах, и более чем в 3,5 раза, чем в США. Еще ниже в международном рейтинге среди стран мира занимает Китай по конечному потреблению домашних хозяйств – примерно 100-е место из-за низкой доли фонда потребления в ВВП в связи с максимально высокой долей фонда накопления.
Налицо огромный разрыв в высоком технологическом уровне Китая, развитии его передовых отраслей, мировом первенстве по объему внешней торговли, с одной стороны, и относительно низкими показателями среднего уровня жизни населения при чрезмерном разрыве между бедными и богатыми – с другой сотни миллионов граждан, пребывающих в относительной бедности, имеющих доход в 2–3 раза ниже среднего по стране.
В последние несколько лет властные структуры Китая все жестче стали регулировать деятельность крупнейших высокотехнологических компаний Китая, запрещая им проводить IPO дочерних компаний на фондовых биржах, взимая миллиардные штрафы, ограничивая зарубежные связи. В качестве примера приведем компании Alibaba, Sinoway, TAL и др. Это вынудило крупнейшего руководителя частного бизнеса Китая г-на Ма уехать из Китая в Японию, что сразу сказалось на доходах этой компании, ее капитализации и вызвало негативную реакцию не только в Китае, но и в других странах. Новый председатель правительства Китая был вынужден дать задний ход. Китайская сторона стала просить г-на Ма вернуться, и после долгих колебаний он действительно вернулся. Но остался не только осадок, но и более жесткая система обращения китайских властей с собственным крупным бизнесом, чего раньше не было. Будет ли этот тренд продолжен, неясно, но миллионы богатых китайцев ежегодно покидают страну, уезжая в США, Канаду и другие страны.
Не будучи политиком, я не буду касаться острейшей проблемы по взаимодействию Китая с Тайванем и противопоставления здесь Китая с США и другими развитыми странами. Трудно даже предположить, к сколь серьезным последствиям может привести попытка Китая вооруженным путем присоединить Тайвань при соответствующем столкновении с США и, возможно, с Японией.
Будем надеяться на мирное и поступательное развитие Китая в перспективе, пусть не такими сверхвысокими темпами, а, скажем, по 3–5% в год, что выше общемировых темпов роста. Доля Китая в мировой экономике сегодня составляет, как известно, около 18%, а в последний период – 25%, и больше всего прироста мировой экономики обеспечивал Китай.
Очевидный тренд – приоритетный рост внешнеторгового оборота Китая с Россией, который в 2023 г. заметно превысит 200 млрд долл. Из 4 трлн внешнеторгового оборота Китая – это 5%. Но ежегодно этот процент повышается. Для России Китай стал главным торговым партнером. Его доля приближается к 30% торгового оборота России. Причем она скачкообразно выросла в последние два года после ухода многих крупных иностранных компаний из России в связи с СВО в Украине, в том числе автомобильных, чьи мощности в значительной мере замещены китайскими предприятиями. Многие внешнеэкономические поставки России из-за ограниченных возможностей торговли с европейскими странами, а тем более с США и Канадой, а также с Японией, перенаправляются на юго-восток, в основном в Китай, а частично и в Индию.
В Китай стало поступать больше половины российского экспорта нефти, в том числе 80 млн т по трубопроводу. Плюс все бо́льшее число нефтеналивных танкеров по Северному морскому пути и из Новороссийска также направляются в Китай. Хуже обстоит дело с поставкой в Китай природного газа России. Мощность проложенного трубопровода «Сила Сибири» – 38 млрд м3, но пока поставляется немногим более половины, а на проектную мощность собирается выйти в 2025 г., для чего надо достроить Амурский газохимический комплекс, где при сжижении газа в России остается гелий и этан, а остальные фракции продолжают путь в Китай. Немного газа поступает в Китай на газотанкерах в сжиженном виде по Северному морскому пути. Разрабатываются другие трубопроводы, в том числе через Монголию, но их строительство реально пока не ведется. Чтобы понять масштабы этих цифр по газу, напомним, что Россия в Европу поставляла ежегодно 140–180 млрд м3 природного газа, а сегодня на 100 млрд в год меньше. Поэтому нам пришлось существенно сократить добычу природного газа, хотя запасов у нас предостаточно.
В Китай экспортируется также древесина, картон, целлюлоза, прежде всего с Братско-Усть-Илимского комплекса, удобрения, концентраты цветных металлов и продукции черной металлургии, зерно и другие сельскохозяйственные и продовольственные товары.
Китай, в свою очередь, преимущественно поставляет в Россию машины и оборудование как для предприятий, так и для населения. Китай вышел на первое место среди зарубежных стран по производству и продаже легковых автомашин в Россию. И это только начало. Ясно, что речь идет о долгосрочном и позитивном тренде повышения роли Китая во внешнеэкономических отношениях с Россией, в том числе по осуществлению стратегии Китая «Один пояс – один путь», важнейшая трасса которого, и железнодорожная, и автомобильная, проходит через территорию России в Европу.
3. Какие уроки может извлечь Россия из вдохновляющего опыта Китая по технологическому и социально-экономическому развитию?
Главный и первый урок очевиден. Чтобы перейти к социально-экономическому росту, России надо намного увеличить долю инвестиций в основной и человеческий капитал в ВВП. Намного, потому что он существенно ниже, чем был в Китае перед его повышением до предельно высокого уровня в 40–45% только по инвестициям в основной капитал, в сравнении с другими странами мира. Но ускоренный рост Китая начался при повышении этой доли до 35%. Ведь в первые 13 лет, включая 6 и 7 пятилетки (1978–1990 гг.), он был в размере 7–8%, в то время как в последующие 20 лет, в годы 8–11 пятилеток (1991–2010 гг.), среднегодовой рост ВВП Китая составил 9–10%. Это ускорение во многом было связано с тем, что вначале удельный вес инвестиций в основной капитал был поднят до 35%, а затем – до 45%.
Заметим, что ускоренный рост экономики начался в период, когда Китай был отсталой страной. Его ВВП составлял только 7% от уровня США. Этого нельзя сказать про Россию, ее уровень от США около 20%, и она имеет четвертую по размерам экономику мира, недавно опередив Германию и уступив только Индии, США и Китаю (по паритету покупательной способности). Многократно выше в России сегодня уровень экономического развития и ВВП на душу населения. Он составляет более 35 тыс. долл., в сравнении с 21 тыс. долл. у Китая.
Разогнать экономику страны с относительно высоким уровнем развития существенно труднее, чем слаборазвитую экономическую систему. Поэтому мы не можем даже приблизиться к темпам роста китайской экономики, для этого в России просто нет социально-экономических условий. Поэтому прямо копировать китайский опыт мы не можем. Нам нужно учесть особенности нашей страны.
На мой взгляд, нам нужна двухэтапная модель перехода к социально-экономическому росту. На первом этапе, как это предусматривалось в Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г., когда он поставил задачу продолжить послекризисный 4-процентный рост в 2010–2011 гг., нам целесообразно увеличить удельный вес инвестиций в ВВП до 25–27%. И при относительно эффективном их использовании это гарантированно обеспечит среднегодовой рост как минимум по 3–4%. При этом одновременно нам нужно, учитывая высокий интеллектуальный уровень России, увеличить вложения в человеческий капитал, в его главную составную часть – сферу «экономика знаний» (НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранение) с 14 до 20–22%. Ведь именно от человеческого капитала зависит эффективность использования этих инвестиций.
На втором этапе следовало бы повысить долю инвестиций в основной капитал в ВВП и долю «экономики знаний» до 30–35%, что поддержит и, возможно, несколько ускорит социально-экономический рост, например до 4–6% в год, как в развивающихся странах.
Сколько это потребует средств и каковы возможные источники этого дополнительного финансирования? Приведем исходные показатели. При объеме ВВП России 151 трлн руб. в 2022 г., размере инвестиций в основной капитал 27 трлн руб. и сферы «экономики знаний» 21 трлн руб. России потребуется ежегодно дополнительно изыскать 5–7 трлн руб. на ближайшие три года в 2024–2026 гг., с тем чтобы уже в 2026 г. доля инвестиций поднялась хотя бы до 25%, а «экономика знаний» – до 20%, что обеспечит ожидаемое начало социально-экономического роста.
Для подстраховки следовало бы продолжить этот тренд еще на 1–2 года. А затем этот финансовый форсаж можно снизить, скажем, до 8% в год, что будет вдвое превышать прирост ВВП. И за счет этого удельный вес инвестиций к 2030 г. повысится до 30%, а «экономика знаний» – до 25%, чтобы в последующее пятилетие можно было бы приподнять этот рост, о чем выше было сказано.
Значительную часть дополнительных средств ежегодно может предоставить банковская система России за счет своих возросших активов, которые достигли в 2022 г. 139 трлн руб., из которых в настоящее время на инвестиции в основной капитал направляется 1,3 трлн инвестиционных кредитов и лишь несколько миллиардов рублей идут на долговременный кредит для граждан на профессиональное образование. В других странах, в том числе в развивающихся, на эти цели направляется в 5–10 раз больше. Не 5% от общих инвестиций составляет долговременный инвестиционный кредит, как в России, а 20–40% – как в других индустриальных странах. При этом доля этого кредита в ВВП у подавляющего числа стран обычно в 1,5–2 раза выше, чем у России (не 17–20, а 30–35%). В развивающихся индустриальных странах темпы развития составляют 4–6% в год.
Это потребует переориентировать Центральный банк на выполнение других задач, как это сделано в других странах. Главной задачей Центрального банка должна быть не борьба с инфляцией и поддержание валютного курса, а социально-экономическое развитие страны, прежде всего за счет кредитования, предполагающего необходимое для социально-экономического роста предоставление долговременных экономических займов для инвестиций в основной и человеческий капитал. При этом следует заинтересовать банки в предоставлении все бо́льших инвестиционных кредитов, наложив ограничения на предоставление ими «коротких» денег и предложив льготы, во всяком случае на первых порах, пока они не освоятся с предоставлением низкопроцентных инвестиционных кредитов на период от 5 до 25 лет. Банки при этом не должны иметь убытков, а, напротив, получать гарантированную ежегодную прибыль от таких кредитов. Для этого государству следует возмещать им недополученные средства от сниженной процентной ставки, в сравнении с высокой ключевой ставкой, пока она поддерживается на этом уровне. В дальнейшем, как в других странах, в том числе в Китае, она должна снизиться в 4–5 раз.
Изыскать дополнительные средства на эти цели наше государство может за счет изъятия из госбюджета безвозвратно вкладываемых средств с низкой эффективностью, прежде всего на цели национальной экономики. А это без малого 7 трлн руб. в консолидированном бюджете, за счет которого финансируются во многом окупаемые проекты. Окупаемость технологического перевооружения действующего производства в среднем составляет 5–7 лет. Им можно предоставлять инвестиционный кредит под 4–5% годовых. Окупаемость ввода новых мощностей для производства высоко- и среднетехнологичных товаров и услуг – 10–12 лет. И такие кредиты могли бы предоставляться по ставке 3% годовых. Инвестиции в транспортную инфраструктуру по опыту Китая и других зарубежных стран имеют окупаемость 20–25 лет, и инвестиционный кредит им для этого целесообразно предоставлять под 1–2% годовых. Следовало бы предоставлять 5-процентный инвестиционный кредит при строительстве жилья. А вот на цели профессионального и высшего образования молодежи долговременный кредит на 15–20 лет лучше иметь по относительно низкой, например 3-процентной, ставке, как это происходит в других странах.
Такие долговременные кредиты банки обычно предоставляют не в одиночку, а создавая консорциум банков для кредитования заемщика, если ему нужен относительно крупный кредит, что является общемировой практикой. Эти кредиты могла бы страховать специально созданная для этого компания. При этом высвобожденные бюджетные средства из-за замены безвозвратного финансирования низкопроцентным кредитованием существенно превысят все указанные льготы для инвестирования в основной и человеческий капитал.
Понятно, что невозможно за один, два, даже три года сразу изыскать большую дополнительную сумму и обоснованно предоставить кредит. Ведь в отличие от безвозвратного финансирования нужно время, большие расходы, привлечение экспертов, исследовательских, проектных, конструкторских организаций, подчас привлечения иностранных специалистов. Это будет огромная работа не только персонала самих компаний, они вряд ли справятся с ней без серьезной государственной помощи. Госчиновникам, банковским работникам придется серьезно поработать. Надо подумать об их вознаграждении при успешном завершении инвестиционного соглашения.
Другой источник дополнительных средств – финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий и организаций. Надо их серьезно заинтересовать в использовании своих средств на собственные инвестиции в основной и человеческий капитал. Для этого прибыль предприятий, из которой черпаются эти инвестиции, можно было бы освободить от налога на сумму инвестиций, как это было в России до 2003 г. В предшествующий период инвестиции росли особенно быстро и сразу застопорились, сократившись в разы по годовому приросту, когда эта льгота была отменена. Это сразу даст 1–2 трлн дополнительных инвестиций. Финансовый результат предприятий и организаций в этом году превысит 30 трлн руб., из которых на инвестиции вряд ли будет направлено более 5–6 трлн, судя по результатам прошлых лет.
Целесообразно также у предприятий и организаций больше инвестиций формировать из фонда амортизации, для чего надо увеличить этот фонд, сократив хотя бы в 1,5 раза амортизационный срок, особенно машин и оборудования, который в России один из самых длительных среди стран мира. Пример можно взять с Президента США Р. Рейгана, который в своей новой политике «рейганомика», чтобы вывести страну из депрессии и стагнации, вдвое сократил амортизационный срок и намного больше сократил налоговую нагрузку с прибыли предприятий и организаций, в сравнении с тем, что сейчас предлагается. Многие экономисты предрекали катастрофу. Но вместо снижения темпов ВВП за 8-летний срок президентства Р. Рейгана ежегодно увеличивался по 4%. Инфляция снизилась с 13 до 3%, безработица – с 8 до 5%. Это был один из лучших периодов процветания США с креном в ускоренный технологический прогресс. Поэтому при массовом опросе американцев, какой президент в истории Америки был лучшим, в 1988 г. лучшим был назван Р. Рейган.
Наличие дополнительных инвестиционных средств существенно улучшит экономику предприятий, возможности их руководства по технологическому перевооружению, расширению производства, повышению его эффективности.
Чтобы ускорить социально-экономический рост, особенно важно увеличить вклад инвестиций в жилищное строительство и в автомобилестроение для населения, ибо эти отрасли обладают наибольшим мультипликативным эффектом. Их развитие тянет за собой многие другие отрасли, порождает огромные финансовые потоки в государстве, что приводит к ускорению социально-экономического развития всей страны. Это тем более важно, что приобретение жилья и легкового автомобиля заметно повышает уровень жизни значительной части населения. Если, например, ежегодно увеличивать ввод жилья, предоставляемого населению, по 10%, то в первые несколько лет это подхлестнет ежегодный рост ВВП на 1–1,5%, а потом до двух и более процентов.
Надо ли говорить о нехватке жилищ в России, особенно благоустроенных? Комфортного жилья в России (с холодной водой, канализацией, круглогодичным отоплением, наличием ванной или душа) менее 70%. И поэтому жилищная обеспеченность на душу населения у нас в два раза ниже (в среднем 20 и 40 м2), чем в Европейском союзе, в то время как экономический и социальный уровень России только в 1,5 раза ниже. Соответственно, и легковыми машинами пока владеет менее половины семей. К тому же из-за жестких санкций по отношению к России из недружественных стран страну покинули многие иностранные фирмы, производящие автомобили или отдельные агрегаты, запчасти, и производство автомобилей резко снизилось и ухудшилось, несмотря на активную поддержку со стороны китайских автостроителей.
Можно было бы для приобретенного финансирования этих двух важнейших отраслей – строительства жилья и производства легковых автомобилей – ввести облигационный заем для граждан. И когда они за ряд лет наберут, например, половинный взнос средств для необходимой покупки, им можно гарантировать предоставление низкопроцентного кредита, чтобы приобрести жилье или автомобиль и предоставить скидку до 25% цены, которая давалась для приобретения жилья до 2016 г., когда населению разрешалось предварительно финансировать строительство жилья. Накопленный облигационный заем при этом сразу будет переводиться соответствующим предприятиям и организациям, которые занимаются производством и продажей легковых автомашин и жилья, беспроцентно или с низким процентом, что компенсирует им сниженные цены и сниженный размер процентной ставки за кредит, приблизив срок обеспечения граждан дополнительным жильем или автомобилями. Это тот редкий случай, когда выгоду могут получить все участники.
Еще один источник дополнительных средств, если перечисленных источников окажется недостаточно, – внешнеэкономические займы государства. Внешний долг нашего государства минимален – около 3% ВВП, измеренного по валютному рыночному курсу. А общий долг России, т. е. не только государства, а и всех предприятий, и организаций, тоже снизился до минимального уровня и составляет 350 млрд долл., или примерно 20% ВВП. У других государств внешний долг обычно составляет 70% и более. В том числе у Китая, Европейского союза, США, а весь долг страны почти у всех превышает 100% ВВП. Россия, как видно, живет с небольшим долгом, что неэффективно, поскольку она не может расходовать дополнительные средства и развиваться лучше.
Представьте себе семью, которая живет как наше государство, не влезая в сколь-нибудь серьезный долг. Она не берет ипотеку и ютится в плохом жилье, не может себе позволить купить в рассрочку приличный телевизор, холодильник, мебель. Что в этом хорошего? Другая семья с тем же достатком берет ипотеку и потребительский кредит и живет намного лучше. Или возьмите предприятие. Можно ли жить без кредита? Можно, но это неэффективно, не нужно. Для того мир и создал банковскую систему, накопительные пенсии, паевые фонды, венчурный капитал, долговременные страховые фонды. И все это для того, чтобы улучшить жизнь, ускорить развитие. Можно всем этим не пользоваться, как наше государство, или пользоваться по минимуму. И мало того, жить с профицитом, гордясь этим. «Смотрите, как здорово! – говорят нам. – У нас 2-триллионный профицит даже в кризисный год». А ведь потому и кризис, что низкие расходы. Если бы был 2-триллионный дефицит, то расходы были бы на 4 трлн руб. больше и можно было бы избежать кризиса, снижения реальных доходов, дополнительной безработицы, нищеты части населения.
Мало того, что мы живем с низкими займами, так еще собственные средства тратили на чрезмерное пополнение золотовалютных резервов, не использованных сколь-нибудь полно нами в последние 20 лет, кроме одного раза в 2009 г. И то использовали одну треть, а две трети долга все время лежали без дела. Хотя ежегодно они обесценивались на 10–20 млрд. долл. и мы теряли приобретенные средства. Зато сидели на сундуках с золотом и валютой. Имея финансовую систему, бюджет, фондовый рынок в 2, 3, 5 раз меньше, по отношению к валовому продукту, чем другие страны, Россия имела золотовалютные резервы больше, чем США, у которых валовый продукт в 5 раз больше, чем у нас, а население в 2,5 раза больше. Мы имели резервы больше, чем Великобритания, Германия и Франция вместе взятые, где население существенно больше, чем у нас, а объем валового продукта в 2–2,5 раза выше. Да, большие резервы имеет Китай и Япония, но это вынужденные резервы, из-за того, что эти страны не могут сбалансировать экспорт и импорт. У них экспорт намного больше импорта. И эти средства вынужденно накапливаются. У нас резервы больше, чем у Саудовской Аравии, стран ОПЕК, богатейших стран по уровню экономического развития. Чтобы добиться экономического роста, надо вести себя так, как ведут страны, которые этого роста добились. Тот же Китай: он не чурается государственного долга, имеет этот долг в десятки раз больше, чем Россия, он не уходит от дефицита бюджета, как и большинство развитых стран. Они систематически живут с дефицитным бюджетом даже в годы процветания, чтобы улучшить жизнь своего населения.
Имея огромные золотовалютные резервы, мы не тратим их на развитие собственной страны и поэтому пребываем в стагнации и кризисах последнее десятилетие. Именно в это время мы тратили деньги не на свое развитие, не на благосостояние людей, а скупили более 200 млрд долл. и евро, золота и нарастили золотовалютные резервы до небывалых размеров в 643 млрд долларов – более трети валового внутреннего продукта России по валютному курсу. Зачем? Каков итог? 300 млрд из этой суммы конвертируемой валюты лежало на счетах в иностранных банках в недружественных странах, которые уже ввели против нас санкции, отлучили Россию от мирового финансового рынка в связи с присоединением Крыма в 2014 г. Трудно найти в России продвинутого экономиста, который бы не предупреждал Центральный банк об опасности такого «использования» золотовалютных резервов. Вместо того, чтобы давать хотя бы часть этих резервов Газпрому, Роснефти, Ростеху, Аэрофлоту и другим под 3% годовых, т. е. более выгодно, чем мы получаем, храня эти резервы, например, в США. Вместо этого госорганы побуждали эти надежные проверенные компании брать сотни миллиардов долларов в долг под 4–6% годовых, переплачивая огромные деньги.
Результат печален. Даже перед началом СВО в Украине Минфин и ЦБ не позаботились, чтобы отозвать свои резервы. И эти резервы были арестованы, заморожены. И сейчас рассматривается вопрос об их использовании для восстановления пострадавших украинских городов и районов. А ведь перед глазами опыт Ирана, у которого заморожены были счета. Но мы не учимся не только на своих, но даже на чужих ошибках. Наши олигархи, беря пример с государства, тоже в основном хранили деньги на зарубежных счетах, приобретали там недвижимость, самолеты, яхты. И некоторые из них потеряли часть этих богатств. Понятно, что отъем их собственности был незаконным. Идут международные суды, но все понимают – вряд ли удастся все это вернуть. Потерять легко, приобрести, преумножить трудно. Легко войти в рецессию, иметь стагнацию. Всегда есть события, которые это оправдают, а вот добиться социально-экономического роста, увы, нам пока не удается из-за фискальной неэффективной финансовой и кредитно-денежной политики.
Итак, мы нашли средства, которые можно вложить в основной и человеческий капитал, и этих средств внутри страны больше, чем нужно. Но понятно, что их можно использовать, только когда наступит перемирие с Украиной и СВО закончится. Надеюсь, что это будет в обозримом времени. И тогда встанет вопрос о социально-экономическом росте нашей страны. Как же надо использовать эти средства, чтобы добиться роста?
В первую очередь нам нужно перейти к массовому технологическому перевооружению существующих предприятий, которые в этом нуждаются. Когда мы завершили восстановительный подъем экономики в 2008 г., у нас треть валового внутреннего продукта производилась предприятиями с отстающей от западных стран технологией, по оценкам того времени. В ходе этого подъема, как известно, за 9 лет инвестиции возросли в 2,8 раза.
В последние 15 лет объем инвестиций в России практически стагнировал. Заметного роста не наблюдается. И основные фонды за это время значительно устарели, степень их износа возросла и превысила 50% в среднем, а по отдельным отраслям износ составил свыше 70%. По нашей оценке, в настоящее время две трети ВВП производится предприятиями с отсталым технологическим уровнем, нуждающимися в крупном технологическом перевооружении. Как подойти к необходимому объему такого перевооружения, за сколько лет его надо осуществить?
На мой взгляд, следовало бы поставить задачу к 2035 г., т. е. за 12 лет выйти на технологический уровень развитых стран. Так что ежегодно в среднем нужно завершить перевооружение 5% предприятий. В первую пятилетку это может быть по 3%, вторую пятилетку – по 5–6%, а оставшиеся годы – по 7–8%. Самое трудное – начало, так как комплексные проекты по коренной технологической реконструкции в подавляющем числе случаев отсутствуют.
Что значит коренная реконструкция? Она заключается в том, чтобы в ее результате уровень производительности труда, материалоемкость, энергоемкость, качество продукции соответствовали бы существующему уровню самых передовых стран. Для этого необходимо производительность труда поднять в среднем в 2,5–3 раза, материалоемкость снизить не менее чем в 1,5 раза, а энергоемкость – в 2 раза. С учетом этого по каждому из предприятий, которые намечено технологически перевооружить в первые пять лет, должен быть составлен комплексный проект по замене действующего оборудования на самое передовое, введение новой технологии на тех участках, где это требуется. Возможная достройка цехов и расширение производства, если есть спрос на эту продукцию, возможно, смена выпускаемого изделия или качества оказываемой услуги, если это требуется.
Как показывает опыт, средняя окупаемость здесь 5–7 лет. Однако немало случаев, когда эта окупаемость занимает 8–10 лет, так как приходится перестраивать производство, сносить отдельные цеха, строить новые мощности, используя существующие инфраструктуры, коллектив, а не ограничиваться сменой оборудования или пристройки к действующим цехам. Например, обычную крупную электростанцию, работающую на газе, предстоит заменить парогазовой электростанцией. Для этого не потребуется наличия отдельного здания с огромным котлом, поскольку он не будет нужен. Но потребуется специализированная постройка для размещения крупных газовых турбин, а затем и здания, где может разместиться и небольшой котел для производства пара, и новая паровая турбина. При этом инфраструктура, линия электропередач, трансформаторы, коллектив – все это, естественно, остается. А основное производство в значительной мере сносится и заменяется новым. Но таких случаев вряд ли будет более 20–30% от всех объектов под технологическое перевооружение.
Крайне важно установить порядок отраслей, которые нужно подвергнуть технологическому перевооружению в первую очередь. Вначале целесообразно поставить машиностроительные производства, изготовляющие новое оборудование, необходимое для технологического перевооружения других производств. Было бы неэффективно в подавляющей части использовать только импортные машины и оборудование. Его хорошо бы свести к определенному минимуму, приоритетно ориентируясь на изготовление такого оборудования в России. Для производства этого оборудования в ряде случаев нужно проводить не технологическое перевооружение действующих предприятий, ибо таковых может не быть, поэтому придется создавать новые мощности, новые предприятия, чтобы они произвели такое оборудование, если это представится возможным.
Главная сложность – разработка эффективного проекта технологической реконструкции предприятий. Ведь многие прикладные исследовательские институты, проектные и конструкторские организации, которые были при министерствах в Советском Союзе, ликвидированы. И по ряду отраслей у нас нет специализированных организаций, которые могли бы такие проекты разрабатывать. Поэтому надо срочно, где это возможно, воссоздавать из сохранившихся кадров нужные организации или создавать временные коллективы, собирая вместе экспертов и специалистов, способных осуществить такую разработку вместе с коллективом предприятий. Во многих случаях придется привлекать иностранных специалистов, прежде всего из дружественных стран, для оказания помощи.
Все это потребует значительных государственных средств и самих предприятий. Потребуется и время, потому что нужно не только проработать проект, но и договориться с поставщиками оборудования, а также со строителями и организациями, которые будут осуществлять эту реконструкцию, включая во многих случаях и строительно-монтажные работы. Нужно создать структуры, которые будут рассматривать, оценивать эти проекты. И подготовить финансовую сферу для мобилизации необходимых средств. В подавляющем большинстве это касается банков, поскольку речь пойдет об окупаемых проектах, которые должны осуществляться за счет долговременных инвестиционных кредитов по низкой процентной ставке, о чем говорилось выше.
По нашим оценкам, в первые 3–5 лет объем инвестиций в основной капитал нужно будет увеличивать, как говорилось, по 10–15%, т. е. по 3–5 трлн руб., из которых 1,5 трлн как минимум можно направить на такую технологическую реконструкцию для существующих предприятий. Остальные средства из этой суммы пойдут на создание новых предприятий – новых мощностей, а также на создание современной транспортной инфраструктуры.
Что касается ввода в действие новых предприятий средне- и высокотехнологичного уровней, то преимущественно речь пойдет о машиностроении. Особенно значительные средства потребуются для развития микроэлектроники и авиационной промышленности, где у нас наибольшее отставание. А во вторую очередь – для всемерного развития станкостроения, энергомашиностроения, фармацевтической, химической промышленностей высоких переделов. На эти цели также ежегодно нужно выделять по условиям 2022 г. 1,5 трлн руб. с ежегодным наращиванием этой суммы. Оставшиеся 2 трлн из дополнительных годовых инвестиций в основной капитал потребуются на создание современной транспортно-логистической инфраструктуры, и прежде всего на строительство платных двусторонних автострад, скоростных железных дорог, региональной авиационной инфраструктуры и для развития и реконструкции существующей транспортной инфраструктуры.
Отдельное дополнительное финансирование потребуется для сферы «экономика знаний» – главной составной части человеческого капитала. Чтобы и здесь ежегодно повышать вложения по 10–15%, потребуется, по условиям 2022 г., 2–3 трлн руб. Это позволит в ближайшие 3–5 лет поднять долю вложений в НИОКР с 1 до 2% ВВП, образование – с 4 до 6% ВВП, информационно-коммуникационных услуг – с 4 до 7% ВВП, а биотехнологии и здравоохранение – с 5 до 7% ВВП. Тем самым сфера «экономика знаний» в ВВП поднимется с 14 до 22%.
Частично эти средства могут быть изысканы за счет долговременных займов, прежде всего на профессиональное, высшее и поствысшее образование наших кадров. Если способный юноша получил согласие одного из ведущих вузов страны принять его на обучение, а эти вузы расположены, как правило, в крупных городах, где жизнь относительно дорога, к тому же существует и платность обучения, то таким абитуриентам нужно предоставлять серьезный заем, например в миллион рублей. Естественно, не сразу, а постепенно, по мере потребности. Получив высококачественное образование, человек, естественно, будет получать и повышенную зарплату, с которой он за 10–20 лет сможет вернуть этот заем, если он будет предоставляться по низким процентам, например по 3% годовых, как в ряде других стран.
И на развитие ряда других отраслей сферы «экономики знаний» частично денежные средства могут выделяться в виде кредита. Однако здесь будет велика доля безвозвратных средств, прежде всего для повышенной оплаты высококвалифицированного персонала, что во многом должно осуществляться за счет госбюджета, прежде всего на фундаментальную науку, образование и здравоохранение. Что касается источников средств на ускоренный ввод в действие благоустроенного жилья и на расширение собственного производства легковых автомобилей, то об этом выше было сказано.
Когда эти новые для нас процессы технологического перевооружения, ввода новых мощностей, развития транспортной инфраструктуры станут на прочные рельсы (через 3–5 лет), можно будет сократить прирост инвестиций с 10–15% до примерно 8% ежегодно, что будет достаточно, чтобы постепенно повышать долю инвестиций в основной и человеческий капитал в ВВП и наращивать ежегодные темпы социально-экономического роста, особенно после 2030 г. К тому времени объемы ВВП, в сравнении с нынешним уровнем, возрастут примерно на 30%, а инвестиции в основной и человеческий капитал – на 80% в период 2024–2030 гг.
Крайне важно в этот период особое внимание уделить повышению жизненного уровня населения, значительному сокращению социального неравенства, сделав решающий шаг вперед к построению социального государства. Предлагается в ближайшие годы повысить минимум зарплаты до 35 тыс. руб., освободив от налога душевые доходы до 40 тыс. руб. Вдвое надо увеличить размер пенсий в ближайшие 3–4 года, организовав взнос на пенсии из зарплаты до 10%, проведя индексацию зарплат, чтобы не снизить ее реального уровня для мало- и среднеобеспеченных граждан. Пособие по безработице, нынешний уровень которого ниже прожиточного минимума, предстоит поднять хотя бы в 3 раза, чтобы соответствовать уровню других стран, сходных по развитию с Россией (например, в сравнении с Турцией или Чили).
Самое трудное, и этим надо специально заняться в стране, поднять крайне низкие доходы на селе и в малых городах, составляющие на душу населения 25–30 тыс. в месяц. Для этого надо из числа лучших подсобных хозяйств при семье, где есть несколько трудоспособных членов, организовать фермерское крестьянское хозяйство, предоставив бесплатно земельный участок, снабдив по выгодному кредиту со сниженной ценой урожайными семенами, необходимым скотом, в лизинг предоставить необходимую технику, в кредит построить по низкому проценту нужные помещения и др. Фермерские хозяйства необходимо объединить в промысловые кооперации в рамках региона, а регионы – во всероссийскую промысловую кооперацию. При ней должны быть созданы тысячи и тысячи небольших предприятий для переработки фермерской продукции и создана всероссийская сеть продовольственных магазинов КООП, как это сделано в Венгрии, Швейцарии и ряде других государств. Для всего этого необходимо создать крупный фонд средств по линии государства, используя в том числе по прямому назначению Фонд народного благосостояния. Эти меры помогут преимущественно поднять заработки работников сельского хозяйства и малых городов, душевые доходы села и малых городов с 25–30 до 35–40 тыс. руб. при средних по стране 46 тыс. руб. При этом особое внимание и помощь здесь должны быть оказаны регионам, где уровень жизни особенно низок.
Все это позволит социально-экономические показатели России, касающиеся труда и благосостояния трудящихся, поднять до уровня, соответствующего международным нормативам, МОТ и уровню других стран, сходных по международным рейтингам с Россией. При этом предстоит существенно сократить чрезмерное социальное неравенство в России, прежде всего по доходам граждан. Разницу в среднедушевом доходе 10% зажиточных граждан и 10% малообеспеченных граждан с 14–15 раз сегодня следовало бы сократить до 10 раз (уровень стран ЕС) в течение ближайших 3–5 лет и до 6 раз – к концу десятилетия.
Для этого целесообразно в дополнение к перечисленным выше мерам ввести плавный прогрессивный подоходный налог с семей, чей доход на душу превышает 100 тыс. руб. в месяц. Следовало бы также обложить налогом те предприятия и организации, которые производят и торгуют товарами и услугами, недоступными не только бедным, но и среднему классу, включая элитное жилье, дорогие торговые сети, мощные автомобили, 4–5-звездочные отели и др. И, напротив, снизить налоги с предприятий и организаций, чьи товары и услуги доступны не только среднему классу, но и малообеспеченным гражданам.
Чтобы сократить столь сильное социальное неравенство, предстоит продолжить и усилить проводимые Президентом России В.В. Путиным меры по повышению пособий недостаточно обеспеченным семьям с детьми, уделяя первостепенное внимание повышению пособий при втором, третьем и последующих детях. И довести их общий размер до уровня Франции и Великобритании в 3–4,5% ВВП вместо 1,5% у нас.
Когда ситуация в стране коренным образом изменится и люди начнут жить в условиях социально-экономического роста, почувствуют в полной мере повышение благосостояния по всем линиям, можно будет приступить к коренному преобразованию сформированной в прошлый период неэффективной социально-экономической системы России. Эту систему можно охарактеризовать как государственно-олигархический капитализм с недоразвитым рынком и отсталой социальной сферой, к тому же лишенный механизма повышения эффективности и роста экономики и социальной сферы. Ее предстоит преобразовать в социальную рыночную систему с наличием эффективного капитала и конкурентной средой, развитие которой направляется стратегическим пятилетним планированием.
Для такого преобразования предстоит осуществить ряд крупных реформ и прежде всего реформу собственности, проведя приватизацию в тех государственных или контролируемых государством структурах, которые занимаются коммерческой деятельностью для самообогащения, а не решения государственных задач. Речь идет о Газпроме, Роснефти, РЖД, государственных банках, кроме Эксимбанка и Россельхозбанка. Сказанное относится и к объектам, которые контролируются федеральными, региональными и даже муниципальными органами. По экспертной оценке, доля государственных предприятий и организаций в формировании ВВП будет при этом снижена до 40–45%, в том числе консолидированного бюджета и внебюджетных государственных фондов – до 25–30 вместо 40%. Еще 15% ВВП будут производить предприятия и организации в области оборонной промышленности, транспортной и социальной инфраструктур, контролируемых государством.
Сокращение бюджета может быть осуществлено за счет замены безвозвратного бюджетирования по статье «Национальная экономика» и некоторым другим статьям по окупаемым проектам при их финансировании по низкопроцентным инвестиционным кредитам. Кроме того, определенную лепту внесет использование заработной платы и доходов граждан для финансирования пенсий и страхования здоровья, оплаты ЖКХ и др., что позволит снизить расходы бюджета на эти цели. Существенный эффект здесь можно получить также при сокращении в 1,5 раза госрасходов на содержание аппарата управления и госслужащих.
Коренные реформы предстоит провести для преобразования финансовой сферы России. О бюджетной сфере уже было сказано. Преобразование банковской сферы состоит в значительном увеличении воспроизводства «длинных» денег для многократного расширения инвестиционного кредитования. Инфляция, ключевая ставка, валютный курс рубля – все это нужно привести в норму, взяв за основу показатели Китая и других передовых стран. Этому поможет возобновление социально-экономического роста и уровня жизни.
Со временем нужно будет сократить долю госдоходов, получаемых за счет налогов и сборов в составе ВВП. Сегодня Россия занимает верхние строчки с высокими налогами на бизнес, включая НДС. Их можно будет снизить постепенно в 1,5–2 раза. Хотя общая их сумма сократится намного меньше из-за увеличения масштабов производства и потребления.
Предстоит резко, в разы нарастить внебанковские фонды «длинных» денег. Для этого следует перейти на накопительную систему пенсий, значительно расширить страхование, особенно страхование жизни, вкладывание денег в которые должно быть выгоднее, чем их хранение в банках. За счет льгот в разы должна вырасти сумма паевых фондов. На порядок предстоит увеличить венчурный капитал в стране, если мы хотим перейти на инновационный путь развития по примеру других стран. Целесообразно преимущественно вводить дефицитный бюджет, как это сделали другие страны, покрывая этот дефицит выпуском облигационных займов со стороны казначейства на 5, 10, 20 и даже 30 лет, которые преимущественно будет покупать Центральный банк России, как это принято в международной практике.
Предстоит также реформировать систему регионального управления по примеру федеральных стран США, Германии и Канады, создав крупные губернии наряду с автономными республиками и переведя их на самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление. Это потребует перераспределения прав, обязанностей, функций между федеральным и региональным уровнями. Тогда Россия станет сильна своими регионами, которые приблизятся по социально-экономическому уровню к Москве и Санкт-Петербургу.
О направленности социальных реформ, по пенсионному обеспечению, финансированию здравоохранения и образования было сказано выше. Добавим, что по образованию реформа должна быть всесторонней, нацеленной на то, чтобы поднять умение и опыт, для чего ввести условия стажировки, опыта, лицензирование для занятия многих должностей. Предстоит создать систему поствысшего образования по критически важным специальностям в области медицины, юриспруденции, финансирования и инженерии.
Коренным образом хотелось бы улучшить систему управления страной, переведя его на стратегическое пятилетнее планирование, которое использовали около 40 «рыночных» стран, когда им надо было ускорить свое социально-экономическое развитие. Речь идет не только о Японии и Южной Корее, где за шесть пятилеток произошел необыкновенный взлет, но и о подъеме послевоенной Франции, преимущественном развитии Индии, которая в 2017 г. завершила 12 пятилетку, о Турции, которая последние 10 лет растет по 6% ежегодно, а сейчас осуществляет 11 пятилетку. И вдохновляющий для нас пример – Китай с его последним 14-м стратегическим пятилетним планом.
Использование этого богатого опыта стратегического пятилетнего планирования применительно к рыночной экономике должно быть взято нами на вооружение и стать важным ускорителем нашего социально-экономического роста.
1 Глазьев С.Ю. Китайское экономическое чудо. Уроки для России и мира. М.: Весь Мир. 2023. 405 с.
2 URL: https://wdi.worldbank.org/table/5.12
About the authors
Abel Aganbegyan
Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: aganbegyan@ranepa.ru
academician
Russian Federation, MoscowReferences