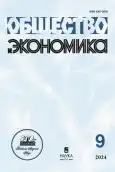Contradictions in the development of transport and logistics infrastructure of Mongolia
- Авторлар: Dinets D.1
-
Мекемелер:
- Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
- Шығарылым: № 9 (2024)
- Беттер: 73-82
- Бөлім: WORLD ECONOMY
- URL: https://medbiosci.ru/0207-3676/article/view/270813
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624090054
- EDN: https://elibrary.ru/AMJEUK
- ID: 270813
Толық мәтін
Аннотация
The article is devoted to the assessment of the current state of development of transport and logistics infrastructure of Mongolia. The analysis is descriptive and aimed at identifying ambiguous trends in the development of transport and logistics infrastructure of Mongolia. In addition, as a result of the work carried out, based on the assessment of official data, expert opinions on the development of the economy of Mongolia, as well as personal observations of the author, practical conclusions are made about the discrepancy between the directions of development of international investment cooperation in the studied area and the need for developing transport and logistics infrastructure in Mongolia and for improving the institutional environment. The findings are methodological and applied in nature.
Толық мәтін
Экономика Монголии сегодня характеризуется в большей степени в терминах последствий тех решений, которые ранее были приняты самой страной, а также ее соседями:
- смешение стилей, религий, культурных и архитектурных решений, особенно заметное при сравнении Улан-Батора с отдаленными аймаками, а также в самой столице: в центре города рядом с дворцами культуры советского типа высятся небоскребы из стекла и бетона. С точки зрения экономиста, это может восприниматься, как зримое выражение стихийности перемен и неоднозначности принимаемых решений в процессе резкого разрушения институтов, оставшихся в наследство после потери тесной связи с Советским Союзом, при фактическом отсутствии институтов современного капитализма (несмотря на наличие некоторых его внешних атрибутов) [1];
- несоответствие инфраструктуры как потребностям, так и возможностям экономики. Улан-Батор, будучи самым густонаселенным городом страны, постоянно страдает от чудовищных пробок, захлебываясь в потоке автомобилей – грузовых и легковых; железнодорожный пограничный переход между Монголией и Китаем, являющийся «узким местом» на пути расширения внешней торговли Монголии и примечательной разницей в ширине железнодорожной колеи, а также резким контрастом между уровнем развития инфраструктуры в той и другой стране.
Если рассмотреть эти характеристики более пристально, учитывая в том числе и геоэкономические интересы России, то может сложиться еще более противоречивая картина развития современной Монголии, как с точки зрения задач развития экономики страны, так и с точки зрения вовлеченности в международные цепочки добавленной стоимости.
В частности, Монголия характеризуется некоей непоследовательностью принимаемых решений по отношению к антироссийским санкциям. Несмотря на формальный нейтралитет, монгольские банки не осуществляют операций, даже обменных, с российской валютой. Международные официальные переводы также не осуществляются, однако обмен наличности фактически производится в полулегальных пунктах в неограниченных объемах. При этом следует понимать, что одним из системообразующих промышленных звеньев монгольской экономики все еще остается Улан-Баторская железная дорога – дочерняя компания ОАО «РЖД» (50% +1 акция). Взаимодействие с северным соседом для Монголии принципиально привлекательно также и в свете энергетических и других инфраструктурных проектов. В связи с этим возникает ряд вопросов [1].
Инфраструктура УБЖД крайне изношена, требует модернизации как с точки зрения путевого развития, так и с позиции интеграции ее в проектируемую сеть монгольских железных дорог, активно развиваемых другими геостратегическими партнерами страны: Южной Кореей, Китаем, Японией, Сингапуром – это означает потребность в инвестициях в системы сигнализации, централизации и блокировки, в системы управления движением поездов, в энергетику и связь. При этом УБЖД, являясь дорогой, ориентированной изначально на перевозку насыпных грузов в полувагонах (самые низкомаржинальные грузы с точки зрения цен на перевозки), и будучи искусственно переориентированной на перевозку контейнеров для удобства их переноса на границе с Китаем на подвижной состав, предназначенный для более узкой колеи, фактически не имеет собственных инвестиционных ресурсов. Дорога убыточна по определению и с точки зрения той социальной роли, которую она играет, и с точки зрения типов перевозимых грузов, и с учетом потребностей развития инфраструктуры, которая оказывает влияние на объемы работы и среднюю скорость доставки грузов. В связи с этим возникает вопрос, каким образом планируется привлекать финансовые ресурсы ОАО «РЖД», в частности анонсированное в 2023 г. увеличение уставного капитала УБЖД на 2 млрд руб., если официальные каналы финансового обмена с Россией ей недоступны. УБЖД не имеет и не может иметь собственных инвестиционных ресурсов для устранения действующих лимитирующих условий развития инфраструктуры, а вовлекать инвесторов из третьих стран без согласия ОАО «РЖД» юридически и с точки зрения обеспечения национальной безопасности не представляется возможным и целесообразным.
Экстраполируя данную ситуацию на монгольскую экономику в целом, можно предположить, что подобные противоречия разрешаются формально, что приводит фактически к построению нового типа бюрократии. Ряд отчетов международных институтов, например Всемирного банка, ВТО, МВФ, посвященных Монголии, активно хвалит политику за устранение барьеров на пути демократии и построения свободного общества, достижения целей устойчивого развития и т. д. На поверку большинство подобных достижений являются чисто формальными; для иностранных игроков они упрощают вход на монгольский рынок, а монгольскому государству вредят, фактически приводя к усилению экономики коррупции и ослаблению попыток развития индустриальной экономики.
Возвратимся к примеру УБЖД [2]: формальное упрощение процедур входа на монгольский рынок для иностранных капиталов привело к тому, что в разных частях Монголии, в соответствии с интересами зарубежных инвесторов, реализуются слабо связанные между собой проекты развития транспортной инфраструктуры для конкретного вида добываемого сырья: руды, угля, плавикового шпата, золота. При этом проекты, реализуемые с китайской поддержкой, должны быть интегрированы в повестку «Пояса и пути» для обеспечения запасных пропускных и провозных возможностей для китайского экспорта товаров в контейнерах. Иными словами, существует ряд целей, специфических для каждого конкретного проекта развития инфраструктуры, но не учитывающих потребности развития экономики Монголии и ее выхода из институциональной ловушки.
В частности, нашумевшее открытие в 2022 г. новой железнодорожной линии Тавантолгой–Гашуунсухайт – это железная дорога от каменноугольного месторождения, часть железнодорожных путей соответствует циклу обогащения руды (Арцсуурь–Нарийнсухайт и Шивээхурэн, Чойбалсан–Хоот–Бичигт и т. д.). Все эти проекты ориентированы на продолжение практики вывоза природных ресурсов, истощения ресурсной базы, усиления износа инфраструктуры, роста бюрократической и коррупционной надстройки над процессами присвоения результатов эксплуатации природных ресурсов Монголии, но никоим образом не на структурные изменения на пользу монгольскому обществу.
Получаем один из классических примеров наличия крайнего неравенства в обществе, за счет того что предписания международных финансовых институтов сводятся к построению благоприятного инвестиционного климата в духе doing business, а именно к сокращению времени на регистрацию бизнеса, упрощению разрешительной деятельности, сокращению числа недовольных, обеспечению гендерного равенства в численности гражданских служащих и прочих в целом не абсолютно бесполезных предписаний, но при отсутствии четкой программы действий, приводящих к бюрократическому подходу к выполнению установленных показателей ради самих показателей, а не для развития реальной производственной базы страны.
Противоречия такого рода могут привести только к негативным в целом последствиям для монгольской экономики, а также для потенциала российско-монгольского сотрудничества. В частности, перед монгольской экономикой стоят задачи расширения рынков сбыта, диверсификации продукции и производств, более равномерного использования географического потенциала страны.
К примеру, по данным Всемирного банка, степень диверсификации активов в распоряжении монгольской экономики составляет порядка 0,4 (из 1), тогда как диверсификация производимых продуктов оценена в 0,2 1. При этом следует понимать, что активы, которыми располагают резиденты монгольской экономики, отчасти представляют собой наследие советской эпохи, а отчасти – результат соглашений с Китаем и «Третьим соседом». В частности, свободная торговля с Японией приводит к тому, что в Монголии на крайне выгодных условиях можно приобрести подержанные японские автомобили и погрузочную технику, что, как представляется, стало не последней причиной печально известных улан-баторских пробок. Однако вместо строительства надежной сети наземного скоростного пассажирского железнодорожного транспорта для столиц (действующей и проектируемой) и их пригородов сооружаются и поощряются железные дороги для связи угольных месторождений.
Иначе говоря, действующая система, ориентированная на частное обогащение и формальное исполнение предписаний «Третьего соседа», создает структуру, более неэффективную по своей природе, чем морально и физически устаревшие мощности Улан-Баторской железной дороги.
В этом контексте необходимо отметить и социальную сторону реализуемых инвестиций. Для управления развивающейся ныне сетью железных дорог решением правительства создан Единый центр управления движением. Сами по себе подобные центры не являются чем-то экстраординарным, они обеспечивают некоторую скоординированность и единство диспетчеризации перевозочного процесса сети железных дорог. В настоящее время Центр уже функционирует, но на полную проектную мощность пока не вышел, ввиду того что не все железные дороги фактически построены. Обращает на себя внимание кадровый состав Центра: большую часть его работников представляют специалисты IT-сферы, тогда как в номенклатуре инженеров железнодорожного транспорта имеется специальность «Управление движением поездов», специально предназначенная для овладения навыками эффективной диспетчеризации. Следует сказать, что в России, несмотря на автоматизацию процессов управления движением, студенты по-прежнему обучаются этой специальности 5 лет. Монгольский центр управления движением приглашает магистров в области IT для работы в названном Центре.
В самой Монголии отсутствуют информационные и цифровые технологии уровня, достаточного для полной автоматизации процессов управления движением поездов, полная передача этого функционала зарубежным вендорам – это серьезная угроза безопасности государства; возможность перехода всего штата диспетчеров УБЖД в штат Единого центра для обеспечения управления всей проектируемой сетью железных дорог Монголии – это риск с точки зрения российско-монгольских отношений в сфере развития инфраструктуры, сложности в сопряжении работы на российско-монгольской границе. Кроме того, кадровый ресурс УБЖД на сегодняшний день недостаточен даже для обеспечения нужд одной железной дороги, и сложно представить себе возможность координации работы пяти дорог. Этот пример в очередной раз доказывает формальность проводимых реформ и несоответствие их реальным задачам реструктуризации монгольской экономики. С формальной точки зрения система единой диспетчеризации признана наиболее эффективной схемой координации работы нескольких перевозчиков и владельцев инфраструктуры. Однако реальные условия для достижения этой эффективности остались за скобками проводимых реформ: равномерность пропускной способности, единые требования к инфраструктуре и подвижному составу, наличие способов обхода наиболее грузонапряженных участков и т. д.
Итогом таких неравномерных тенденций развития транспортно-логистической инфраструктуры Монголии становится крайне высокая стоимость потерь при попытке реализации любой меры, направленной на структурную трансформацию.
В подтверждение тезиса о высокой стоимости потерь можно привести еще один весьма показательный пример: цены на ввозимые из Китая продукты питания, например овощи и фрукты. Низкая эффективность логистики применительно к ввозу продукции южного соседа отражается в высоких ценах на базовое продовольствие для монгольских потребителей, тогда как затраты на транспортировку товаров из Японии, с которой у Монголии нет границ, не в пример ниже. Иными словами, выгоды и потери Монголии от трансграничной торговли напрямую зависят от готовности торгового партнера вкладывать средства в развитие соответствующей логистической инфраструктуры.
Развитие логистической инфраструктуры Монголии в целом соответствует описанной логике: складские мощности, средства коммуникации ориентированы на достижение интересов торговых партнеров Монголии: так, китайский терминально-складской комплекс на границе с Монголией обеспечен перевалочными мощностями для грузов в контейнерах для удобства смены железнодорожной колеи, тогда как фактически в нем отсутствуют необходимые мощности для эффективной перевалки и хранения продуктов питания, в импорте которых по более приемлемым ценам заинтересована Монголия. Кроме того, обслуживание контейнерных составов под давлением требований приграничной инфраструктуры Китая приводит к росту затрат монгольской стороны. Также следует отметить, что логистическая инфраструктура, навязываемая третьими странами, не учитывает интересов Монголии в области продовольственной безопасности и развития национальной промышленности внутри страны: партнеры Монголии не испытывают потребности в развитии инфраструктуры для хранения стратегически важных для Монголии продуктов, а в большей степени ориентированы на то, чтобы монгольские потребители закупали товары промышленного экспорта развитых стран и обеспечивали ритмичные поставки насыпных грузов. При этом промышленный потенциал Монголии требует интегрированной логистики, позволяющей объединять малотоннажные отправки грузов с ограниченным сроком годности и сложными условиями хранения. Для этого необходимы распределяющие логистические мощности, снабженные специальным складским оборудованием для хранения продукции сельского хозяйства, текстильной и кожевенной промышленности с возможностями хабового перераспределения логистических потоков для обеспечения как внутреннего потребления, так и экспорта готовой продукции.
Развитие воздушного сообщения, и в том числе – аэропортовых мощностей, выгодно для Японии, инвестирующей в этот процесс серьезные ресурсы, тогда как развитие автомобильного и железнодорожного сообщения, обеспечивающего продовольственную безопасность государства, неинтересно торговым партнерам, в связи с чем возникают серьезные перебои с поставками продовольствия, а цены включают в себя колоссальную транспортную надбавку, являющуюся прямыми потерями для монгольской стороны.
Для иллюстрации этого примера можно обратиться к графикам доходов и расходов Монголии от оказания транспортных услуг во внешней торговле, по данным сервиса Statista (рис. 1, 2).
Рис. 1. Прогноз динамики доходов Монголии от оказания транспортных услуг, млн долл.
Источник: URL: https://www.statista.com/outlook/mmo/third-party-logistics-3pl/mongo-lia#revenue (дата обращения: 20.05.2024).
Рис. 2. Прогноз динамики расходов Монголии от оказания транспортных услуг, млрд долл.
Источник: URL: https://www.statista.com/outlook/mmo/third-party-logistics-3pl/mongo-lia#logistics-cost (дата обращения: 20.05.2024).
Соотношение между доходами и расходами составляет более чем 10 раз в пользу расходов, что, разумеется, не может быть свидетельством эффективно налаженной логистики. Более того, такая ситуация говорит не о логистике как таковой – вопрос в неравномерности торговых отношений Монголии с третьими странами, а также о явном перекосе выгод от внешней торговли в пользу партнеров Монголии. Еще более пагубным следствием можно считать и противоречия в развитии внутреннего транспортного рынка страны, возникающие в результате проводимой политики, что подтачивает нарождающийся промышленный потенциал и экономическую безопасность Монголии.
Уже упомянутые противоречия в развитии транспортной инфраструктуры и их направленность на решение задач, которые внешние инвесторы ставят перед Монголией, происходит в ущерб развитию собственного промышленного и торгового потенциала. Монголия имеет возможности для развития и внешней экспансии сельскохозяйственных производителей. Одной из специфических характеристик сельского хозяйства Монголии можно считать крайне низкую степень интеграции производителей: пастбища и фермы являются частными небольшими предприятиями либо индивидуальными хозяйствами, сложившимися исторически на местах своего пребывания. Для того чтобы накопленный потенциал производства сельскохозяйственной продукции направить как на развитие собственного рынка, так и на развитие глубокой переработки и продажи на внешних рынках, необходима соответствующая сельскохозяйственная и транспортная инфраструктура. Для этого должны быть организованы некие подобия кооперативов, способных закупать сельскохозяйственное сырье у мелких частных производителей, обеспечивать обработку, хранение, переработку и транспортировку на рынки сбыта. Фактически подобного рода институты отсутствуют и в целом не приветствуются как факторы возникновения монополии, порицаемой международными финансовыми организациями. В итоге возникают как пресловутые потери, обусловливающие неэффективность всей системы сельскохозяйственного производства, так и реальные источники монополии в виде преобразованных и захваченных в процессе стихийного перехода к рынку редких сельхозпредприятий, устанавливающих невыгодные цены для производителей. Такие предприятия обычно имеют недостаточные мощности для наращивания промышленного потенциала и, самое главное, ввиду установления монопольных цен не испытывают потребности в усовершенствовании своих производственных мощностей и получения положительного эффекта масштаба.
То же самое можно сказать и о производстве кашемира. Производственный цикл изделий из кашемира довольно капиталоемок, если речь идет о производстве готовых изделий, поэтому экспортируется по большей части сырье, тогда как на рынке готовых изделий главенствует гигант GOBI, привлекающий международные капиталы и высокооплачиваемую рабочую силу. На сегодняшний день крайне низка вероятность возникновения альтернативы GOBI на рынке изделий из кашемира Монголии: небольшие кустарные производства не имеют ресурсов для того, чтобы навязать этому гиганту конкурентную борьбу, что выражается в крайне высоких ценах на готовые изделия из кашемира для потребителей внутри Монголии.
Можно уловить определенную зависимость. Неразвитость институтов, возникающая из-за противоречий соседей Монголии и их инвестиционного потенциала и способности тратить деньги в этой стране для решения собственных задач, ведет к несогласованности и формальности проводимых в стране реформ, что, в свою очередь, ведет к росту бюрократического аппарата. Для развития монгольской экономики последнее чревато постоянными подменами программных решений – проектными; повсеместный примат проектного подхода при потребности в капитальных вложениях определяет завышенные требования к окупаемости вложений, что приводит к потере возможностей для решения задач диверсификации экономики – задач, которые должны решаться программно.
Низкий уровень диверсификации воспроизводится постоянно за счет реализуемых проектов, в том числе транспортно-логистических. Ориентация на проекты сырьевой направленности, а также на проекты диверсификации торговых и геополитических каналов влияния соседей (главным образом – «третьего соседа») за счет Монголии, приводит к росту неравенства в доходах, ресурсах, политическом влиянии. Все это поддерживает низкую диверсификацию через механизм неравенства: иллюзия капитализма, создаваемая риторикой международных финансовых институтов, приводит к расслоению в обществе за счет высокой разницы в возможности выбирать место работы, место жительства, место получения образования. Наслоение бюрократического аппарата приводит к практически полной невозможности изменений в структуре производства, определенной направлениями инвестиций, в том числе иностранных.
Отсутствие выхода к морю также является фактором, подавляющим возможности независимого развития монгольских отраслей промышленности, помимо сырьевых. Зависимость в каналах поставки на внешние рынки определяет и зависимость от транспортных средств для перемещения грузов. И хотя Монголия имеет офшорный морской флот, его развитие мало способствует налаживанию устойчивых торговых цепочек с третьими странами независимо от воли «соседей» [2].
Зависимость Монголии в определении внутренней политики является одновременно локальной и глобальной. Локальная зависимость состоит в конкуренции за использование пропускной способности. На сегодняшний день поистине трансмонгольской является только УБЖД, строящиеся и построенные новые железнодорожные линии соединяют лишь регионы в рамках цикла обработки и транспортировки ресурсов. Использование мощностей УБЖД при имеющихся инфраструктурных ограничениях нельзя назвать конкурентным: в основном, дорога используется для транзита китайских грузов экспорта сырья. Это определяет локальную зависимость промышленного развития страны от транспортно-логистической инфраструктуры. Говоря о глобальной зависимости, следует понимать зависимость от условий, на которых предоставляются инвестиции в развитие тех или иных отраслей экономики Монголии. Условия эти касаются и Вашингтонского консенсуса, и тех формальных признаков, которые отмечены выше: изменение условий заявительной деятельности, свобода входа на монгольские рынки, отношение к антироссийским санкциям, которые формально не поддержаны, но фактически ограничивают российский бизнес в Монголии. Таким образом, Монголия зависима в проводимой политике как от внутренних институциональных противоречий, так и от геополитической повестки дня.
Транспортно-логистические потоки, сегодня опосредующие торговлю Монголии, не соответствуют направлениям финансовых потоков. Ограничения в финансовом обращении с Россией добавили остроты таким противоречиям. Транспортно-логистические потоки из Монголии в Китай имеют высокий уровень износа инфраструктуры, что способствует отложенному эффекту роста транспортных расходов. Логистические потоки из третьих стран представляют собой транспортировку более легких грузов, оказывающих менее деструктивное влияние на развитие инфраструктуры, однако потенциал таких перевозок с точки зрения влияния на цены ограничен ценовой политикой третьих стран и теми международными обязательствами, которые взяла на себя Монголия в части упрощенного доступа иностранных компаний на монгольские рынки. Таким образом, суммируя отложенный эффект возросшей амортизации и неконкурентных цен на продукцию собственного производства, мы получаем глобальный скрытый вывоз ресурсов из страны в силу неразвитости институтов, обеспечивающих векторы транспортного развития.
Сказанное в совокупности не означает невозможности позитивных перемен как для развития торговли и транспорта Монголии, так и для интенсивного российско-монгольского сотрудничества. Однако для реализации подобной повестки необходим плавный пересмотр совокупного эффекта от проводимых реформ и реализуемых проектов. Во-первых, и это актуально в том числе и для российских инфраструктурных проектов, следует четко ограничить область применения проектного подхода к решению тех или иных задач, в первую очередь – развития транспортной инфраструктуры [3]. Во-вторых, следует на этапе становления приоритетных отраслей (например, сельского хозяйства, текстильной промышленности) создать институты промышленной кооперации, в том числе международной – на паритетных началах. Речь не идет о возникновении монополистов в сбыте и логистике, речь идет именно о производительной интеграции для получения положительного эффекта масштаба, способного сообщить импульс развития мелким индивидуальным хозяйствам. В-третьих, пересмотра требует инвестиционная программа развития УБЖД. Освоение параллельных и сопутствующих маршрутов за счет средств внешних инвесторов не противоречит идее развития инфраструктурного комплекса трансмонгольской магистрали – на сегодняшний день только эта сеть при наличии подвижного состава нужных типов может в кратчайшие сроки обеспечить необходимый задел для диверсификации монгольской экономики. В-четвертых, бюрократический аппарат реализации экономических реформ должен быть умеренно сокращен и нацелен не на достижение внешних KPI, а на рост объемных показателей и сокращение уровня внутренних структурных цен.
Применительно к последнему следует обратить внимание и на денежно-кредитную и бюджетную политику Монголии. Навязанная бюджетная консолидация и таргетирование инфляции при независимости денежного регулятора – это меры, которые теоретически могут сработать при более широком среднем классе и более высоком уровне доходов рядового населения. В условиях же, сложившихся в монгольской экономике на сегодня, такие меры усиливают неравенство доходов за счет инфляционного налога и принципиально разных возможностей разных децилей трудоспособного населения. Иными словами, условия Вашингтонского консенсуса, жестко применяемые к странам-получателям помощи МВФ и других институтов развития, приводят только к усугублению эксплуатации природных и человеческих ресурсов страны, низкой ликвидности бюджетных расходов и слабости банковской системы и финансового рынка.
Перечисленные проблемы и векторы решений, которые потенциально могут быть направлены на исправление ситуации, зависят как от политической воли, так и от возрастающей зависимости Монголии от прямых иностранных инвестиций: ценовые перекосы предопределяют постоянный рост потребности в финансовых ресурсах, что в случае консолидации бюджетных трат усиливает зависимость от внешних средств, а следовательно – от внешних источников финансирования. Как бы то ни было, транспортные издержки ложатся на монгольских производителей и потребителей, а последние нуждаются в бюджетных расходах для обеспечения покупательной способности в условиях импортированной и внутренней структурной инфляции. Круг замыкается, и без развития институтов, направленных на поддержку торговли и кооперации, сложно ожидать помощи в выходе из сложившейся ситуации извне.
1 URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099122923235632685/pdf/P17967910273eb0291bc5713261695a6599.pdf.
Авторлар туралы
Daria Dinets
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: dinets_da@pfur.ru
Grand Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Credit
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Мигранян А.А., Динец Д.А. Векторы российско-монгольского сотрудничества // Геоэкономика энергетики. Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ).2023. Т. 24. С. 55–76.
- Грайворонский В.В. Китайский мегапроект «Экономический пояс Шелкового пути»: место и роль Монголии // Восточная аналитика. 2018. № 3. С. 49–59.
- Егоров В.Г., Белоногова А.А. Российско-монгольские отношения: новый этап // Геоэкономика энергетики. 2024. Т. 25. № 1. С. 61–79.