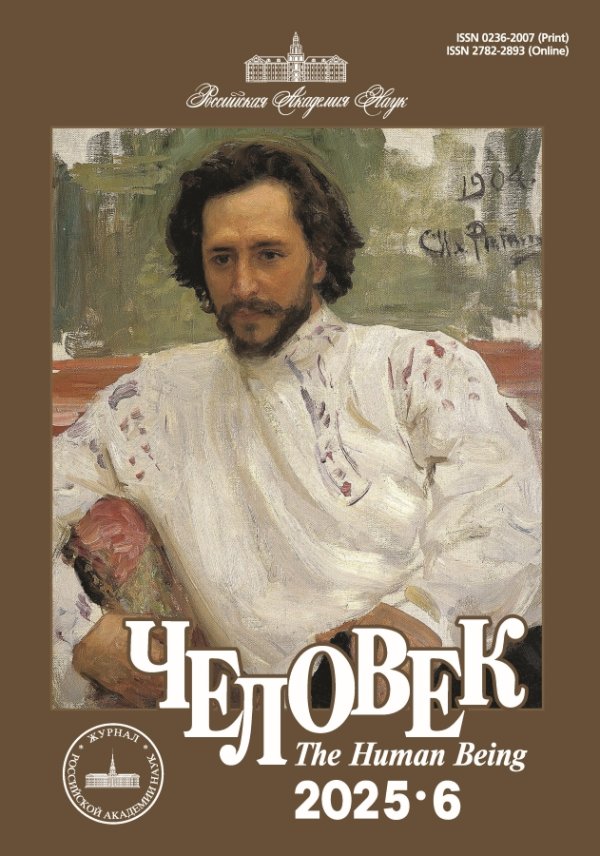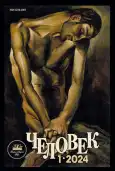Death and Digital Immortality: Hi-Tech Grief
- Authors: Khusyainov T.M.1, Urusova E.A.1
-
Affiliations:
- HSE University
- Issue: Vol 35, No 1 (2024)
- Pages: 141-157
- Section: Social practices
- URL: https://medbiosci.ru/0236-2007/article/view/255794
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724010104
- ID: 255794
Full Text
Abstract
The study focuses on the issue of commemorative practiсe transformation as a result of digital technology development. The human has been using different means of interaction with the dead in order to receive answers, knowledge, and protection for thousands of years. A modern human needs it as well that leads to the demand for the development of digital technology in commemoration and grief. There is an important aspect related to the commemoration of and respect to the dead that is evidenced by building memorials and preserving their possessions and stories about them. In digitalization, we can see it in the interaction with digital footprints and digital avatars that demonstrate the activity of the human in the virtual space. In spite of increasing demand for interaction with the dead, this contact may bring not only nostalgic feelings or relief but also cause suspiciousness, fear and anxiety, postpone and extend grieving. Detabooing of the subject of death, its more active discussion and availability of information do not always help the human start thinking about their own death leaving the feeling of death anxiety for Another. At the same time, there is a two-way process: information in the virtual space about real deaths, especially detailed one, makes them an unreal narration. A digital avatar of the dead is also awarded with dichotomic features: it is both alive and dead, developing or created with no participation of a certain person (the dead). After death, digital footprints do not belong to them; they become «digital heritage» for the close ones and public that may cause «resurrection» in the virtual space, even if there was no consent to distribute information. As a result, the digital avatar of the dead can be used both to endure grief and manipulate in order to swindle money, involve in destructive communities or lead to suicide.
Full Text
Хусяинов Тимур Маратович
Урусова Екатерина Александровна
Сохранение воспоминаний и передача семейного наследия — это человеческое желание, которое проявляется в самых разных аспектах жизни: архитектура, религиозные обряды, традиции имен и фамилий, составление генеалогических схем и многое другое, поэтому неудивительно, что технологические компании ищут новые способы продвижения и улучшения этого процесса. Память о человеке и ее передача становятся особенно важными, когда личность чувствует конечность жизни. Осознание вероятности собственной смерти или смерти близкого человека вызывает скорбь, горе, страх, отчаяние и заставляет заботиться о том, чтобы оставить след, который позволил бы воссоздать образ ранее жившего.
Тяга к сохранению связи с умершими имеет многотысячелетнюю историю, и ее отражением можно считать появление специфических обрядов и символов (это, например, празднование дней мертвых, создание тотемов и алтарей, проведение спиритических сеансов, семейные легенды). Именно таким образом умерший, покидая мир живых, перемещался в виртуальное пространство — память и фантазию, и периодически оттуда «вызывался» для помощи, защиты, ответов на вопросы. Несмотря на то, что XX век назван Горером и Арьесом временем «вытеснения смерти», в XXI веке она уже более органично встраивается в повседневную жизнь человека.
Развитие современных технологий позволяет помещать образы умерших в новое виртуальное пространство, то, с которым человек может более активно взаимодействовать, прежде всего в Интернет. Подобное проникновение такой стороны жизни, как умирание или смерть, в виртуальную среду, также свидетельствует о расширении жизненного пространства и увеличении возможностей для создания волнового эффекта, снижающего тревогу от осознания смерти. Вместе с этим сама специфика Интернет-пространств может приводить к рождению множества новых фантазий о вариантах бессмертия, которого можно добиться, проявляя активность на различных площадках и создавая связи с другими пользователями.
Уже много лет существуют виртуальные кладбища, которые хранят информацию о тысячах умерших людей [Рунаев, 2019]. Если первоначально они были больше похожи на газетные разделы с некрологами или списки кладбищенских табличек [The Virtual Memorial Garden], то теперь технологии переводят информацию в мультимодальный формат, создавая более «объемный» и «целостный» образ человека, которого больше нет. Подобное расширение приводит к дискуссии о возможности цифрового бессмертия, актуализирует вопросы цифровой памяти и обращается к традиционному вопросу о том, что ждет человека после смерти.
Цифровая память
От текста, который обычно хранил информацию об умершем, например, в газетных некрологах, метрических книгах или дневниковых записях, благодаря технологиям мы переходим к мультимодальному формату (фото, видео, аудио, объемные модели) и сталкиваемся с проектами, реализующими самые разные коммеморативные практики (например, онлайн-трансляции похоронной церемонии, создание виртуального мемориала и многое другое). Так, современный человек все больше задумывается о смерти и том, какая память останется о нем. Поэтому появляется большое количество различных инструментов, способных эту память сохранять еще при жизни и, как например, в работе А. Холла, Д. Босевски и Р. Ларкина, публиковать воспоминания человека уже после его смерти [Hall, Bosevski, Larkin, 2006] или использовать сервисы для написания сообщений, направленных в будущее, которые будут доставлены адресату в указанную дату в ряде случаев, когда человек будет уже мертв. Однако при столкновении с публикуемой и скрываемой информацией открывается и другая сторона, которая связана со страхом того, что все, что было скрыто при жизни, станет достоянием общества. Это, в свою очередь, приводит к разработке различных алгоритмов, уничтожающих информацию после смерти пользователя, и юридических норм, запрещающих эту информацию распространять.
Пытаясь осмыслить то, что происходит с цифровым следом человека после его смерти в реальном мире, П. Ульгюим рассматривает концепцию «Цифро-рожденной смерти»1 (born-digital death), в рамках которой за каждым человеком закреплено некое «облако» его данных, и оно может расширяться даже после его смерти за счет других пользователей посредством цифровой мемориализации, в том числе и за счет скорбящих [Ulguim, 2018]. В таком случае перед нами один из типов постмодернистской смерти, которая отличается от традиционной новым проявлением публичного и частного, когда человек перестает самостоятельно производить цифровой контент. Факт аналоговой смерти становится видимым в виртуальном пространстве и порождает отклик Другого, присутствующего в Интернет-среде.
В дополнение этому И.С. Шаповалов обнаруживает, что в цифровом пространстве смерть становится нереальным повествованием. Человек отчуждается от своей смерти, а вместе с этим может отчуждаться от своей идентичности и восприятия реальности [Шаповалов, 2021]. Таким образом подкрепляются психологические защиты, отгораживающие человека от экзистенциальной тревоги бытия-к-смерти, конечность жизни становится достоянием Другого. При этом происходит постоянное вытеснение тревоги смерти (чувства по отношению к собственной кончине становятся невидимыми, будто бы не принадлежащим конкретному опыту), а само умирание может обрастать ложными представлениями [Ялом, 2019]. Это, в свою очередь, подпитывает миф о собственной исключительности и фантазию о бесконечном времени, которая отдаляет человека от возможности разворачивать свое существование здесь и теперь. С другой стороны, попадая в цифровое пространство, смерть становится повсеместной, обыденной и теряет свой индивидуальный смысл, что приводит к снижению ощущения конфронтации с ней. При этом, как замечают Э. ван Дорцен и И. Ялом, конфронтация со смертью является необходимой для осознания собственной сущности, индивидуальности, возможностей и потенциала [Ялом, 2015; Ван Дорцен, 2020; Глухова, 2008]. Стоит сказать, что даже в цифровой среде столкновение с темой конечности жизни может вызвать сильные эмоции и стать пробуждающим к жизни переживанием, а виртуальное свидетельство чужого горя — вызвать сочувствие, сопереживание и скорбь.
Поскольку отражение и обозначение смерти претерпевают изменения, вместе с ней меняются и сами практики скорби, поминовения и т.д. Так как число людей, с которыми мы коммуницируем удаленно (то есть взаимодействуем онлайн), возрастает, то можно предполагать, что и обращение после биологической смерти человек все чаще будет совершать через сеть. Это может выражаться через подключение к онлайн-похоронам, написание некрологов в социальных сетях, «зажигание свечей», «поминальный постинг» (создание записей, посвященных умершему, в социальных сетях), при этом появляется значительно больше свободы в выражении своих чувств и сохранения памяти. Подобный процесс влияет на десакрализацию кладбищ и детабуирование смерти, что приводит к более открытому разговору о смерти и возможности выражать свои чувства, невзирая на устоявшиеся традиции. Само распространение Глобальной сети оказало значительное влияние на детабуизацию смерти: в открытом доступе можно найти видеотрансляции самоубийств и похорон, фотографии и видео с мест убийств и несчастных случаев, обсуждения смерти на различных онлайн-площадках, а также онлайн-мемориалы по умершим и похоронные сервисы, например, стриминговая площадка для похоронных домов и крематориев «OneRoom» [OneRoom]. Зрителями подобных материалов становятся десятки, а иногда и сотни тысяч людей. Подобным образом человек, не способный непосредственно испытать саму смерть, пытается пережить данный опыт как зритель [Глухова, 2008]. Подобная демонстрация так или иначе влияет на то, что смерть начинает казаться «реальной» или же «более реальной» для тех, кто предпочитает избегать этой темы. При этом эмоциональный отклик на происходящее с конкретными людьми проявляется с большей силой, чем при контакте с темой смерти, раскрытой в фильме, сериале или картине, где происходит искаженное представление происходящего [Сонтаг, 2014]. И хотя С.В. Мохов, М.А. Бойцов и Т.А. Некрасова замечают, что у современного человека не вызывает возмущения и сильных чувств вид искалеченного или страдающего человеческого тела [Мохов, 2020; Некрасова, 2015], мы можем сказать, что демонстрируемое в виртуальной среде горе вызывает чувство сострадания. Однако возникающая при созерцании смерти мысль о конечности собственной жизни может приводить к возникновению страха, тревоги и ужаса, которые снижают возможность сопереживать и выражать сочувствие [Сонтаг, 2014]. Именно поэтому детабуизация и высокий спрос на соприкосновение с чужой смертью может соседствовать с искаженными, нереалистичными представлениями о смерти или же отрицанием ее как таковой.
В любом случае это влияет и на практики скорби и коммеморативные практики. Говоря о новом проявлении публичности в смерти, стоит отметить, что новые практики меморилизации существенно расширяют число скорбящих. Это проявляется как в отношении тех, кто в течение своей жизни не создавал цифрового контента, так и активных интернет-пользователей: похороны в онлайн-сообществах, обмен новостями, киберпамять [Hutchings, 2013]. Было выявлено, что примерно 50% комментариев, оставленных в книгах памяти онлайн-кладбищ, написаны незнакомцами [Roberts, 2006], а представители онлайн-сообществ, которые устраивают памятные мероприятия по умершим участникам, часто даже не встречались лично [Hutchings, 2013]. Следующим шагом становится возникновение групп разнообразных скорбящих, которые выражают онлайн «общественное горе» [Vealey, 2011]. Они формируются в виде отдельных сообществ или размещают записи скорби на своих персональных страницах, меняют аватар на свечу или другой символ скорби. Достаточно часто мы можем такое наблюдать в социальных сетях после катастроф и терактов с массовыми жертвами.
Все это создает совершенно новую иерархию скорби. Информирование о смерти может происходить именно через социальные сети и уже не от лица семьи, а любого из контактов; персональные страницы могут как превращаться в мемориальные места, так и в пространство для вандализма, а сами учетные записи становиться интернет-призраками [Ulguim, 2018]. По некоторым оценкам, к 2060 году мертвых может быть больше, чем живых только на Facebook*. Исследование 2019 года показало, что к 2100 году может существовать от 1,4 до 4,9 млрд профилей умерших пользователей Facebook* в зависимости от темпов роста платформы [Benson, 2022].2
Подобные страницы приобретают «могильные качества», то есть становятся местом взаимодействия с умершим: если ранее эта беседа была приватной и неформальной, то теперь социальные медиа становятся перформативным общественным пространством для увековечивания памяти, а прямые беседы с умершими происходят онлайн и публично [Ulguim, 2018]. Однако стоит отметить, что смерть отдельного человека может быть увековечена и более приватно, в ограниченном социальном онлайн-пространстве.
При этом может находить свое проявление крафторизация, то есть отход от статусного потребления в сторону индивидуализации. Сам данный процесс может касаться как аналоговых похоронных услуг и товаров, так и цифровой составляющей. Все чаще можно наблюдать снижение интереса к материальным объектам — похоронным товарам, например, гробам, и возрастание внимания к персонализированным услугам, в том числе цифровым [Walter, 2017].
В данном случае мы можем наблюдать проявление концепции индивидуализации З. Баумана, которая описывает «освобождение человека от предписанной, унаследованной и врожденной предопределенности» [Бауман, 2005]. В цифровом пространстве каждый умерший может получить уникальный «мемориал».
Кроме того, появляется большое число профилей известных людей, которые умерли, в том числе в доцифровую эпоху. Например, большой исторический проект компании «Яндекс» о событиях 1917 года зарегистрировал в нескольких социальных сетях наиболее значимых людей эпохи. На их персональных страницах публиковались дневниковые записи о событиях 1917 года [Проект «1917»]. Также можно встретить немало профилей, создаваемых по индивидуальной инициативе людей, которые пытаются переосмыслить персоналию прошлого и осовременить его творчество и идеи, например, Владимира Маяковского или Сергея Есенина. Таким образом происходит оцифровка аналоговой смерти и мертвые становятся живыми в цифровом пространстве. В подобном процессе интересен факт привнесенного Я, поскольку ясно то, что фотографии, посты и переосмысление наполнены индивидуальностью и отражением человека, стоящего за образом исторической личности. В этом процессе рождается феномен продолжения собственной жизни через умершего, спродуцированный в цифровое пространство. В противовес посланиям, существующим для снижения экзистенциального страха перед смертью (например, «Ты будешь жить в своих детях»), в указанном выше процессе образ умершего становится «каркасом», на который проецируется жизнь.
Столкновение с подобными «живыми мертвыми» может приводить к возникновению вопроса: «А могу ли я вообще умереть, если люди, которых нет уже давно, продолжают жить в виртуальном пространстве?». И это является небольшим отзвуком механизмов защит от страха смерти (например, веры в свою исключительность). Таким образом, возникает достаточно простая формула: нужно оставить большое количество цифровых следов и виртуальных посланий, тогда память обо мне будет жить вечно в сети. Эта формула будто бы способствует увековечиванию отдельной личности в пространстве, которое, в отличие от человеческой памяти или исторических свидетельств, не имеет ограничений во времени.
Цифровое бессмертие
Процессы увековечивания памяти неразрывно связаны с вопросами бессмертия, поисками способов достижения которого люди были озабочены многие тысячелетия. В современных условиях все чаще речь заходит о цифровом бессмертии.
Нередко у человека наблюдается потребность получить подтвержденную связь с умершим. Отражением подобной связи становится вера в призраков или духов, которые могут подсказывать, оберегать, выражать недовольство или преследовать человека. Подобным образом желание продолжать контакт с кем-то проецируется во вне, переносясь из собственного воображения в условную реальность. Чувства, связанные с потерей близкого человека, такие как горе, скорбь, тоска, находят выход через стремление взаимодействовать с чем-то, сохранившим образ или воспоминания об умершем (например, с личными вещами, игрушками, фотографиями или даже оцифрованными образами). Эта потребность приводит к росту спроса на технические разработки.
Цифровая революция оказала значительное влияние на все стороны жизни человека. Каждый из нас ежедневно оставляет огромное количество данных, что позволяет технологиям реконструировать определенный образ. Само виртуальное пространство выражает идею бесконечности и бессмертия [Мохов, 2020: 286]. Это проявляется в смене модели «забывания» потери на модель «продолжающихся связей», которой Дж. Дебра характеризует проявление скорби в сети [Debra, 2015].
Важным шагом на пути сохранения памяти об умершем стало использование цифровых следов, то есть данных обо всех действиях, совершаемых человеком с использованием техники, а это не только выложенные в социальные сети фотографии или поисковые запросы, но и данные о биоритмах, собираемые фитнес- браслетами, реестр подключений к роутеру при помощи Wi-Fi или запуску робота-пылесоса. Цифровой след — это не только контент, сознательно создаваемый самим человеком, но и огромное число различных действий, которые также зафиксированы и могут быть использованы в дальнейшем [Хусяинов, 2021].
Более 3,7 млрд человек ежедневно пользуются Интернетом, хранят фотографии в облаке, переписываются в социальных сетях и мессенджерах, «лайкают» понравившиеся записи. Сам того не подозревая, проявляя активность через интернет, человек не просто оставляет след, но и способствует распространению «волнового эффекта». Причем распространение «волнового эффекта» в сети имеет более хаотичный и непредсказуемый характер, поскольку скорость передачи информации, возможность ее распространения, перевода, трансформации и охвата практически молниеносна. Подобное влияние, передающееся от одних пользователей к другим, успокаивает людей, ощущающих бессмысленность жизни и страх смерти. Но, как справедливо замечает И. Ялом, «волновой эффект» не означает, что после нас останется имя или образ, а совершающиеся попытки сохранять исключительно свою личность бесплодны [Ялом, 2015; Ялом, 2019]. Именно поэтому продуцирование однотипного контента, фотографий или следование трендам хоть и влияет на количество оставленной о себе информации, но не способствует сохранению индивидуального жизненного опыта, который в итоге и становится полезным, утешающим или жизнеизменяющим.
И все же, когда мы умираем, информация, которой мы поделились в Интернете, продолжает жить. Использование искусственного интеллекта может позволить оживить эти данные и создать цифровой аватар, воспроизводящий цифровую идентичность. Анализ и моделирование данных цифровых следов способны помочь создать алгоритм, который будет отвечать так же, как человек, использовать его слова и выражения, следовать логике других его ответов и т.д. В конце 2022 года произошло важное событие в области развития нейросетей — создание ChatGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, поддерживающего запросы на естественных языках; возможности в этой сфере практически безграничны.
С учетом того, что часть нашей жизни уже перенесена в виртуальное пространство, общение с виртуальным аватаром не кажется чем-то странным, точно так же у нас есть немало друзей и знакомых, которых мы могли видеть в последний раз очень давно или вообще никогда, а вся коммуникация происходила в социальных сетях и мессенджерах. Сейчас пользователь уже не всегда может отличить, разговаривает он с другим человеком, виртуальным ассистентом или чат-ботом. Поэтому «возрождение» умершего в виде цифрового аватара может приводить к реализации «продолжающихся связей» — окружающие могут не заметить отличия и считать, что общаются с живым человеком.
Другая важная составляющая создания цифрового аватара — визуальная. Современные нейросети способны генерировать изображения на основании текстовых запросов, в том числе используя в качестве базы фотографии реального человека; более того, эти фотографии могут быть анимированы или превращены в видео. В случае «оживления» и создания цифрового образа умершего, мы можем получить не точную копию, а то, как его воспринимали, то есть искаженный образ. Под влиянием стыда, ностальгии и прочего мы не достигаем цифрового бессмертия, а создаем симулякр человека, который может достаточно сильно отличаться от «оригинала».
Защита от «воскрешения»
Техноэтические вопросы, связанные со сбором и обработкой цифровых следов в сети, остаются одними из важнейших для обсуждения.
Поскольку все большая часть нашей жизни проходит в виртуальном пространстве, планирование того, что будет с цифровым следом, становится важной составляющей жизни современного человека. Даже после смерти человек может стать жертвой мошеннических действий. Профили умерших людей, так же как и профили живых, являются товаром на «теневом» рынке и позволяют совершать различные преступления [Lee, 2022]. Подобные тенденции приводят к необходимости заблаговременного принятия решения о том, что произойдет с цифровыми следами и цифровым аватаром человека после смерти. В то время как одни надеются через него обрести бессмертие, другие опасаются, что цифровой аватар может стать цифровым зомби и приносить лишь вред окружающим.
При этом существует два юридических подхода в отношении защиты частной жизни умерших [Zheng, 2023]: первый основан на логике, согласно которой правоспособность граждан возникает с рождения и заканчивается со смертью. После смерти человек перестает быть субъектом права, и закон больше не защищает неприкосновенность его частной жизни, а все права будут переданы ближайшим родственникам, которые могут захотеть использовать цифровые следы для создания цифрового аватара умершего. При этом интересы самого умершего уже не учитываются, его интересы не будут защищены, если близких родственников не окажется. В любом случае встает вопрос о разумности наследования информации о личной жизни умершего, если его воля не учитывается. Второй подход связан с рассмотрением цифровой информации в контексте не только одного человека, но и третьих лиц, имеющих с ним общую конфиденциальность. Таким образом, доступ к информации со стороны родственников — еще более спорный вопрос.
Нормы относительно цифровых следов умерших людей очень сильно отличаются в зависимости от страны. Например, в Евросоюзе действует пакет норм GDPR, который защищает конфиденциальную информацию в течение 30 лет после смерти, однако данные нормы носят фрагментарный характер. В США, напротив, данная система достаточно обширна и охватывает все разнообразие случаев. Для этого в 2014 году были приняты законопроекты UFADAA (Uniform Fiduciary Access to Digital Access Act), PEACA (Privacy Expectation After-life Choice Act) и RUFADAA (Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act), которые ввели трехуровневую систему доступа к цифровому наследию умершего: онлайн-завещание, завещание или доверенность, заключенные в бумажной форме, соглашение о доступе доверенных лиц [Zheng, 2023].
При этом существуют неправовые варианты взаимодействия с цифровыми следами. Данные меры предлагают сами цифровые платформы, и они связаны с удалением профиля пользователя в случае предоставления свидетельства о смерти кем-то из близких; другой вариант не подразумевает смерть как таковую в качестве основания для удаления, причиной для удаления является продолжительная неактивность пользователя. Поэтому, если умерший не позаботился о своем цифровом наследии до смерти, то, вероятнее всего, действия с ним будут реализованы в соответствии с правилами платформы, то есть сохранятся. Подобная учетная запись, например, в социальной сети, может стать не только коммеморативным местом, но и быть источником конфиденциальной информации, утечку которой определить будет значительно сложнее, а последствия могут быть самыми разнообразными.
Вопрос цифровых следов и распоряжение ими после смерти является одной из наиболее актуальных проблем современного информационного права и активно прорабатывается с целью защиты интересов умершего. Данная тема плотно переплетается с правом на забвение, однако остается важный технический вопрос: как платформы будут получать информацию о смерти и том, как человек распорядился своим цифровым наследием, если в системе это явно не отражено. К. Оман отметил, что после смерти именно цифровые платформы становятся истинными и полноправными владельцами данных умершего, в связи с чем могут получать возможность контроля над цифровой памятью [Benson, 2022]. Таким образом, в большинстве сценариев цифровые следы умершего не будут удалены, а станут доступны либо родным, либо цифровой платформе, а значит, чтобы воспрепятствовать созданию цифровой копии, необходимо об этом прямо заявить в форме завещания.
Не менее важным аспектом цифрового «воскрешения» является его влияние на проживание эмоций, связанных со смертью и умиранием. Потеря близкого человека в той или иной степени запускает процесс горевания и механизм, помогающий справиться с мыслями о смерти. Попытка любыми способами оставить умершего человека или его цифровой след в жизни, может быть оценена двояко. С одной стороны, таким образом может происходить движение от отрицания к принятию, где создание цифрового аватара будет становиться мемориальным памятником, соединяющим в себе воспоминания и переживание прощания. Терапевтическая полезность такого действия будет оцениваться появляющимися чувствами светлой грусти, облегчения и утихающей скорби, а сам аватар может постепенно потерять актуальность, так как выполнит свою задачу по облегчению переживаемого страдания. С другой стороны, попытка вновь создать ушедшего человека будет служить симптомом столкновения с экзистенциальной тревогой, приводить к возникновению защитных механизмов, или ретравматизации, от ощущения безысходности (так как в реальности близкого человека все же не существует). Попытка воссоздать прежний образ, вести социальные сети за умершего, компилировать голос и новые фотографии с помощью нейросетей и чатов может быть свидетельством избегания чувства одиночества и страха собственной смерти. Навязчивое желание взаимодействовать с цифровым аватаром умершего и постоянное получение нового субъективного опыта от этого контакта тормозит возникновение естественного процесса горевания, а человек остается на этапе отрицания смерти, поддерживая иллюзию жизни.
Таким образом, цифровое «воскрешение» и цифровизация смерти может вызывать противоположные реакции, отражающие как здоровую способность конфронтировать с конечностью жизни и ощущать как ценность и значение собственной жизни, так и патологические формы проявления экзистенциальной тревоги.
* * *
Технологизация человека и возможность создания его физической или цифровой копии приводит к вопросу о том, что есть человек, каковы его границы и где он заканчивается. Процесс цифровизации приводит к тому, что ответ на этот вопрос становится размытым, уже сложно определить, является ли цифровой аватар настоящим и подлинным отпечатком человека. При этом за скобки следует вынести случаи, когда цифровой аватар является лишь оболочкой, под которой, как под овечьей шкурой, скрыт человек, проживающий жизнь другого, или мошенник, стремящийся к наживе. В этих случаях создаваемый образ может быть значительно более проработанным, его текст более реалистичен, так как не генерируется на основании данных цифровых следов.
Создаваемый цифровой аватар умершего отчасти можно сравнить с монстром, оживленным доктором Франкенштейном: это образ, собранный из «кусков» (цифровых следов разных периодов жизни человека) и искусственно запущенный в виртуальном пространстве. С одной стороны, он силен и похож на человека, но внимательно присмотревшись, мы видим его изъяны, например, при генерации видео или фото лицо человека идеально похоже, но вместо пяти пальцев на руках, их может оказаться сколько угодно; с другой стороны, он обладает знаниями о человеке, аватаром которого является, но не способен на полноценное взаимодействие от его лица, так как не может учитывать все правила общественных отношений, существовавшей внутри семьи атмосферы и т.д. Недостатки и «эффект зловещей долины» могут перебиваться ностальгическими чувствами и воспоминаниями, что приводит к принятию цифровой копии как подлинного человека.
Эксперименты с ChatGPT продемонстрировали, как в ответ на вполне конкретные вопросы нейросеть генерирует ложные факты [Орехов, 2023], — так и аватар умершего человека может начать говорить о том, чего никогда не было.
В связи с этим пугающим становится то, что воспоминания и знания цифрового аватара могут быть отредактированы извне, что является потенциальной возможностью для сторонних лиц оказывать огромное влияние и манипулировать человеком, который находится в горе, и использует виртуальный аватар умершего для проживания своего состояния. Алгоритм может привести как к передаче своего имущества другим лицам, так и довести до самоубийства.
Машина может наделяться потусторонними качествами, приводя к развитию мифа о воскрешении и бессмертии. Технологии становятся новым спиритическим проводником; замещая медиума Викторианской эпохи, они позволяют нам взаимодействовать с «восставшими из мертвых», которых становится все больше.
Готов ли человек к этому?
1 Под термином «цифро-рожденная смерть» авторы статьи подразумевают событие, когда реальная смерть не останавливает пребывание человека в виртуальном пространстве, а иногда и становится причиной появления в нем.
2* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
About the authors
Timur M. Khusyainov
HSE University
Author for correspondence.
Email: timur@husyainov.ru
ORCID iD: 0000-0001-7193-6410
Deputy Dean of the Faculty of Humanities, Senior Lecturer of the School of Literature and Intercultural Communication
Russian Federation, 25/12 Bolshaya Pecherskaya Str., Nizhny Novgorod 603155Ekaterina A. Urusova
HSE University
Email: uk1801@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-2772-4757
Senior Lecturer of the School of Fundamental and Applied Linguistics
Russian Federation, 25/12 Bolshaya Pecherskaya Str., Nizhny Novgorod 603155References
- Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ., под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2005.
- Bauman Z. Individualizirovannoe obshchestvo [The Individualized Society], transl. and ed. from V.L. Inozemceva. Moscow: Logos Publ., 2005.
- Ван Дорцен Э. Экзистенциальное консультирование и психотерапия на практике. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2020.
- Van Dorcen E. Ekzistencial’noe konsul’tirovanie i psihoterapiya na praktike [Existential Counseling and Psychotherapy in Practice]. Moscow: Institute for General Humanitarian Research Publ., 2020.
- Глухова И. Как говорить о смерти в экзистенциальном консультировании // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2008. Вып. 13. [Электронный ресурс]. URL: http://journal.existradi.ru/index. php?option=com_content&view=article&id=258:2009-08-08-12-42-42& catid=50:-13&Itemid=59 (дата обращения: 03.04.2023).
- Glukhova I. Kak govorit’ o smerti v ekzistencial’nom konsul’tirovanii [How to Talk about Death in Existential Counseling] // Ekzistencial’naya tradiciya: filosofiya, psihologiya, psihoterapiya. 2008. Is. 13. [Electronic resource]. URL: http://journal.existradi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258:2009-08-08-12-42-42&catid=50:-13&Itemid=59 (date of access: 03.04.2023).
- Мохов С. Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия. 4-е изд., испр. и доп. М.: Common place, 2020.
- Mohov S. Rozhdenie i smert’ pohoronnoj industrii: ot srednevekovyh pogostov do cifrovogo bessmertiya [Birth and Death of the Funeral Industry: from Medieval Churchyards to Digital Immortality]. 4th ed. Moscow: Common place Publ., 2020.
- Некрасова Т. Тело, телесность и физическое присутствие: функции понятий в историческом исследовании // Гефтер. 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://gefter.ru/archive/14533 (дата обращения: 03.04.2023).
- Nekrasova T. Telo, telesnost’ i fizicheskoe prisutstvie: funkcii ponyatij v istoricheskom issledovanii [Body, Corporality and Physical Presence: Functions of Concepts in Historical Research]. Gefter. 2015 [Electronic resource]. URL: http://gefter.ru/archive/14533 (date of access: 03.04.2023).
- Орехов Б. «Крейсер «Россия» и другие фантазии ChatGPT // Системный Блокъ. 18.03.2023 [Электронный ресурс]. URL: https://sysblok.ru/blog/krejser-rossija-i-drugie-fantazii-chatgpt/ (дата обращения: 03.04.2023).
- Orekhov B. “Krejser ‘Rossiya’ ” i drugie fantazii ChatGPT [“Cruiser ‘Russia’” and Other Fantasies of ChatGPT]. Sistemnyj Blok’. 18.03.2023 [Electronic resource]. URL: https://sysblok.ru/blog/krejser-rossija-i-drugie-fantazii-chatgpt/ (date of access: 03.04.2023).
- Проект «1917» [Электронный ресурс]. URL: https://project1917.ru/ (дата обращения: 03.04.2023).
- Project “1917” [Electronic resource]. URL: https://project1917.ru/ (date of access: 03.04.2023).
- Рунаев Т.А. Виртуальные кладбища как коммеморативные практики: разновидности и векторы развития // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2019. Вып. 3 (244). С. 111–119. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-kladbischa-kak-kommemorativnye-praktiki-raznovidnosti-i-vektory-razvitiya (дата обращения: 03.04.2023).
- Runaev T.A. Virtual’nye kladbishcha kak kommemorativnye praktiki: raznovidnosti i vektory razvitiya [Virtual Cemeteries as Commemorative Practices: Varieties and Vectors of Development]. Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sociologiya, yurisprudenciya, politologiya, kul’turologiya. 2019. N 3 (244). P. 111–119. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-kladbischa-kak-kommemorativnye-praktiki-raznovidnosti-i-vektory-razvitiya (date of access: 03.04.2023).
- Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
- Sontag S. Smotrim na chuzhie stradaniya [Wе Look at Other People’s Suffering]. Moscow: Ad Marginem Press LLC Publ., 2014.
- Хусяинов Т.М. Цифровые следы в пространстве университета // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2021. Т. 4. № 2. С. 52–72. DOI: 10.32326/ 2618-9267-2021-4-2-52-72.
- Khusyainov T.M. Digital footprints in the university space. The Digital Scholar: Philosopher`s Lab. 2021. N 2. P. 52–72. doi: 10.32326/2618–9267–2021–4–2–52–72.
- Шаповалов И.С. Разрушение идентичности и отчуждение от смерти в танатосенситивной цифровой среде // Манускрипт. 2021. Т. 14. Вып. 6. С. 1202–1208. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrushenie-identichnosti-i-otchuzhdenie-ot-smerti-v-tanatosensitivnoy-tsifrovoy-srede (дата обращения: 03.04.2023).
- Shapovalov I. S. Razrushenie identichnosti i otchuzhdenie ot smerti v tanatosensitivnoj cifrovoj srede [Destruction of Identity and Alienation from Death in Thanatosensitive Digital Environment]. Manuscript. 2021. Vol. 14, Is. 6. P. 1202–1208. [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrushenie-identichnosti-i-otchuzhdenie-ot-smerti-v-tanatosensitivnoy-tsifrovoy-srede (date of access: 03.04.2023).
- Ялом И. Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти / пер. с англ. А. Петренко, Э. Мельник. 3-е изд. М.: Издательство «Э», 2015.
- Yalom I. Vglyadyvayas’ v solnce. Zhizn’ bez straha smerti [Looking Into the Sun. Life Without Fear of Death], transl. from A. Petrenko, E. Mel’nik. 4th ed. Moscow: Izdatel’stvo «E» Publ., 2015.
- Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М.: Независимая фирма «Класс», 2019.
- Yalom I. Ekzistencial’naya psihoterapiya [Existential Psychotherapy], transl. from T.S. Drabkinoj. Moscow: Class Publ., 2019.
- Benson F. What Happens Тo Your Digital Footprint When You Die? IFLScience [Electronic resource]. URL: https://www.iflscience.com/what-happens-to-your-digital-footprint-when-you-die-66262 (date of access: 03.04.2023).
- Hall A., Bosevski D., Larkin R. Blogging by the Dead. NordiCHI ‘06: Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction: changing roles. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2006. P. 425–428. doi: 10.1145/1182475.1182528.
- Hutchings T. Death, Emotion and Digital Media. D. Warne (eds) Emotions and Religious Dynamics. Farnham, Ashgate. London: Routledge, 2014. P. 191–212. doi: 10.23914/ap. v8i2.
- Lee M. Protect Yourself from Scams by Safeguarding your Digital Footprint: Expert. CTVNews (20.06.2022) [Electronic resource]. URL: https://www.ctvnews.ca/sci-tech/protect-yourself-from-scams-by-safeguarding-your-digital-footprint-expert-1.5954483 (date of access: 03.04.2023).
- Roberts P. From MySpace to Our Space: the Functions of Web Memorials in Bereavement. The Forum. 2006. Vol. 32, N 4. P. 1–4.
- The Virtual Memorial Garden [Electronic resource]. URL: http://catless.ncl.ac.uk/vmg/memorial/ (date of access: 03.04.2023).
- Vealey K. Making Dead Bodies Legible: Facebook’s Ghosts, Public Bodies and Networked Grief. Gnovis. 2011. Vol. 11, N 2. [Electronic resource]. URL: http:// www.gnovisjournal.org/2011/04/03/making-dead-bodies-legible/ (date of access: 03.04.2023).
- Ulguim P. Digital Remains Made Public: Sharing the Dead Online and Our Future Digital Mortuary Landscape. Research output: Contribution to journal. 2018. Vol. 8, Is. 2. P. 153–176. doi: 10.23914/ap. v8i2.
- Walter T. What Death Means Now: Thinking Critically About Dying and Grieving. Bristol: Policy Press, 2017.
- Zheng Yi. A Primitive Study on Privacy Protection of Digital Heritage — From the Perspective of Social Media Accounts. The 2023 International Academic Conference on Business Administration and Statistics Finance (IACBASF 2023). 2023. Vol. 4, N 1. P. 16–23. doi: 10.56028/aemr.4.1.16.2023.