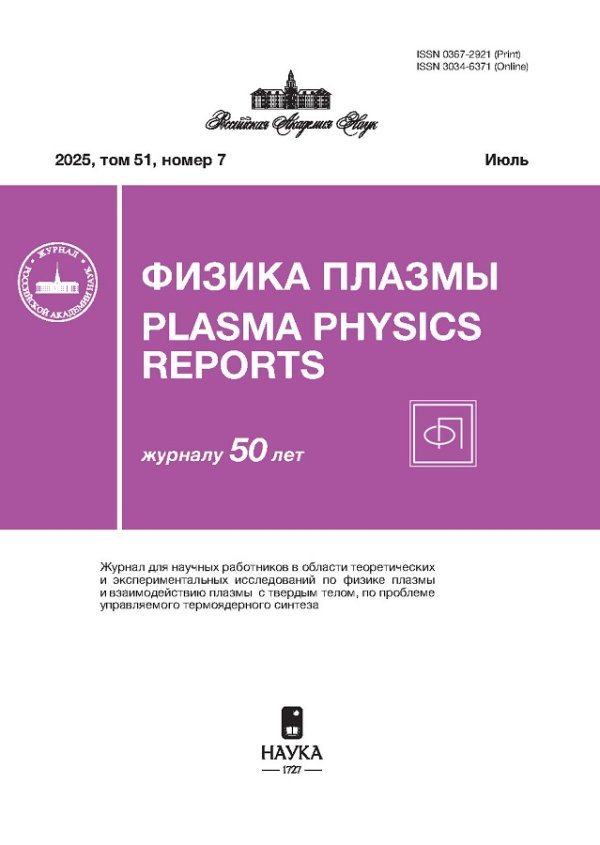ITER and TRT—Technological Platforms for Controlled Thermonuclear Fusion
- Authors: Krasilnikov A.V.1
-
Affiliations:
- Private Institution “ITER-Center”
- Issue: Vol 50, No 4 (2024)
- Pages: 363-372
- Section: TOKAMAKS
- URL: https://medbiosci.ru/0367-2921/article/view/271556
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367292124040017
- EDN: https://elibrary.ru/QEBWSY
- ID: 271556
Cite item
Full Text
Abstract
To solve the main problems of designing a thermonuclear tokamak reactor, such as the experimental demonstration of quasi-stationary thermonuclear burning, generation of non-inductive quasi-stationary current; development of plasma technologies and materials of the first wall and divertor, the International Thermonuclear Experimental Reactor ITER is being designed, projects of DEMO demonstration reactors are being developed, and a Tokamak with Reactor Technologies TRT is being developed in Russia. The main components of the ITER (superconducting electromagnetic system (EMS) made of Nb3Sn and NbTi, the first wall of W coated with a low-Z material, systems for additional plasma heating, experimental modules of a breeder blanket, plasma control systems, etc.) and TRT (EMS of high-temperature superconductors, first wall options of W with B4C coating, TiB2–AlN composite and liquid metal lithium, additional heating and quasi-stationary non-inductive current drive systems, innovative divertor, experimental breeder and hybrid blanket modules, reactor-compatible diagnostics and remote plasma control systems, etc.) technology platforms are presented. The technological platforms of the ITER being under construction and the TRT being designed contain an almost complete, according to modern understanding, set of technologies for the future thermonuclear reactor.
Full Text
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
На пути к созданию термоядерного токамака-реактора предстоит решить несколько основных проблем — экспериментальная демонстрация: 1) эффективного удержания энергии и частиц плазмы в специально разрабатываемых квазистационарных режимах с термоядерным горением, с доминирующим нагревом термоядерными альфа-частицами и их принципиально коллективным поведением; 2) методов генерации неиндуктивного квазистационарного тока; 3) плазменных технологий и материалов первой стенки и дивертора, обеспечивающих эффективный съём тепла при взаимодействии квазистационарной термоядерной плазмы с первой стенкой и дивертором. Миссия ИТЭР заключается в экспериментальной демонстрации реализуемости термоядерной энергетики с получением режимов с Q = 10. Исполнение этой миссии — вклад в разрешение основных проблем в создании будущего термоядерного реактора, определяется полным составом и гибкостью экспериментального технологического комплекса ИТЭР. Основными целями создания TРT являются, как дальнейшее развитие технологий ИТЭР, так и разработка новых дополнительных к технологической платформе ИТЭР-технологий, прежде всего — ЭМС из высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), вариантов первой стенки из материалов с низким Z, инновационных плазменных технологий дивертора, генерации квазистационарного неиндуктивного тока, методов управления плазмой, элементов гибридного бланкета и других.
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ИТЭР
В рамках проекта ИТЭР на базе достижений развития токамаков в Советском Союзе, США (TFTR) и ЕС (JET), а также в Японии (JT-60U), Китае (EAST) и Республике Корея (K-STAR) создаётся технологическая платформа термоядерного реактора [1] и уже сегодня начинает формироваться мировая термоядерная промышленность. Технологическая платформа ИТЭР (см. рис. 1) включает электромагнитную систему (ЭМС) из низкотемпературных сверхпроводников (катушки тороидального поля (TFC) и центрального соленоида (CS) — из Nb3Sn, катушки полоидального поля (PFC) — из NbTi), первую стенку из Ве (в настоящее время также рассматривается вариант создания первой стенки из W + В покрытия (боронизация тлеющим разрядом и непосредственно в разряде ИТЭР с вводом крупинок бора)), W-дивертор c напуском Ne, криостат, крионасосы, криогенный комплекс, системы дополнительного нагрева и неиндуктивной генерацией тока, реакторосовместимые диагностики, системы сбора и дистанционной обработки данных, системы управления, экспериментальные модули бридерного бланкета и другие системы и технологии, уровень разработки которых и определяет современный мировой уровень технологического развития.
Рис. 1. Технологическая платформа ИТЭР.
Рис. 2. Технологическая платформа ТРТ.
Катушки TFC (из Nb3Sn, c магнитным полем на внутреннем обходе — 11.8 Тл, током I = 68 кА, размером 9×17 м, весом 360 т), модули CS (из Nb3Sn, будут работать в магнитном поле — 13.5 Тл, I = 42 кА) и катушки PFC (из NbTi, магнитное поле до 6 Тл, I = 45 кА, самая большая диметром 24 м, самая тяжелая — 400 т) электромагнитной системы ИТЭР созданы так, чтобы обеспечить инженерные плотности тока в катушках, обеспечивающие формирование магнитной конфигурации и генерацию тока во всём диапазоне проектных параметров ИТЭР с магнитным полем на оси до 5.3 Т и чтобы обеспечить их эффективное функционирование в условиях циклических нагрузок. Более 1300 тонн Nb3Sn и NbTi сверхпроводников и сверхпроводящие катушки для ЭМС ИТЭР были изготовлены на специально созданных у шести участников проекта ИТЭР (все кроме Индии) производственных линиях. 250 тонн Nb3Sn и NbTi сверхпроводников ИТЭР были изготовлены на специально и впервые созданных в России: производстве низкотемпературных сверхпроводников на Чепецком механическом заводе АО “ТВЭЛ” под научным руководством АО “ВНИИНМ” и технологических линиях по изготовлению сверхпроводящих кабелей и проводников в АО “ВНИИКП”. Катушка полоидального поля PF-1 (диаметр 8.9 м, вес 161 тонна) из NbTi сверхпроводника была разработана АО “НИИЭФА” и изготовлена совместно АО “СНСЗ” и АО “НИИЭФА”. Токовводы ЭМС ITER изготовлены в Китае из высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).
С целью обеспечения проведения экспериментов в плазме с основными примесями, имеющими низкую зарядность, первая стенка ИТЭР разработана из металлического бериллия. В настоящее время в ЕС, России (АО “НИИЭФА”) и Китае изготовлены и прошли испытания первые полномасштабные прототипы элементов первой стенки из Ве. По ряду технологических причин организацией ИТЭР рассматриваются и исследуются возможности создания вольфрамовой первой стенки с возобновляемым покрытием бором. Для этого организацией ИТЭР анализируются возможности реализации технологий боронизации с применением тлеющего разряда и ввода крупинок бора непосредственно в разряд плазмы ИТЭР. Экспериментальное изготовление и исследование свойств опытных образцов элементов вольфрамовой первой стенки с покрытием B4C (и др.) начато в нескольких научных центрах и на технологических предприятиях России [2—4]. Оборудование ИТЭР первой стенкой из металла с высоким Z и c B4C покрытием потребует специальной разработки технологии восстановления этого покрытия первой стенки в процессе разряда ITER. Технология нанесения и восстановления B4C покрытия с применением напуска паров карборана (В10Н10С2Н2) в процессе разряда в токамаке была ранее разработана и успешно применена на российских установках Т-11М и Т-10 [5]. В настоящее время в России разработана программа НИОКР по дальнейшему исследованию важных для эффективного применения на ИТЭР свойств B4C покрытий на вольфраме, которая включает: стендовые исследования адгезии, распыления, трещинообразования, сорбирования водорода и других свойств, а также программа совместных с партнёрами по ИТЭР комплексных испытаний свойств B4C покрытий на действующих токамаках с длительным (~ 100 с) разрядом плазмы. Начата подготовка дальнейшей экспериментальной разработки и проведения исследований эффективности технологий восстановления B4C покрытий первой стенки токамака посредством напуска паров карборана непосредственно в плазменный разряд с перспективой применения этих технологий на ИТЭР. Наряду с созданием и испытаниями обращённого к плазме B4C покрытия металлической первой стенки, в качестве материала первой стенки ИТЭР российскими учеными в настоящее время экспериментально исследуется и анализируется эффективность применения таких материалов с низким Z, как имеющие высокие: температуры плавления, прочности, теплопроводности и электропроводности композиты на основе TiB2-AlN [6—9] (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные свойства рассматриваемых перспективных материалов первой стенки
Показатель | Металл | Металл + покрытие | Керамика | Композит | ||||
Be | W | W + B | W + B4C | AlN | TiB2 | TiB2-AlN [6] TiB2-AlN-Al [7] | TiB2-AlN-BN-TiN [8] | |
Z | 4 | 74 | 74 + 5 | 74 + 5/6 | 13/7 | 5/22 | 5/7/13/22 | 5/7/13/22 |
Плотн. г×см−3 (% соотн.) | 1.85 | 19.3 | 2.34 | 2.52 | 3.255 | 4.52 | 3.5 (40/60) [6] (95/5) [9] (28/65/7(Al)) [7] | 3.5 (36/54/4/6) |
Тплав, К | 1551 | 3695 | 2348 | 2620 | 2770 | 3498 | 2770/3498 | 2770/3498 |
Тепло- провод. Вт/(мК) | 200 | 174 | 27 (300 К) | 121 (300 К) 62 (970 К) | >170 | 66 (293 К) 80 (1200 К) 30(273 K) [6] | 135 (273 K) – 70 (600 K) [6] 149 [9] 170‒230 (300 K) | |
Элект. резист. нОм×м | 36 | 53 | ~1013 | 8×105 (500 С) | ~1020 | 90‒140 | 2 (293 K) – 9 (1200 K)×103 (28/65/7(Al)) [7] | 7 (293 K) – 15 (1200 K)×103 (36/54/4/6) |
К лин. расш., К−1×10−6 | 11.5 | 4.3 | 9.5 | 5.3/4.2 анизо-троп. | 5.9‒9.2 (300‒1300 К) | |||
Поглощ. трития / перепы-ление | ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ||
Особен-ность | Низк. Тплав. | Выс. Z | Кристаллическое покрытие | Пористость ~20‒ 25 % [6] | Окисляется, при T > 1273K Большие гранулы, пористость~10 % | TiB2 гранулы в AlN матрице. Снижен размер TiB2 гранул. Снижение порист до 5‒1 %. Снижение окисления | ||
Для обеспечения надежной работы ИТЭР в режимах с плотностями потоков энергии в дивертор на уровне 10 МВт/м2 и выше обращенная к плазме поверхность последнего изготавливается из вольфрама, имеющего одну из самых высоких температур плавления — 3695 К. Однако, плотности потоков энергии в диверторе ИТЭР, особенно во время развития локализованных на границе плазмы неустойчивостей (ELM), настолько высоки, что для защиты вольфрамовой поверхности дивертора в проект ИТЭР включена технология отрыва входящего потока энергии от непосредственного локального взаимодействия с поверхностью дивертора в области пересечения с выходящей на неё сепаратрисой. Это достигается переизлучением энергии, выносимой вдоль сепаратрисы, на специально напускаемом в дивертор газе, в качестве которого в ИТЭР будет использоваться неон. Для контроля характеристик плазмы в диверторе с требуемым пространственным и временным разрешением создаётся комплекс диагностик дивертора ИТЭР. Конструкция дивертора и режимы его работы оптимизированы так, чтобы снизить поступление в основную плазму как распылённых примесей вольфрама, так и инжектированного неона. Изготовление элементов дивертора ведётся в ЕС, России (центральные сборки, АО “НИИЭФА”) и Японии. Финальные испытания элементов дивертора всех партнёров по ИТЭР при высоких потоках энергии выполняются на специально созданном в АО “НИИЭФА” стенде IDTF (ITER divertor test facility).
Сверхпроводящая электромагнитная система, работающая при температуре, близкой к температуре жидкого гелия, вакуумная камера и криостат ИТЭР существенно превосходят по своим масштабам все ранее реализованные аналогичные установки. Криогенная система ИТЭР должна обеспечить функционирование не только ЭМС и криостата ИТЭР, криомагнитов, гиротронов, топливных инжекторов крупинок, но и ряда других систем, таких как: системы криогенной вакуумной откачки вакуумной камеры, криостата, нагревных и диагностического инжекторов, и др. Её проектная мощность и масштабы не имеют аналогов.
В настоящее время Международной организацией ИТЭР разрабатывается новая базовая линия (состав комплекса, график сооружения, общая стоимость) ИТЭР, в соответствии с которой экспериментальная программа ИТЭР будет разделена на три этапа: первый — расширенная первая плазма (AFP) c близкими к проектным экспериментальными режимами плазмы с водоводом и дейтерием, второй — проведение экспериментов с ДТ- плазмой с достижением Q = 10 при ограничении суммарного флюенса ДТ-нейтронов на уровне 1% от проектного (DT-1) и третий — полномасштабные технологические ДТ-эксперименты (DT-2). Для нагрева плазмы до термоядерных температур и отработки технологий генерации квазистационарного неиндуктивного тока в условиях высокой плотности плазмы (1020 м−3) и величине магнитного поля на оси 5.3 Тл в рамках проекта ИТЭР разрабатываются три метода дополнительного нагрева с кардинально повышенными к сегодня достигнутым параметрами. Система электронного циклотронного нагрева (ЭЦН) будет базироваться на применении гиротронов с частотой 170 ГГц, мощностью 1 МВт и длительностью импульса 1000 секунд. В разрабатываемой новой базовой линии планируется существенное увеличение суммарной мощности ЭЦН, за счёт увеличения числа гиротронов: до 40 МВт на стадии расширенной первой плазмы (AFP) и до 67 МВт на последующих стадиях DT-1 и DT-2. 16 гиротронов для проекта ИТЭР уже изготовлены, 8 в России (АО “ГИКОМ” и ИПФ РАН) и 8 в Японии (Toshiba). Создаются три инжектора быстрых атомов водорода/дейтерия, на базе источников отрицательных ионов, с энергией до 1 МэВ, мощностью 16 МВт каждый и длительностью импульса 1000 секунд. Разрабатывается система ионного циклотронного нагрева (ИЦН), которая будет работать в частотном диапазоне 40—55 МГц (мощностью до 10 МВт на первой стадии работы ИТЭР — AFP (первая антенна) и до 20 МВт на стадиях DT-1 и DT-2) и базироваться на применении двух многолепестковых (24 = 4 лепестка в тороидальном направлении × 6 — в полоидальном) антенн. Разработанная конструкция антенн ИЦН позволит в экспериментах на ИТЭР изменять спектр k|| быстрой магнитозвуковой волны с целью оптимизации нагрева и генерации тока и снижать амплитуду медленной волны для снижения поступления примесей в плазму.
В рамках проекта ИТЭР разработаны и будут изготовлены более 50 диагностик и систем сбора, дистанционной обработки данных и управления. Существенная часть этих систем будет реакторосовместимой. В том числе и в связи международным характером проекта ИТЭР особенностью создаваемых диагностик является дистанционная обработка данных и управления их параметрами. ИТЭР является экспериментальным реактором, поэтому его диагностический комплекс включает расширенное число диагностик, требуемое для поиска и оптимизации режимов работы. Будущий термоядерный реактор, по-видимому, будет использовать меньшее число диагностик. Определение минимального необходимого перечня диагностик будущего реактора будет одной из важных задач экспериментов на ИТЭР. В научных центрах России выполнена разработка и ведётся изготовление следующих диагностик ИТЭР: корпускулярные анализаторы, комплекс томсоновского рассеяния в диверторе, гамма-спектрометр (ФТИ РАН), спектроскопия водородных линий и примесей, рефлектометрия и рефрактометрия (УТС-Центр, НИЦ “Курчатовский институт”), вертикальная многоканальная нейтронная камера, диверторный монитор потока нейтронов (ИТЭР-Центр, AO “НИИТФА”, ИЯФ СО РАН), алмазный и сцинтилляционный нейтронные спектрометры, алмазный спектрометр быстрых атомов перезарядки (ИТЭР-Центр).
Важнейшей задачей Проекта ИТЭР является определение и разработка методов и технологий управления квазистационарной плазмой на ИТЭР и в будущем реакторе. В Проекте ИТЭР планируется провести исследование эффективности таких методов управления как оптимизация профилей параметров плазмы, создание транспортных барьеров, оптимизация профиля тока, предотвращение срывов, снижение амплитуды неустойчивостей на границе плазменного шнура (ELM), управление работой дивертора с применением напуска неона и ряд других. Главной целью программы исследований на первой стадии работы ИТЭР (AFP) является разработка и эффективное штатное применение, при максимальных поле — 5.3 Тл и плазменном токе — 15 МА, методов: предотвращения срывов плазмы, недопущения развития режимов с убегающими сверхэнергичными электронами и управления ELM-неустойчивостями с применением инжекторов крупинок и внутрикамерных витков.
Важнейшей программой на ИТЭР будет разработка и испытания экспериментальных модулей бланкета. В рамках этой программы запланированы исследования не менее четырёх концепций и экспериментальных образцов бридерных модулей бланкета для наработки трития. В качестве лидеров данных исследований на ИТЭР выступают ЕС, Япония, Китай и Корея.
Центральной частью технологической платформы, главнейшей целью и миссией проекта ИТЭР является демонстрация реализуемости термоядерной энергетики, которая должна быть продемонстрирована достижением квазистационарной плазмы (500—3600 с) с Q > 10. Суть этого будущего достижения ИТЭР заключается в том, что человечество впервые создаст и обеспечит длительное квазистационарное удержание термоядерной плазмы с доминирующим нагревом собственными термоядерными альфа-частицами. Успешную реализацию этой центральной технологии ИТЭР — квазистационарное удержания термоядерной плазмы и будет обеспечивать весь технологический комплекс ИТЭР.
Как инициатор и полноценный участник проекта ИТЭР Российская Федерация активно участвует в создании всех компонентов технологической платформы ИТЭР и непосредственно обеспечивает разработку, изготовление и поставку 29 систем ИТЭР в рамках выполнения 23 соглашений о поставках.
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА TРT
Но в проект ИТЭР включены не все, требуемые реактору термоядерные технологии, а именно, в нем отсутствуют: электромагнитная система из высокотемпературных сверхпроводников, Li первая стенка, высокоэффективная генерация стационарного тока, гибридный бланкет, испытания материалов термоядерного реактора, поэтому Проектным центром ИТЭР в кооперации ведущими российскими научными центрами (АО “НИИЭФА”, НИЦ “Курчатовский институт”, AO “ГНЦ РФ ТРИНИТИ” и др.) — участниками проекта ITER предложен и разрабатывается токамак с реакторными технологиями (TРT) [10, 11]. Концептуальный проект TRT [10] опубликован в специальных номерах журнала “Физика плазмы” (Plasma Physics Reports) (№ 11 и № 12 за 2021 и № 8 и № 12 за 2022 год). TРT разрабатывается: как плазменный прототип, как чистого термоядерного реактора, так и термоядерного. источника нейтронов для гибридного (синтез-деление) реактора. Основными целями создания TРT являются — разработка, интеграция и реализация в одной установке ключевых инновационных термоядерных технологий (создание дополнительной к ИТЭР технологической платформы TРT). Технологическая платформа TРT включает: ВТСП электромагнитную систему, работающую при высоком (8 Tл на оси плазмы) магнитном поле, варианты металлической с покрытием из материала с низким Z, из композита с низким Z и литиевую жидкометаллическую первую стенку, инновационный дивертор, системы инжекции атомов с энергией 0.5 МэВ и суммарной мощностью до 25 МВт, мегаваттные квазистационарные (t > 100 с) гиротроны с частотой 230 ГГц, системы ионного циклотронного нагрева на частотах 60—80 МГц мощностью несколько МВт, системы неиндуктивной генерации тока, тритиевый комплекс, совместимые с термоядерным реактором диагностики, технологии дистанционного управления, технологии поддержания квазистационарных разрядов в плазме с термоядерными параметрами, экспериментальные модули бридерного и гибридного бланкета, пионерские исследования работы токамака в режиме горения термоядерной плазмы (Q > 1) с интенсивным нагревом альфа-частицами в центре плазменного шнура в дейтерий-тритиевых экспериментах. TРT также обеспечит интеграцию технологических разработок и плазменных технологий ИТЭР в российскую программу УТС.
Кардинальный прогресс в разработке и полупромышленном изготовлении высокотемпературных сверхпроводников II группы в виде лент из редкоземельных барий медь оксидных материалов (REBCO), разработки ВТСП токонесущих элементов и экспериментальное изготовление прототипов катушек, в том числе и для токамака, способных работать в магнитных полях до 20 Тл открыло возможность проектирования квазистационарного прототипа токамака реактора с высоким магнитным полем (8—10 Тл) из ВТСП. Очень важными преимуществами ВТСП над НТСП при их применении в ЭМС токамака-реактора являются существенно более широкий диапазон температур их эффективной работы, способность работать в существенно более высоких чем НТСП магнитных полях и более высокая радиационная стойкость. Обусловленное изготовлением ЭМС из высокотемпературных сверхпроводников [12] увеличение магнитного поля позволяет заметно уменьшить размеры токамака-реактора, в том числе и TRT [10], что существенно снижает его стоимость. Зависимость критического максимального тока как от величины, так и направления магнитного поля в высокотемпературных сверхпроводниках, а также существенно отличающиеся динамики изменения тока в тороидальных, полоидальных катушках и центральном соленоиде TРT определяют различные конструкции ВТСП токонесущих элементов для этих катушек. Варианты конструкций соответствующих токонесущих элементов для TРT предложены в [13]. Конструкции токонесущих элементов ЭМС TРT [12] будут совершенствоваться по результатам проведения испытаний их прототипов и катушек ЭМС TРT, а эксплуатация TРT обеспечит рекомендации по конструкции ВТСП ЭМС токамака-реактора с учётом масштабирующих факторов.
Наряду с рассмотрением возможности использования Ве в качестве материала первой стенки (ПС) в проекте TРT также анализируются варианты с применением и других материалов. Первый — это изготовление ПС из металла с высоким Z, и существенно более высокой температурой плавления, но с обращенной к плазме поверхностью, покрытой плёнкой (~ 30—50 мкм) из материала с низким Z. В настоящее время в нескольких российских научных центрах и технологических компаниях проводятся технологические исследования по нанесению различными методами кристаллических плёнок B4C на металлические (W) прототипы элементов первой стенки ИТЭР и исследованию таких их свойств как: структура, распыление, адгезия, электропроводность, теплопроводность, поглощение водорода и др. [2—4]. Наряду с изготовлением и проведением испытаний элементов первой стенки с B4C покрытием анализируется возможность восстановления таких покрытий в процессе разряда токамака [5] как для TРT, так и для ИТЭР. В качестве материалов обращенных к плазме элементов первой стенки TРT также анализируется перспективность применения композитов TiB2-AlN [6—9] и других керамик и композитов, некоторые важные свойства которых представлены в табл. 1. В России разработана и начала выполняться программа проведения исследований основных эксплуатационных характеристик прототипов компонентов первой стенки будущего термоядерного реактора из наиболее перспективных материалов (W c покрытием B4C и композиты на основе TiB2-AlN) на ряде испытательных стендов, а также в условиях длительных (~100 с) экспериментов на действующих крупных сверхпроводящих токамаках EAST (Китай) и KSTAR (Корея).
На базе опыта, полученного в экспериментах на Т-11М, Т-10, FTU, EAST разрабатывается концепция основных компонентов литиевой жидкометаллической первой стенки TRT [14], которые планируется испытать в экспериментах на Т-15МД.
Следуя технологиям, принятым для дивертора ИТЭР, в диверторе TРT для переизлучения энергии, поступающей из основной плазмы вдоль сепаратрисы, будет применяться напуск неона [15]. Кроме того, для снижения средней плотности энергии в области пересечения сепаратрисы с поверхностями дивертора в TРT с помощью специальных полоидальных витков, расположенных под дивертором [16] будет организовано периодическое качание обеих ног сепаратрисы c частотой ~ 1 Гц и амплитудой до 75 мм. Такое качание сепаратрисы должно обеспечить снижение усредненной во времени плотности потока энергии на пластины дивертора до 10 раз [16]. Другие варианты инновационного дивертора также анализируются [16].
Системы дополнительного нагрева и неиндуктивной генерации квазистационарного тока на токамаке TРT включают шесть скомпонованных в трех тангенциальных патрубках инновационных инжекторов атомов с энергией 0.5 МэВ суммарной мощностью до 25 МВт [17], систему электронного циклотронного нагрева на базе мегаватных квазистационарных (t > 100 c) гиротронов, работающих на частоте 230 ГГц, суммарной мощностью 10 МВт [18], и систему ионного циклотронного нагрева на частотах 60—80 МГц мощностью несколько МВт [10]. Для реализации эффективной внеосевой генерации неиндуктивного квазистационарного тока анализируется возможность применения несколько-мегаватной высокочастотной системы на базе радиационностойкой антенны бегущей волны, которая должна обеспечить излучение в плазму геликонных волн [19] в частотном диапазоне 1000—1200 МГц.
Инновационность разрабатываемых в ИЯФ СО РАН инжекторов атомов будет состоять: в существенной модернизации узла генерации отрицательных ионов дейтерия с целью повышения эффективности и стабильности выхода D–, в обеспечении электромагнитного сдвига оси пучка ионов после выхода из источника, перед входом в ускоритель, в применении в инжекторах плазменных или фотонных нейтрализаторов и в обеспечении рекуперации энергии остаточной ионной компоненты пучка [17].
В связи с высоким магнитным полем (8 Тл) для реализации электронного циклотронного нагрева для TRT в ИПФ РАН и АО “ГИКОМ” будут специально созданы мегаватные стационарные (длительностью > 100 с) гиротроны с частотой излучения 230 ГГц [18], в которых планируется использовать магниты из ВТСП сверхпроводников. Для генерации квазистационарного неиндуктивного тока проектируется тангенциальный ввод излучения гиротронов с применением зеркала в соответствующем экваториальном патрубке TРT [18].
TРT проектируется как токамак, который впервые в России будет включать, хоть и в ограниченном по количеству трития масштабе, тритиевые термоядерные технологии- газонапуск, выделение трития из системы откачки и экспериментальных модулей бланкета.
TРT разрабатывается как полномасштабный прототип, как чистого термоядерного реактора, так и термоядерного источника нейтронов для гибридного (синтез-деление) реактора. Поэтому одной из важнейших задач программы работ TРT будут разработка и эксперименты с прототипами экспериментальных модулей банкета, как бридерного [20], так и элементов гибридного [21]. Исследование основных характеристик элементов гибридного экспериментального модуля бланкета будет касаться всех его компонентов и аспектов (прежде всего: работа в магнитном поле, коррозия и др.) за исключением применения делящихся ядерных материалов, использование которых не планируется в экспериментах на TРT.
Диагностический комплекс TРT [22] создаётся в соответствии с требованиями обеспечения как измерений характеристик, так и управления параметрами плазмы для проведения экспериментов по разработке плазменных режимов, конфигураций и профилей, необходимых для реализации квазистационарных разрядов с максимальной термоядерной мощностью. Особенными требованиями к создаваемым на TРT диагностическим системам являются их перспективная совместимость с условиями работы на будущем термоядерном реакторе и обеспечение временного и пространственного разрешения, необходимых для эффективного обеспечения технологий дистанционного управления. Концептуальные проекты диагностических систем TРT представлены в специальных выпусках журнала “Физика плазмы” (Plasma Physics Reports) № 8 и № 12 2022 года и в настоящем выпуске журнала.
В условиях TРT и в обеспечение его основных целей, технологии дистанционного управления — это технологии поддержания квазистационарных разрядов в плазме с термоядерными параметрами. Эффективность работы технологий дистанционного управления горением плазмы на основе данных, предоставляемых диагностическим комплексом, будет обеспечена применением широкого набора актуализаторов управления характеристиками плазмы, таких как, все методы дополнительного нагрева и генерации неиндуктивного тока, системы напуска газа и инжекции топливных и примесных крупинок, активные и пассивные электромагнитные витки управления и другие технологии. Основными задачами этих технологий будут предотвращение срывов, предотвращение развития или снижение амплитуды ELM — неустойчивостей на границе плазменного шнура, управление потоками энергии и частиц в диверторе, предотвращение развития неустойчивостей, генерируемых термоядерными альфа-частицами. Важнейшим нововведением в экспериментах на TРT будет обеспечение дистанционного участия в реализации программы исследований с использованием создаваемой в России информационно-коммуникационной платформы для проведения исследований по управляемому термоядерному синтезу [23].
Весь экспериментальный комплекс токамака TРT вместе с создаваемыми технологиями поддержания квазистационарных разрядов обеспечит проведение пионерских исследований работы токамака в режиме горения термоядерной плазмы (Q > 1) с интенсивным нагревом альфа-частицами в центре плазменного шнура в дейтерий-тритиевых экспериментах [10, 11], что и является ключевой термоядерной плазменной технологией TРT, разрабатываемой для термоядерного реактора.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологические платформы сооружаемого ИТЭР (удержание энергии и частиц плазмы токамака в режимах с длительным (1000—3600 с) квазистационарным горением с Q = 10 c реализованными технологиями — сверхпроводящей ЭМС из Nb3Sn и NbTi низкотемпературных сверхпроводников, первой стенки и дивертора, подавления срывов, предотвращения развития или снижения амплитуды ELM-неустойчивостей на границе плазменного шнура, кинетического и магнитного управления, дополнительного нагрева, экспериментальными модулями бридерного бланкета, диагностиками реакторной плазмы и другими) и проектируемого TРT (удержание энергии и частиц плазмы токамака в режимах с длительными (100 секунд) квазистационарными разрядами с реакторными параметрами с реализованными технологиями: сверхпроводящей ЭМС из высокотемпературных сверхпроводников, инновационной первой стенки и дивертора, подавления срывов, предотвращения развития ELM-неустойчивостей на границе плазменного шнура, управления и обеспечения дистанционного участия в экспериментах, дополнительного нагрева и генерации квазистационарного тока, экспериментальными модулями бридерного и гибридного бланкета, реакторосовместимыми диагностиками плазмы и другими) вместе содержат практически полный, по современным представлениям, набор технологий, требуемых для реализации будущего термоядерного реактора.
Особую важность для будущего термоядерного реактора в проектах ИТЭР и TРT представляет разработка и испытание комплексов плазменных технологий и реакторных компонентов и материалов в обеспечение: термоядерного зажигания и горения, генерации стационарного неиндуктивного тока и стационарного взаимодействия термоядерной плазмы с первой стенкой и дивертором токамака-реактора.
Создание и экспериментальная эксплуатация технологических платформ ИТЭР и TРT, с учётом опыта реализации других крупных термоядерных экспериментов партнёров по ИТЭР, позволит на следующем шаге реализовать сооружение как чистого термоядерного, так и гибридного (синтез-деление) реактора.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета института (учреждения, организации). Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
КОНФЛИКТ ИНТЕРСОВ
Автор данной работы заявляет, что у него нет конфликта интересов.
About the authors
A. V. Krasilnikov
Private Institution “ITER-Center”
Author for correspondence.
Email: A.Krasilnikov@iterrf.ru
Russian Federation, Moscow, 123098
References
- Bigot B. // Nucl. Fusion.2022. V. 62, 042001.
- Черепанов Д. Е., Бурдаков А. В., Вячеславов Л. Н., Кандауров И. В., Касатов А. А., Казанцев С. Р., Красильников А. В., Попов В. А., Рыжков Г. А., Шошин А. А. // ВАНТ. 2024. Принята в печать.
- Пискарев П. Ю., Рулев Р. В., Мазуль И. В., Красильников А. В., Писарев А. А., Кутеев Б. В., Колесник М. С., Душик В. В., Бобров С. В., Монтак Н. В., Рыбиков А. А., Букатин Т. Н. // ВАНТ. 2024. Принята в печать.
- Позняк И. М., Алябьев И. А., Подковыров В. Л., Барсук В. А., Цыбенко В. Ю., Бирюлин Е. З., Федулаев Е. Д., Новоселова З. И. // ВАНТ. 2024. Принята в печать.
- Buzhinskij O. I., Otroschenko V. G., Whyte D. G. et al. // J. Nucl. Mat. 2003. 313—316. 214.
- Loryan V. E., Borovinskaya I. P. // Combustion, Explosion and Shock Waves. 2003. V. 39. № 5. P. 525.
- Карпов А. В., Ковалев Д. Ю., Боровинская И. П., Сычев А. Е. // Теплофизика высоких температур. 2018. Т. 56. № 4. С. 543.
- Karpov A. V., Konovalikhin S. V., Borovinskaya I. P., Sachkova N. V., Kovalev D. Yu., Sytschev A. E. // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2018. V. 59. № 6. P. 658.
- Xu Geng-fu, Carmel Yuval, Olorunyolemi Tayo, Lloyd Isabel K., Wilson Otto C., Jr. // Journal of Materials Research. 2003. V. 18. Iss. 1
- Krasilnikov A. V., Konovalov S. V., Bondarchuk E. N., Mazul’ I. V., Rodin I. Yu., Mineev A. B., Kuz’min E. G., Kavin A. A., Karpov D. A., Leonov V. M., Khayrutdinov R. R., Kukushkin A. S., Portnov D. V., Ivanov A. A., Belchenko Yu. I., Denisov G. G. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. № 11. P. 1092.
- Leonov V. M., Konovalov S. V., Krasilnikov A. V., Kujanov A. Yu., Zhogolev V. E., Bondarchuk E. N., Mazul I. V., Mineev A. B., and Rodin I. Yu. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. P. 1107.
- Bondarchuk E. N., Voronova A. A., Grigor’ev S. A., Zapretilina E. R., Kavin A. A., Kitaev B. A., Koval’chuk O. A., Kozhukhovskaya N. M., Konovalov S. V., Krasilnikov A. V., Labusov A. N., Maksimova I. I., Mineev A. B., Muratov V. P., Rodin I. Yu., et al. // Plasma Phys. Rep. 2021. V. 47. № 12. P. 1188.
- Sytnikov V. E., Lelekhov S. A., Krasilnikov A. V., Zubko V. V., Fetisov S. S., and Vysotskii V. S. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. № 12. P. 1204.
- Vertkov A. V., Zharkov M. Yu., Lyublinskii I. E. and Safronov V. M. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. № 12. P. 1245.
- Kukushkin A. S. and Pshenov A. A. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47 .№ 12. P. 1238.
- Mazul’ I. V., Giniyatulin R. N., Kavin A. A., Litunovskii N. V., Makhan’kov A. N., Piskarev P. Yu., and Tanchuk V. N. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. № 12. P. 1220.
- Belchenko Yu. I., Burdakov A. V., Davydenko V. I., Gorbovskii A. I., Emelev I. S., Ivanov A. A., Sanin A. L., and Sotnikov O. Z. // Plasma Phys. Rep. 2021. V. 47. № 11. P. 1151.
- Belousov V. I., Denisov G. G., and Shmelev M. Yu. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. № 12. P. 1158.
- Vdovin V. L. // Plasma Physics Reports. 2013. V. 39. P. 95.
- Kovalenko V. G., Leshukov A. Y., Tomilov S. N., Razmerov A. V., Strebkov Y. S., Sviridenko M. N., Kirillov I. R., Obukhov D. M., Pertsev D. A., Vitkovsky I. V. // Fusion Engineering and Design, 2016. V. 109—111. P. 521.
- Лешуков А. Ю., Лопаткин А. В., Лукасевич И. Б., Размеров А. В., Стребков Ю. С., Сысоев А. Г. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2023. Т. 46. Вып. 1. С. 41.
- Kashchuk Yu. A., Konovalov S. V., Krasilnikov A. V. // Plasma Physics Reports. 2022. V. 48. № 12. P. 1339.
- Портоне С. С., Миронова Е. Ю., Семенов О. И., Ежова З. В., Семенов Е. В., Миронов А. Ю., Ларионов А. С., Нагорный Н. В., Звонарева А. А., Григорян Л. А., Гужев Д. И., Николаев А. И., Семенов И. Б., Красильников А. В. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2022. T. 45. Вып. 4. C. 34.