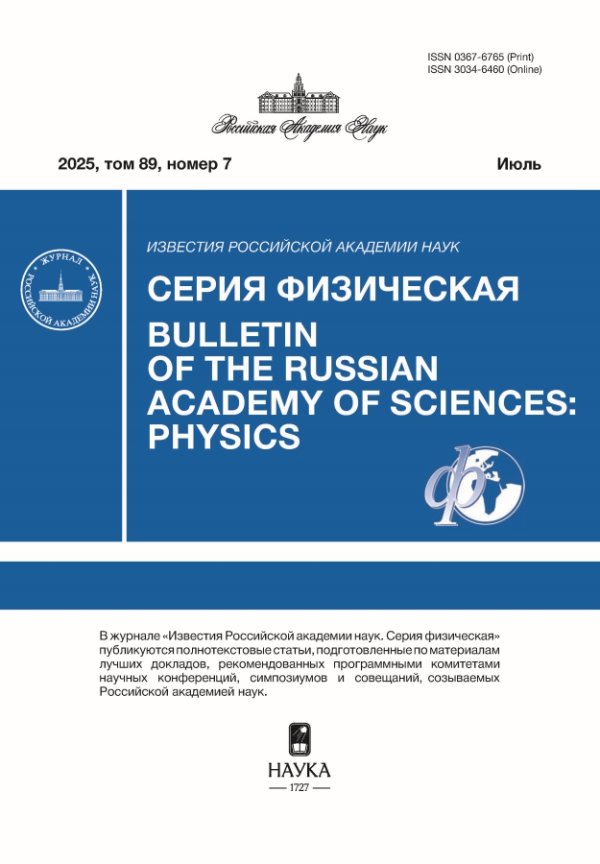Multiparameter quantum metrology with bright solitons
- Authors: Alodjants A.P.1,2, Tsarev D.V.1,2, Osipov S.V.3, Podoshvedov M.S.2,4, Kulik S.P.2,5
-
Affiliations:
- ITMO National Research University
- Southern Ural State University
- Cherepovets State University
- Kazan National Research Technical University
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 88, No 6 (2024)
- Pages: 854-861
- Section: Quantum Optics and Coherent Spectroscopy
- URL: https://medbiosci.ru/0367-6765/article/view/276158
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524060022
- EDN: https://elibrary.ru/PHNVGO
- ID: 276158
Cite item
Full Text
Abstract
We consider the problem of quantum metrology with simultaneous measurement of several phase parameters in the framework of current tendencies of development of alternative navigation. The fundamental limits of linear and nonlinear metrology are studied. The effect of losses on the accuracy of quantum metrology for several parameters is revealed. A realistic scenario for preparing three-mode NooN states using atomic bright solitons is proposed.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Квантовая метрология и сенсорика на сегодняшний день являются важным прикладным результатом современных квантовых технологий [1, 2]. Они охватывают фундаментальные научные исследования, связанные с Землей и космосом, мониторингом окружающей среды, поиском природных ископаемых, технологий спутникового позиционирования и навигации (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou) и т. д. [3, 4]. О навигации здесь стоит упомянуть отдельно в связи с объективными ограничениями тех же GPS, ГЛОНАСС и др. систем позиционирования и навигации. А именно, сигналы от этих систем могут быть недоступны под водой, под землей, в густых лесах, они чувствительны к помехам; технологии обеспечивают положение, но не ориентацию в пространстве. Альтернативная инерциальная навигация, основанная на автономных навигационных системах, может стать как подспорьем для существующих уже систем навигации, так и их заменой на определенном этапе своего развития [5]. С фундаментальной (физической) точки зрения альтернативная навигация также нацелена на измерение времени, ускорения и вращения, гравитационных полей и гравитационных градиентов, а также магнитных полей. В этом отношении существующие методы и подходы квантовой метрологии, применяемые для разработки квантовых стандартов частоты и времени [6], квантовых сенсоров магнитного поля — магнетометров [7], акселерометров [8] должны быть усовершенствованы с учетом новых возможностей, предоставляемых альтернативной навигацией. Эти возможности главным образом связаны с проведением метрологических измерений в космосе, в условиях микрогравитации. Идея таких измерений достаточно проста и основана на использовании ультрахолодных атомных ансамблей, помещенных в оптические решетки и управляемых электромагнитными импульсами [9], ср. с [10]. В мире развиваются технологии изготовления атомных чипов, содержащих бозе-эйнштейновские конденсаты (БЭК) атомов, которые могут быть задействованы для квантовой метрологии и сенсорики, использующие эффекты гравитации [11, 12]. Соответствующие метрологические схемы, по сути, представляют собой хорошо известные в оптике интерферометры Маха-Цендера, длины плеч которого определяют характерное время (interrogation time), за которое двухуровневые атомы приобретают фазовые набеги, являющиеся объектом тех или иных метрологических измерений [4], ср. с [13, 14]. В частности, по оценкам работы [5] конденсат атомов рубидия в космосе позволит достичь метрологической точности ускорения в (g — константа свободного падения на Земле), что, в свою очередь, позволит проверить слабый принцип эквивалентности для квантовых объектов [15].
В общефизическом плане актуальной задачей является исследование ультрахолодных атомных систем за рамками эффективно двухмодового приближения [16], ср. с [17]. Такие задачи в альтернативной навигации могут возникнуть в силу ее специфики, например, при необходимости одновременного измерения и оценки сразу нескольких параметров, синхронизации результатов измерений распределенных в пространстве сенсоров и т. д. В данной работе будут выявлены основные фундаментальные ограничения точности измерений, которые возникают в результате использования эффективно многомодовых систем в задачах многопараметрических распределенных квантовых измерений. При этом мы не будем ограничиваться только проблемой линейной метрологи, но также обсудим и нелинейную метрологию, которая с недавних пор вызывает повышенный интерес в связи с использованием квантовых состояний ультрахолодных ансамблей атомов [18].
КВАНТОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИИ
В рамках линейной квантовой метрологии измеряемый фазовый сдвиг φ линейно зависит от среднего числа частиц N, т. е. φ = χN, где χ — некоторый неизвестный параметр, значение которого необходимо измерить. В случае же нелинейной метрологии речь идет уже о неизвестном нелинейном фазовом сдвиге (определяемом параметром χ) φ = χNk, где k = 2, 3, ... В обоих случаях можно ввести обобщенный предел Гейзенберга (ОПГ)
. (1)
При k = 1 (1) совпадает с известным пределом Гейзенберга (ПГ), который может быть достигнут с помощью NооN-состояний в двухмодовом интерферометре Маха‒Цендера (см. например [19]). Процедура измерения, обеспечивающая точность на уровне ПГ, может быть осуществлена в рамках схем детектирования четности [20, 21]. При k ≥ 2 выражение (1) определяет супергейзенберговский предел (СПГ), который устанавливает предельную точность измерения и оценки неизвестных параметров в рамках нелинейной квантовой метрологии. В этом случае ПГ может быть преодолен даже с помощью пробных глауберовских когерентных состояний за счет кубичной нелинейности среды [22, 23]. В работе [24] было показано, что квантовые светлые солитоны, образующиеся в атомной среде конденсата с отрицательной длиной рассеяния обеспечивают максимальное значение степени k = 3. Нами также была предложена модель солитонных джозефсоновских контактов (СДК), позволяющая приготовить суперпозицию фоковских состояний, близких к NооN-состоянию, но защищенных от потерь небольшого числа частиц [25]. Эти работы могут стать основой для многопараметрической сенсорики и метрологии, которые рассмотрены ниже [26, 27].
Рассмотрим процедуру измерения и оценки d неизвестных фазовых параметров χj (см. рис. 1а), выполняемую на основе пробного n-модового (n = d + 1) запутанного по пространству NооN-состояния, которое имеет следующий вид:
, (2)
Рис. 1. Схема многопараметрической квантовой метрологии с солитонами. |ψin> — пробное многочастичное состояние квантовых солитонов, которое эволюционирует с накоплением фаз φj, содержащих информацию об измеряемых параметрах χj (j = 1, …, d). Оператор обозначает линейные преобразования, которые позволяют построить процедуру измерения и оценки неизвестных параметров. Подробности приведены в тексте
где параметры ε ≠ 0, удовлетворяют условию нормировки состояния |ψin>, которое является пробным для d неизвестных фазовых сдвигов φ ≡ χNk, где χ ≡ {χj} — вектор неизвестных измеряемых параметров, см. рис. 1. В результате (2) преобразуется в состояние
, (3)
В работе показано, что как пробное состояние (2), так и состояние (3) могут быть получены на основе квантовых светлых солитонов, о которых речь пойдет ниже. В рамках многопараметрической квантовой метрологии интерес вызывает минимизация полной погрешности измерения
, (4)
где — погрешность измерения и оценки параметра χj в условиях многопараметрической метрологии, которая характеризуется квантовой информацией Фишера (КИФ). В общем случае измерения d параметров с помощью чистых пробных состояний КИФ представляет собой матрицу размера d × d, элементы которой имеют следующий вид:
, (5)
где |ψχ> — некоторое n-модовое состояние (3) с n ≥ d + 1; . Общая точность измерения ограничена квантовой границей Крамера‒Рао, которая для имеет вид . Подставив (3) в (5), получим , что дает
. (6)
Таким образом для симметричного NооN-состояния с получим:
. (7)
Так, в пределе двухмодовой метрологии, при d = 1 выражение (7) сводится к ОПГ (1). В случае, когда d > 1 общая точность измерения падает, т. е. . Предел (7) можно преодолеть с помощью несимметричных NооN-состояний, если положить в (3) , см. [28], что приводит к оценке
. (8)
Например, для задач трехмодовой метрологии d = 2, так что предельная погрешность составляет , в случае симметричного NооN-состояния (3) с . Формула (8) при этом дает оценку , что предоставляет собой небольшое преимущество точности по сравнению с симметричным NооN-состоянием. В дальнейшем нами используется обозначение , что соответствует предельной точности на основе оптимального состояния (ОС).
Реальный физический эксперимент по квантовой метрологии неизбежно сопряжен с потерями частиц и сопутствующей декогеренцией. Для моделирования этих процессов мы рассматриваем метод фиктивных делителей пучков (ФДП), согласно которому в каждом плече интерферометра «помещается» по ФДП, отбирающему частицы из системы и обеспечивающему взаимодействие солитонов с окружающей средой. Для простоты будем описывать три ФДП одинаковыми коэффициентами пропускания 0 < η ≤ 1, где η = 1 соответствует идеальному случаю квантовой метрологии, когда потери отсутствуют вообще. Предполагается, что каждый ФДП действует на отдельный канал интерферометра, преобразуя соответствующее фоковское состояние следующим образом (см. [29]):
, (9)
где m — исходная населенность моды; l — число потерянных частиц; . Для определенности остановимся на трехмодовой квантовой метрологии, принимая третью моду за опорную. Начальное трехмодовое N-частичное состояние в общем случае можно записать в фоковском базисе в виде
, (10)
где — амплитуды фоковских мод такие, что ; N3 = N – N1 – N2. Эволюция состояния (10) в интерферометре Маха‒Цендера приведет к набегам фаз χ1 и χ2 в двух плечах интерферометра относительно третьего, что описывается оператором, , который коммутирует с оператором Крауса, описывающим преобразование (9), [29]. Следовательно, не имеет значения, когда происходит потеря частиц: до, во время или после набега фаз; для удобства будем полагать, что потери имеют место после фазового сдвига, хотя в реальном эксперименте можно ожидать, что именно набег фаз является основным источником потерь. Поскольку нас не интересуют потерянные частицы, мы можем рассмотреть смешанное выходное квантовое состояние, описываемое матрицей плотности
; (11)
где . (12)
В (12) ; l = l1 + l2 + l3 — полное число потерянных частиц; — вероятность потерять ровно l1, l2 и l3 частиц из каждого из трех каналов интерферометра.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ NооN-СОСТОЯНИЙ И ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ СВЕТЛЫХ СОЛИТОНОВ
Приготовление NооN-состояний (2) с d > 1 представляет собой нетривиальную задачу. Мы рассмотрим ее на примере трехмодовых солитонных джозефсоновских контактов (ТМСДК) (d = 2), являющихся обобщением модели СДК, разработанной нами в двухмодовом пределе, см. [21, 24]. ТМСДК представляет собой три светлых солитона, расположенных в трех потенциальных ямах и соединенных эффектом Джозефсона по принципу каждый с каждым. Такая система может быть реализована в атомтронике с помощью конденсатов Бозе‒Эйнштейна, помещенных в три симметрично расположенные сигарообразные ловушки. Гамильтониан рассматриваемой системы в формализме вторичного квантования имеет вид [24]
, (13)
где — бозонный оператор рождения частицы в i-й ловушке, подчиняющийся правилу коммутации . Параметр описывает нелинейное (керровское) взаимодействие частиц в пределах одной ловушки атомов конденсата [30]; — характерный линейный размер ловушки в поперечном направлении, определяемый массой частиц m и гармонической частотой ловушки ω⊥ [21, 24, 25]; κ — параметр туннельного взаимодействия частиц между соседними ловушками. Здесь и далее u, κ > 0, поскольку знаки взаимодействия были учтены в (13) явным образом. Наконец, отметим, что все величины в (13) безразмерны: пространственные переменные нормированы на a⊥, время на , а энергия — на ħω⊥.
Переход от (13) к эффективно трехмодовому гамильтониану может быть выполнен по процедуре, предложенной нами в [31]. Опуская громоздкие выкладки приведем лишь окончательный гамильтониан ТМСДК:
, (14)
соответствующий трем бозонным модам, — оператор населенности i-го солитона; — оператор разности населенностей i-го и j-го солитонов; — основной параметр, определяющий режимы взаимодействующих солитонов ТМСДК; э. с. обозначает эрмитово-сопряженное слагаемое. Отметим, гамильтониан (14) описывает энергию системы, приходящуюся на одну частицу.
В отсутствие потерь квантовое состояние трех туннельно-связанных солитонов можно записать в фоковском базисе в виде состояния (10) с коэффициентами , зависящими от безразмерного времени [21, 24, 30]. Эти коэффициенты подчиняются уравнению Шредингера , что с учетом (14) дает
, (15)
; (16)
, (17)
Коэффициент в (16) соответствует внутриямной энергии взаимодействия частиц ТМСДК с квантовыми числами заполнения N1 = Ni, N2 = Nj и N3 = N − Ni − Nj при заданном Λ. Коэффициент в (17) характеризует межъямное взаимодействие, которое представляет собой туннелирование атома из i-го солитона в j-й.
Численное решение уравнений (15)—(17) выявило наличие квантового фазового перехода при критическом значении управляющего параметра Λкр ≈ 3.3. При этом происходит переход системы от (атомно) когерентного состояния к когерентной суперпозиции фоковских состояний, близких к NооN-состоянию [31]. На рисунке 2 представлены распределения амплитуд основного состояния ТМСДК (10) вблизи критической точки Λкр. Для лучшей визуализации моделирование производилось при N = 40, все результаты экстраполируемы и на большее число частиц. Можно видеть, что при Λ < Λкр распределение гауссообразное, что характерно для когерентного состояния, см. рис. 2а. При Λ = Λкр происходит переход в трехмодовое запутанное фоковское состояние, когда все N частиц стремятся заселить состояния |N1, 0, 0>, |0, N2, 0> и |0, 0, N3>. В этом пределе как гауссоподобное, так и NооN-состояние ТМСДК обладают одинаковой энергией и сосуществуют в когерентной суперпозиции, см. рис. 2б. Наконец, при Λ > Λкр реализуется основное состояние ТМСДК — трехмодовое NооN-состояние, см. рис. 2в. Отметим, что с ростом N значение Λкр несколько увеличивается: для N = 20 было получено Λ = 3.30272 [32], тогда как для N = 40 Λ = 3.34087496. Кроме того, с ростом N фазовый переход становится более резким.
Рис. 2. Распределения основного состояния ТМСДК при (а) Λ = 0; (б) Λ = Λкр = 3.34087496; (в) Λ = 3.345. N = 40
Оценим точность квантовой метрологии с состояниями ТМСДК в присутствии потерь небольшого числа частиц. В таком случае КИФ представляет собой матрицу 2×2, однако вычисление ее элементов не тривиально в случае смешанного состояния (11). Тем не менее, как показано в [33] и что уже использовалось нами в [25], можно вычислить приближенные значения элементов КИФ :
. (18)
Оценки, приведенные в нашей работе [25] для модели СДК показывают, что и F полностью совпадают в случае NооN-состояния при Λ > Λкр, совпадают с точностью 0.5 % при Λ < Λкр, но существенно расходятся (до 60 %) вблизи точки фазового перехода Λ ≈ Λкр. Таким образом, вдали от Λкр мы можем положить . Отметим также, что при η = 1 (в случае отсутствия потерь частиц) и для любых l1,2,3 > 0; в таком случае . При η < 1 мы полагаем лишь приближенно.
Подставив (11) и (12) в (18), легко получить выражение для , которое, однако мы не будем приводить здесь ввиду его громоздкости (см. подробности в [32]). Наконец, вычислив КИФ , можно оценить квантовую границу Крамера‒Рао
(19)
для различных k и η. Выражение (19) зависит от коэффициентов , описывающих начальное трехмодовое N-частичное состояние. Так, для NооN-состояния все , кроме и в отсутствие потерь, при η = 1 (19) сводится к ОПГ (1), а при η < 1 это выражение стремительно деградирует, так что
. (20)
С другой стороны, мы можем оценить точность классической метрологии, используя когерентные состояния |ψin> с гауссовым распределением :
, (21)
при этом (19) сводится к т. н. стандартному интерферометрическому пределу (СИП) при k = 1 и нелинейному интерферометрическому пределу (НИП) при k ≥ 2 соответственно:
. (22)
Отметим, что при η = 1, т. е. в отсутствие потерь, (21) сводятся к стандартному квантовому пределу (СКП) и нелинейному квантовому пределу (НКП) , соответственно.
На рис. 3 изображены оценки предельной точности квантовой метрологии с состояниями ТМСДК при k = 1 и разных значениях в зависимости от Λ непосредственно вблизи точки фазового перехода Λкр = 3.30272. Наиболее жирные линии на рис. 3 соответствуют пределу η = 1, характеризующему максимальную точность квантовой метрологии, достигаемую в отсутствие потерь. В частности, жирная пунктирная линия характеризует СКП; тонкая сплошная линия — ПГ [34]. В отсутствие потерь точность σ(1) приближается к точности с использованием оптимального состояния. Как можно видеть из рис. 3, точность σ(1) превосходит СИП (21) при Λ > Λкр, т. е. когда ТМСДК приготавливается в состоянии, близком к NооN-, даже при наличии умеренных потерь.
Рис. 3. Зависимость предельной погрешности измерения σ(1) от управляющего параметра Λ в окрестности критической точки Λ = Λкр для линейной квантовой метрологии с использованием солитонов. Потери частиц характеризуются отклонением коэффициента прозрачности ФДП η от единицы. Число частиц N = 40. Предельная линейная квантовая метрология характеризуется СКП () и СИП (), которые обозначены пунктирными линиями. Черная точечно-пунктирная линия обозначает точность линейной метрологии, достигаемую с помощью оптимальных состояний , а тонкая сплошная черная линия соответствует ПГ σПГ = 1 / N
Важно иметь в виду, что в реальной ситуации нас интересует, разумеется, не сама область фазового перехода, а значения управляющего параметра Λ > Λкр. Оценим вкратце возможность достижения Λкр на основе экспериментальных данных с солитонами БЭК [31, 35]. Для этого рассмотрим конденсат , содержащий мезоскопическое число N ≈ 103 притягивающихся атомов с длинной рассеяния asc = –0.21 нм. В эксперименте [35] использовалась магнитооптическая ловушка с гармонической частотой ω⊥ = 2π · 710 Гц, обеспечивающая характерный поперечный размер ловушки a⊥ = 1.4 мкм. При этом плотность конденсата в центре ловушки составит около 3.6⋅1014 см−3, а энергия внутриямного взаимодействия частиц , либо с учетом нормировки гамильтониана (13) в единицах температуры нК. Соответственно, для достижения Λ ≈ 3.3 необходимо обеспечить энергию джозефсоновского взаимодействия между ловушками κ ≈ 0.02 или в единицах температуры нК. Можно видеть, что характерные температуры (энергии) элементов ТМСДК оказываются порядка 10–11—10–8 К, что вполне достижимо в современном эксперименте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрена проблема многопараметрической квантовой метрологии на основе светлых атомных солитонов. Определен ОПГ (1) для случая как линейной, так и нелинейной квантовой метрологии. Впервые рассмотрено получение многомодового NооN-состояния на основе таких связанных солитонов. Примечательно, что симметричные многомодовые NооN-состояния даже в идеальном случае без потерь демонстрируют ухудшение точности измерения и оценки d > 1 фазовых параметров (7). Однако при небольших значениях d метрологическая точность близка к фундаментальному пределу ОПГ, установленному в данной работе. Предложена модель трехмодовых солитонных джозефсоновских контактов (ТМСДК), позволяющая получить трехмодовое NооN-состояние, подходящее для задачи двухпараметрической метрологии. Показано, что модель ТМСДК демонстрирует квантовый фазовый переход в суперпозицию запутанных фоковских состояний, способных в результате образовывать трехмодовое NооN-состояние с мезоскопическим числом частиц. Фазовый переход происходит при некотором критическом значении Λкр безразмерного параметра Λ, которое достижимо в рамках современных экспериментов со слабосвязанными атомными конденсатами. Показано, что в условиях, близких к критическому значению параметра Λ, точность σ(1) приближается к точности метрологии на основе оптимального состояния даже при наличии небольших потерь частиц. Полученные нами результаты открывают новые возможности для решения задач пространственно-распределенной квантовой сенсорики, метрологии, которые могут быть использованы в задачах альтернативной навигации.
Авторы выражают признательность за поддержку, оказанную Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Южно-Уральского государственного университета (соглашение № 075-15-2022-1116).
About the authors
A. P. Alodjants
ITMO National Research University; Southern Ural State University
Author for correspondence.
Email: alexander_ap@list.ru
Russian Federation, Saint Petersburg; Chelyabinsk
D. V. Tsarev
ITMO National Research University; Southern Ural State University
Email: alexander_ap@list.ru
Russian Federation, Saint Petersburg; Chelyabinsk
S. V. Osipov
Cherepovets State University
Email: alexander_ap@list.ru
Russian Federation, Cherepovets
M. S. Podoshvedov
Southern Ural State University; Kazan National Research Technical University
Email: alexander_ap@list.ru
Russian Federation, Chelyabinsk; Kazan
S. P. Kulik
Southern Ural State University; Lomonosov Moscow State University
Email: alexander_ap@list.ru
Russian Federation, Chelyabinsk; Moscow
References
- Pezzé L., Smerzi A., Oberthaler M.K. et al. // Rev. Mod. Phys. 2018. V. 90. Art. No. 035005.
- Degen C.L., Reinhard F., Cappellaro P. // Rev. Mod. Phys. 2017. V. 89. Art. No. 035002.
- Crawford S.E., Shugayev R.A., Paudel H.P. et al. // Adv. Quantum Technol. 2021. V. 4. Art. No. 2100049.
- Bongs K., Holynski M., Vovrosh J. et al. // Nature Rev. Phys. 2019. V. 1. P. 731.
- Abend S., Allard B., Arnold A.S. et al. // AVS Quantum Sci. 2023. V. 5. No. 1. Art. No. 019201.
- Ludlow A.D., Boyd M.M., Ye J. et al. // Rev. Mod. Phys. 2015. V. 87 P. 2.
- Mitchell M.W., Alvarez S.P. // Rev. Mod. Phys. 2020. V. 92. No. 2. Art. No. 021001.
- Templier S., Cheiney P., D’Armagnac De Castanet Q. // Sci. Advances. 2022. V. 8. Art. No. eadd3854.
- Bloch I. // Nature Physics. 2005. V. 1. No. 1. P. 23.
- Сазонов С.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 6. С. 766; Sazonov S. V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 6. P. 643.
- Afanasiev A.E., Kalmykov A.S., Kirtaev R.V. et al. // Opt. Laser Tech. 2022. V. 148. Art. No. 107698.
- Sewell R.J., Dingjan J., Baumgärtner F. et al. // J. Physics B. 2010. V. 43. No. 5. Art. No. 051003.
- Царёв Д.В., Нго Т.В., Алоджанц А.П. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 3. С. 332; Tsarev D.V., Ngo V.T., Alodjants A.P. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 3. P. 257.
- Сазонов С.В., Устинов Н.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 1. С. 11; Sazonov S.V., Ustinov N.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 1. P. 5.
- Touboul P., Métris G., Rodrigues M. et al. // Phys. Rev. Lett. 2022. V. 129. No. 12. Art. No. 121102.
- Anglin J.R., Vardi A. // Phys. Rev. A. 2001. V. 64. No. 5. Art. No. 013605.
- Калинович А.А., Захарова И.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 12. С. 1701; Kalinovich A.A., Zakharova I.G. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 12. P. 1785.
- Joo J., Park K., Jeong H. et al. // Phys. Rev. A. 2012. V. 86. Art. No. 043828.
- Dowling L.P. // Cont. Phys. 2008. V. 49. P. 125.
- Birrittella R.J., Alsing P.M., Gerry C. C. // AVS Quantum Sci. 2021. V. 3. Art. No. 014701.
- Tsarev D.V., Arakelian S.M., Chuang Y.-L. et al. // Opt. Express. 2018. V. 26. Art. No. 19583.
- Maldonado-Mundo D., Luis A. // Phys. Rev. A. 2009. V. 80. Art. No. 063811.
- Napolitano M., Mitchell M.W. // New J. Phys. 2010. V. 12. Art. No. 09301.
- Tsarev D.V., Ngo T.V., Lee R.-K., Alodjants A.P. // New J. Phys. 2019. V. 21 Art. No. 083041.
- Alodjants A.P., Tsarev D.V., Ngo T.V., Lee R.-K. // Phys. Rev. A. 2022. V. 105. Art. No. 012606.
- Liu J., Lu X.M., Sun Z., Wang X. // J. Phys. A. 2016. V. 49. Art. No. 115302.
- Gessner M., Pezzé L., Smerzi A. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 121. Art. No. 130503.
- Humphreys P.C., Barbieri M., Datta A., Walm-sley I.A. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 111. Art. No. 070403.
- Demkowicz-Dobrzanski R., Dorner U., Smith B.J. et al. // Phys. Rev. A. 2009. V. 80. Art. No. 013825.
- Raghavan S., Agrawan G.P. // J. Mod. Optics. 2000. V. 47. P. 1155.
- Tsarev D., Alodjants A., Lee R.-K. // New J. Physics. 2020. V. 22. No. 11. Art. No. 113016.
- Tsarev D., Osipov S., Lee R.-K. et al. // Phys. Rev. A. 2023. V. 108. Art. No. 062612.
- Dorner U., Demkowicz-Dobrzanski R., Smith B. J. et al. // Phys. Rev. Lett. 2009. V. 102. Art. No. 040403.
- Humphreys P.C., Barbieri M., Datta A., Walmsley I.A. // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 111. Art. No. 070403.
- Khaykovich L., Schreck F., Ferrari G. et al. // Science. 2002. V. 296. P. 1290.
Supplementary files