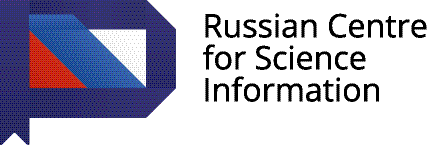Effect of live and inactivated probiotic strains of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium animalis subsp. lactis on myocardial infarction size in rats with systemic inflammatory response syndrome
- Autores: Borshchev Y.Y.1,2, Sonin D.L.1,3, Burovenko I.Y.1, Protsak E.S.1, Borshchev V.Y.3, Borshcheva O.V.1, Galagudza M.M.1,3
-
Afiliações:
- Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation
- National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Petrov of the Ministry of Health of the Russian Federation
- Pavlov First St. Petersburg State Medical University
- Edição: Volume 110, Nº 1 (2024)
- Páginas: 94-107
- Seção: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://medbiosci.ru/0869-8139/article/view/258151
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924010062
- EDN: https://elibrary.ru/WPWNKV
- ID: 258151
Citar
Texto integral
Resumo
Within the concept of a heart-gut axis, new works are emerging to support the efficacy of probiotic strains to increase myocardial resistance to ischemia-reperfusion injury (IRI) in comorbidity. The question remains open whether the presence of live probiotic bacteria is a necessary condition for the realization of their cardioprotective effect. The aim of this work was to determine the manifestation of cardio-protective effect of living and pasteurized probiotic strains Lactobacillus acidophilus (LA-5) and Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) in rats with systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Myocardial resistance to IRI was assessed using an in vivo model of left coronary artery occlusion-reperfusion. Experiments were performed on male Wistar rats with improved conventional status with visceral obesity, chemically induced colitis and antibiotic-induced dysbiosis, which together provided the formation of (SIRS) against the background of oral administration of live and inactivated probiotic bacteria. Myocardial resistance to ischemia-reperfusion injury was assessed using the technique of left coronary artery occlusion in vivo. The infarct size in the group with simulated SIRS was significantly higher than in the control group 43% (39; 44) and 31% (28; 35), (p < 0.05). In the SIRS group with the introduction of inactivated probiotic bacteria, the infarct size 45% (37; 48) did not differ from the SIRS group and was significantly higher than in the control (p < 0.05). At the same time, the size of the infarction in the group with the introduction of live probiotics did not differ from that in the control group and amounted to 32% (28; 37). There are specific features of the action of live and inactivated probiotic microorganisms with preservation of cardioprotective effect when using live lacto- and bifidobacteria in animals with SIRS.
Texto integral
ВВЕДЕНИЕ
Кардиопротективные воздействия в широком смысле включают различные фармакологические и нефармакологические стимулы, повышающие устойчивость миокарда к ишемическому-реперфузионному повреждению (ИРП) и уменьшающие размер инфаркта миокарда при обратимой ишемии [1]. В экспериментальных исследованиях описаны сотни кардиопротективных воздействий, обеспечивающих уменьшение ИРП миокарда при применении до наступления длительной ишемии, во время ее индукции и в периоде реперфузии. В то же время ни один из препаратов, продемонстрировавших в эксперименте прямой инфаркт-лимитирующий эффект, не подтвердил свою эффективность в клинических исследованиях и не вошел в клинические рекомендации по ведению пациентов с острым коронарным синдромом [2, 3]. Учитывая, что в период с 1993 по 2019 граспространенность сердечно-сосудистых заболеваний в мире увеличилась практически в 2 раза [4], продолжение работ по поиску новых безопасных и эффективных способов повышения устойчивости миокарда к ИРП представляет собой актуальную задачу.
В последние годы интенсивно изучаются различные аспекты взаимодействия кишечной микробиоты с макроорганизмом, причем указанные исследования касаются как физиологических условий, так и роли микробиоты в развитии разнообразных заболеваний [5]. Неудивительно, что в рамках набирающей популярность концепции оси “кишечник-сердце” появились первые работы, посвященные влиянию изменений состава кишечной микробиоты на устойчивость миокарда к ИРП [6]. Так, Lam и соавт. показали, что внутрижелудочное введение крысам ванкомицина и пробиотического штамма L. plantarum 299V сопровождалось уменьшением размера инфаркта на 27 и 29% соответственно [7]. Danilo и соавт. продемонстрировали, что введение Bifidobacterium animalis subsp. lactis 420 (B420) вызывало уменьшение размера инфаркта у мышей с кишечным дисбиозом, индуцированным высокожировой диетой [8]. Изучение эффективности новых кардиопротективных воздействий в условиях коморбидности отвечает требованиям современных рекомендаций и повышает трансляционный потенциал полученных результатов. В нашем исследовании было показано, что внутрижелудочное введение крысам с ожирением, химически индуцированным колитом и антибиотик-индуцированным дисбиозом смеси лиофилизированных Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium animalis subsp. lactis в количестве 1.2 × 108 КОЕ/животное в течение 15 дней приводило к значимому уменьшению размера инфаркта миокарда [9]. Важно отметить, что размер инфаркта при этом был значимо выше в группе животных с индуцированной патологией по сравнению со здоровыми животными, а пробиотическая терапия снижала размер инфаркта до значения, не отличавшегося от такового в группе здоровых контрольных животных. Существенный интерес представляют молекулярные механизмы пробиотик-индуцированной кардиопротекции. На сегодняшний день мы не располагаем убедительными данными по этому вопросу, поскольку во всех проведенных исследованиях авторами были отмечены только ассоциации инфаркт-лимитирующего эффекта с уровнями гормонов, цитокинов и микробных метаболитов в плазме крови [10].
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что все исследования, в которых был показан кардиопротективный эффект тех или иных пробиотиков, были выполнены с применением препаратов, содержащих живые бактерии. В то же время есть основания полагать, что кардиопротективный ответ, прямо или опосредованно индуцированный пробиотиками, может запускаться молекулами микробного происхождения, относящимися к классу патоген-ассоциированных молекулярных паттернов, которые содержатся в инактивированной культуре микроорганизмов. Другими словами, реализация пробиотик-индуцированной кардиопротекции может не требовать присутствия в препарате живых микроорганизмов. Подтверждение возможности использования инактивированных пробиотиков (или метабиотиков) для индукции кардиопротекции может способствовать повышению безопасности применения препаратов у пожилых полиморбидных пациентов и облегчает поиск молекулярных эффекторов, являющихся триггерами кардиопротекции. В связи с этим в настоящей работе была поставлена задача сравнить выраженность кардиопротективного эффекта живых и инактивированных путем пастеризации пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus (LA-5) и Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) у крыс с висцеральным ожирением, химически индуцированным колитом и антибиотик-индуцированным дисбиозом (АИД). Указанные воздействия в совокупности отвечали критериям синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). Кардиотропные эффекты живых и инактивированных штаммов сопоставляли с изменениями уровней некоторых цитокинов и гормонов в плазме крови.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты выполнены на самцах крыс стока Wistar с улучшенным конвенциональным статусом, массой 320 ± 20 Моделирование ССВО подробно описано ранее [11]. Животные случайным образом распределялись в одну из четырех групп (n = 10 в каждой группе) (рис.1): 1) контроль (КТР) – крысы получали стандартный корм и питьевую воду ad libitum; 2) синдром системного воспалительного ответа (ССВО) – животным с первичным висцеральным ожирением (ПВО), индуцированным диетой с повышенным содержанием жиров и углеводов, под комбинированным наркозом (золетил 20 мг/кг в/м, изофлуран 1.5%) однократно ректально вводили 1 мл смеси 3%-ного раствора уксусной кислоты и 3%-ного этанола, индуцируя острый колит. Начиная с этого дня, этим же животным внутрижелудочно вводили смесь антимикробных препаратов (АМП) (амоксициллин, метронидазол и кларитромицин). А именно, вводили 1 мл раствора АМП в суточной дозе по 15 мг каждого АМП на крысу в течение 3 дней и 1 мл физиологического раствора (ФР) в течение 8 дней; 3) ССВО + ЛБС – крысам, прошедшим процедуры, описанные для предыдущей группы, вместо 1 мл ФР вводили 1 мл раствора смеси пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus (LA-5) и Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12), в дозе 10 х 8 КОЕ на одно животное; 4) ССВО + ИНП – крысам данной группы вводили смесь пробиотических штаммов после пастеризации. В остальном все процедуры были аналогичны описанным для группы ССВО + ЛБС.
Ишемию миокарда в течение 30 мин. с последующей реперфузией в течение 120 мин. моделировали путем обратимой окклюзии левой коронарной артерии (ЛКА) в условиях искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии изофлураном (2–3%). В ходе эксперимента регистрировали ЭКГ, артериальное давление (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Также вычисляли двойное произведение (ДП) по формуле ДП = АД × ЧСС. Оценку размера зоны риска и инфаркта миокарда производили дифференциальным индикаторным методом путем последовательного окрашивания синим Эванса и трифенилтетразолием хлоридом (ТТС). Данные о размерах зоны риска (синий Эванс – негативные участки) и зоны инфаркта (ТТС-негативные участки) приводили в виде отношения объема зоны риска (ЗР) к общему объему левого желудочка, а также в виде отношения объема зоны инфаркта (ЗИ) к объему зоны риска (в %).
За день до завершения опыта у крыс под краткосрочным наркозом (изофлуран 1.5%) брали цельную кровь (1.5 мл) из большой подкожной вены для анализа гематологических и иммунологических параметров. Клинический анализ крови выполняли на автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе (URIT-3000 Vet Plus, URIT Medical Electronic, Китай). Анализ лейкоцитов в крови в данной работе проведен на трех популяциях лейкоцитов – LYM, MID, GRAN. Уровень липополисахарида (ЛПС), трансформирующего фактора роста-β1 (ТФР-β1), интерферона-γ (ИФН-γ), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-2 (ИЛ-2), лептина, кортизола и лактоферрина оценивали иммуноферментным методом (MR-96A, Mindray, Китай).
Посмертно вычисляли массовые коэффициенты (МК) слепой кишки как характеристики АИД; селезенки как индикатора иммуногенеза; депозитов висцерального жира как показателя ПВО. На протяжении всего эксперимента, ежедневно с 9 до 10 ч, проводили оценку клинического статуса животных, потребления корма и воды, а также массы тела животных.
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью программного пакета STATISTICA 12.0. Статистический анализ дискретных значений проводился с использованием непараметрического критерия Краскела-Уоллиса для обнаружения статистически значимых различий, с последующим апостериорным сравнением с использованием U-критерия Манна-Уитни. В таблицах приведены значения медианы (Mе), а также нижнего и верхнего квартиля (25;75%). Гемодинамические показатели в динамике представлены в виде среднего ± стандартное отклонение. Статистически значимыми считали различия при уровне значимости р < 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Масса тела и внутренних органов, потребление корма и воды
Масса тела крыс в группе КТР в течение всего периода наблюдения в среднем увеличивалась на 0.57 ± 0.05 г/сутки, тогда как в группах ССВО, ССВО + ЛБС и ССВО + ИНП наблюдали уменьшение массы тела животных на 1.61 ± 0.91, 1.38 ± 0.81 и 0.78 ± ± 0.49 г/сутки соответственно (p < 0.05 в сравнении с группой КТР для всех групп). Потребление воды за этот же период из расчета на 100 г массы тела в группе КТР составило 10.9 ± 1.3 мл/сутки, что существенно меньше показателей в остальных группах (15.4 ± ± 2.1, 13.7 ± 2.2 и 14.7 ± 0.5 мл/сутки для групп ССВО, ССВО + ЛБС, ССВО + ИНП соответственно, p < 0.05 для всех групп). Потребление корма составило группах ССВО, ССВО + ЛБС и ССВО + ИНП 2.3 ± 0.9, 1.9 ± 0.5 и 2.3 ± 0.3 г/сутки соответственно и уменьшилось в 2.3, 2.8 и 2.3 раза (р < 0.05), по сравнению с группой КТР (5.3 ± ± 0.5 г/сутки). Отмечено увеличение МК селезенки в группе ССВО на 29% (р < 0.05) по отношению к КТР. В группе ССВО + ЛБС, в сравнении с КТР, МК почек увеличился на 13% (р < 0.05). Значимое увеличение массы слепой кишки наблюдали в группах ССВО, ССВО + ЛБС и ССВО + ИНП (р < 0.05 по сравнению с КТР). МК депозитов висцерального жира в группе ССВО был меньше, чем в КТР на 138% (р < 0.05), а в группе ССВО + ЛБС – на 64% (р <0.05) (табл. 1).
Рис. 1. Дизайн эксперимента. CTR – контроль; SIRS (CCВО) – синдром системного воспалительного ответа; SIRS + LBS – ССВО и смесь LA-5 и BB-12; SIRS + INP – ССВО и инактивированный пробиотик. AA + E – смесь 3%-ного раствора уксусной кислоты и 3%-ного этанола. AMC – смесь антимикробных препаратов, HFCD – диета с повышенным содержанием жиров и углеводов, Veh – физиологический раствор. Детали эксперимента подробно описаны в тексте.
Таблица 1. Массовые коэффициенты органов, Me (25%;75%)
Группа Орган | КТР | ССВО | ССВО + ЛБС | ССВО + ИНП |
Слепая кишка | 1.9 (1.8; 2.1) | 5.8 (5.4; 6.0)*↑ | 5.0 (4.3; 5.3)*↑ | 4.7 (4.5; 5.4)*↑ |
Печень | 3.0 (2.9; 3.1) | 2.9 (2.8; 3.0) | 2.8 (2.7; 3.0) | 2.8 (2.7; 3.0) |
Селезенка | 0.17 (0.16; 0.19) | 0.22 (0.20; 0.23) *↑ | 0.17 (0.16; 0.19) | 0.18 (0.16; 0,20) |
Почки | 0.62 (0.61; 0.65) | 0.66 (0.64; 0.67) | 0.70 (0.67; 0.72)*↑ | 0.64 (0.62; 0.68) |
Висцеральный жир | 2.11 (1.91; 2.12) | 0.89 (0.71; 1.10) *↓ | 1.28 (0.99; 1.33)*↓ | 1.63 (1.32; 1.96) |
* – р < 0.05 по отношению к КТР (U критерий). ↑ – увеличение показателя, ↓ – уменьшение показателя. Забор органов с 13 до 15 ч. КТР – контроль, ССВО – синдром системной воспалительной реакции, ССВО + ЛБC – ССВО и смесь LA-5 и BB-12, ССВО + ИНП – ССВО и инактивированные пробиотики.
Клинический анализ крови
В группе ССВО показано увеличение общего числа лейкоцитов (WBC) на 45%, причем основной вклад внесла популяция гранулоцитов (GRAN), с увеличением их количества на 111% по отношению к группе КТР (р < 0.05), с уменьшением популяции средних лейкоцитов (MID) на 40% (р < 0.05) и лимфоцитов (LYM) на 36% (р < 0.05). В группе CCВО+ЛБС число WBC увеличилось на 30%, а GRAN – на 89%, при уменьшении MID на 75 и LYM на 36% по отношению к КТР (р < 0.05). В группе ССВО + ИНП по отношению к КТР произошло увеличение WBC на 23% и GRAN на 71% (р < 0.05), а количество LYM и MID уменьшилось на 36 и 133% (р < 0.05) соответственно. В группах ССВО и ССВО + ИНП по отношению к КТР увеличилось число тромбоцитов на 21 и 43% соответственно (р < 0.05). Значимых изменений числа эритроцитов в подопытных группах по отношению к контролю не отмечено (табл. 2).
Таблица 2. Гематологические показатели крыс, Me (25%; 75%)
Группа Параметр | КТР | ССВО | ССВО + ЛБС | ССВО + ИНП |
WBC 109/L | 5.3 (5.1; 6.0) | 7.7 (6.3; 9.9)*↑ | 6.9 (5.1; 9.2)*↑ | 6.5 (5.1; 9.9)*↑ |
LYM 109/L | 1.9 (1.3; 2.2) | 1.4 (0.8; 2.1)*↓ | 1.4 (0.9; 1.6)*↓ | 1.4 (0.9; 2.2)*↓ |
MID 109/L | 0.7 (0.5; 0.8) | 0.5 (0.4; 0.7)*↓ | 0.4 (0.3; 0.5)*↓ | 0.3 (0.2; 0.4)*↓ |
GRAN 109/L | 2.8 (2.4; 3.2) | 5.9 (5.1; 6.3)*↑ | 5.3 (4.6; 5.8)*↑ | 4.8 (4.3; 6.1)*↑ |
RBC 1012/L | 6.3 (6.1; 7.3) | 6.6 (6.0; 6.7) | 6.5 (5.9; 6.8) | 6.8 (6.5; 7.4) |
PLT 109/L | 545 (502; 566) | 662 (584; 694)*↑ | 618 (605; 655) | 782 (760; 799)*↑ |
* – р < 0.05 по отношению к КТР (U критерий). Забор крови с 13 до 15 ч. КТР – контроль, ССВО – синдром системной воспалительной реакции, СВО + ЛБC – ССВО и смесь LA-5 и BB-12, ССВО + ИНП – ССВО и инактивированный пробиотик.
Уровень маркеров воспаления и гормонов в плазме крови
В табл. 3 показаны результаты оценки уровня маркеров воспаления и гормонов в плазме крови. Отмечено значимое увеличение концентрации ЛПС в крови животных в группе ССВО по отношению к контролю (на 217%, р < 0.05).
Таблица 3. Содержание цитокинов, гормонов, лактоферрина и липополисахарида в плазме крови, Me (25%; 75%)
Группа Аналит | КТР | ССВО | ССВО + ЛБС | ССВО + ИНП |
ИЛ-1β, пг/мл | 5.2 (3.8; 6.8) | 11.1 (9.4; 13.7)*↑ | 5.5 (5.0; 6.8)#↓ | 6.1 (5.6; 7.6)#↓ |
ИЛ-2, пг/мл | 4.68 (3.21; 6.02) | 9.13 (8.07; 9.85)*↑ | 4.11 (2.98;5.58)#↓ | 7.34(5.66;8.92)*↑ |
Кортизол, пг/мл | 301 (265; 350) | 364 (244; 437) | 293 (238; 369) | 229 (188; 289)#↓ |
Лактоферрин, пг/мл | 81 (48; 87) | 99 (86; 120)*↑ | 58 (37; 55) | 102 (82; 125)*↑ |
ИФН-γ, пг/мл | 24 (21; 28) | 124 (35; 191)*↑ | 174 (113; 217)*↑ | 97 (40; 124) |
Лептин, пг/мл | 3.10 (2.71; 3.75) | 6.30 (6.19; 8.46)*↑ | 3.45 (3.22; 4.53)#↓ | 2.76 (2.65; 3.20)#↓ |
ФНО-α, пг/мл | 14 (11; 15) | 23 (19; 30)*↑ | 16 (14; 22) | 17 (14; 21) |
ТФР-β1, пг/мл | 3.08 (2.26; 3.67) | 6.94 (4.57; 9.06)*↑ | 5.54 (3.06; 7.62) | 4.48 (3.49; 5.58) |
ЛПС, пг/мл | 42 (30; 55) | 133 (91; 166)*↑ | 31 (26; 34)#↓ | 37 (24 ;49)#↓ |
* – р < 0.05 по отношению к группе КТР, # – р < 0.05 по отношению к группе ССВО. Забор крови с 13 до 15 ч. КТР – контроль, ССВО – синдром системной воспалительной реакции, СВО + ЛБC – ССВО и смесь LA-5 и BB-12, ССВО + ИНП – ССВО и инактивированный пробиотик.
Введение животным живых и инактивированных пробиотиков сопровождалось значимым уменьшением уровня ЛПС в крови по сравнению с группой ССВО. Уровень TФР-β1 в крови в группах ССВО, ССВО + ЛБС и ССВО + ИНП увеличился на 125, 80 и 46% (р < 0.05) соответственно. Значение ФНО-α было больше на 64% в группе ССВО в сравнении с KTP (р < 0.05). Концентрация ИЛ-1β была больше на 113% в группе ССВО (р < 0.05 против КТР). Показатели ИЛ-2 в группах ССВО и ССВО + ИНП по отношению к КТР увеличились на 95 и 56% соответственно (р < 0.05). При этом уровень ИЛ-2 в группе ССВО + ЛБС был значимо ниже, чем в группе ССВО. В группе ССВО отмечено увеличение концентрации лептина на 103% (р < 0.05). При этом уровень лептина в группах ССВО + ЛБС и ССВО + ИНП был значимо ниже, чем в группе ССВО, и не отличался от контроля. Уровень интерферона в группах ССВО, ССВО + ЛБС и ССВО + +ИНП по отношению к КТР был выше на 416, 625 и 305% соответственно (р < 0.05).
Гемодинамические параметры, размер зоны риска и зоны инфаркта
Таблица 4. Гемодинамические показатели (Me ± SD)
Группа | Показатели гемодинамики | Исх. сост. | Реперфузия | |||||
5 мин | 30 мин | 40 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | |||
КТР | АД | 80 ± 12 | 76 ± 12 | 87 ± 12 | 81 ± 11 | 81 ± 8 | 80 ± 11 | 82 ± 10 |
ЧСС | 384 ± 44 | 384 ± 45 | 385 ± 26 | 384 ± 25 | 392 ± 23 | 372 ± 23 | 386 ± 28 | |
ССВО | АД | 81 ± 15 | 74 ± 14 | 79 ± 9 | 76 ± 6 | 75 ± 12 | 78 ± 9 | 79 ± 11 |
ЧСС | 360 ± 26 | 336 ± 35 | 360 ± 16 | 348 ± 24 | 348 ± 24 | 348 ± 20 | 364 ± 16 | |
ССВО + +ЛБС | АД | 85 ± 12 | 82 ± 6 | 81 ± 14 | 87 ± 12 | 86 ± 19 | 82 ± 12 | 84 ± 9 |
ЧСС | 351 ± 27 | 356 ± 27 | 360 ± 24 | 371 ± 22 | 384 ± 26 | 378 ± 30 | 376 ± 29 | |
ССВО + +ИНП | АД | 84 ± 19 | 78 ± 12 | 79 ± 8 | 79 ± 13 | 79 ± 13 | 78 ± 13 | 77 ± 9 |
ЧСС | 360 ± 11 | 348 ± 29 | 351 ± 27 | 360 ± 29 | 357 ± 30 | 354 ± 31 | 361 ± 28 | |
Исследование проводилось с 10 до 13 ч. КТР – контроль, ССВО – синдром системной воспалительной реакции, СВО + ЛБC – ССВО и смесь LA-5 и BB-12, ССВО + ИНП – ССВО и инактивированный пробиотик.
Значения АД и ЧСС в экспериментальных группах в исходном состоянии, а также в ходе периода реперфузии представлены в табл. 4. ДП в группе ССВО + ЛБС на протяжении всего периода наблюдения статистически не отличалось от контроля, в отличие от групп ССВО и ССВО + ИНП, в которых ДП в определенных точках реперфузионного периода было значимо меньше, чем в КТР (рис. 2). Размер инфаркта в группе с моделированием ССВО был значимо выше, чем в контрольной группе 43% (39; 44) и 31% (28; 35), p < 0.05 (рис. 2). В группе ССВО с введением инактивированных пробиотических бактерий размер инфаркта составлял 45% (37; 48), не отличался от группы ССВО и был значимо выше, чем в контроле (p < 0.05). При этом размер инфаркта в группе с введением живых пробиотиков не отличался от такового в контроле и составлял 32% (28; 37). Во всех группах зона риска не имела существенных отличий (рис. 2).
Рис. 2. Двойное произведение ЧСС и АД (а), Mean ± SD, размер инфаркта миокарда (b) и размер зоны риска (c), %, Me [25%; 75%]. * – р < 0.05 по отношению к группе КТР. КТР – контроль; ССВО – синдром системного воспалительного ответа; ССВО + ЛБС – ССВО и смесь LA-5 и BB-12; ССВО + ИНП – ССВО и инактивированный пробиотик.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенные нами ранее экспериментальные исследования на модели ССВО у крыс показали значимое увеличение размера инфаркта по сравнению со здоровыми животными на модели изолированного сердца с возможностью уменьшения размера инфаркта с помощью пробиотиков [8]. В настоящей работе показано, что введение смеси живых пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus (LA-5) и Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12) животным с ССВО сопровождалось уменьшением размера инфаркта до значения, которое не отличалось от такового в контроле. При этом было продемонстрировано отсутствие кардиопротективного эффекта в группе с введением инактивированного пробиотика, что требует детального анализа для дальнейшего определения молекулярных механизмов выявленного феномена. Следует отметить, что рецепторные механизмы кардиопротекции, опосредованной изменениями состава кишечной микробиоты, в настоящее время изучены недостаточно. Тем не менее данные литературы позволяют выдвинуть на роль кардиопротективных лигандов некоторые молекулы, уровень которых в крови прямо или опосредованно связан с активностью кишечной микрофлоры. Эти сигнальные молекулы целесообразно разделить на образующиеся клетками макроорганизма в результате стимуляции со стороны продуктов кишечных бактерий и образующиеся ферментативным путем в результате метаболической активности самой микробиоты.
Пробиотики — это живые культуры, аналогичные естественной микрофлоре, тогда как метабиотиками являются структурные компоненты пробиотических микроорганизмов и/или их метаболиты, а также сигнальные молекулы с определенной химической структурой, которые способны оптимизировать специфичные для организма хозяина физиологические функции, регуляторные, метаболические и/или поведенческие реакции, связанные с деятельностью индигенной микробиоты организма хозяина [12]. В отличие от пробиотических микробов метабиотики не вступают в антагонистические взаимоотношения с собственной микробиотой пациента и начинают действовать “здесь и сейчас” [13]. Терапия метабиотиками представляется более физиологичной, поскольку осуществляет регулирующее влияние на симбионтные отношения хозяина и его микрофлоры и теоретически способна сводить к минимуму возможность побочных эффектов проводимого лечения от воздействия живых пробиотических микроорганизмов [14]. Однако в дискуссии об эффективности и безопасности метабиотиков по сравнению с пробиотиками необходимо учитывать не только данные об их влиянии на относительно здоровый организм с сохраненной барьерной функцией ЖКТ, но и влияние в условиях полиморбидных состояний, связанных с нарушениями функции пищеварительной, иммунной и сердечно-сосудистой системы.
Валидность использованной нами модели ССВО была подтверждена значимым повышением количества лейкоцитов в крови за счет нейтрофилов с сопутствующим уменьшением мононуклеаров. В настоящей работе обращает на себя внимание синергичное увеличение уровня провоспалительных цитокинов, ЛПС и лактоферрина в группе CCВО с частичной или полной нормализацией их уровней в группах с пробиотической коррекцией. Клетками-продуцентами ФНО-α служат лейкоциты [15, 16] и другие типы клеток, включая кардиомиоциты, стромальные клетки костного мозга, клетки нейроглии и адипоциты [15, 17]. Наличие обширного воспаления в сердце мышей после перевязки коронарной артерии было показано ранее в сочетании с увеличением уровней экспрессии мРНК ФНО-α, MCP-1, IL-6 и IL-1β, а также уровней белков IL-6 и ФНО-α, с максимумом через 1 неделю после лигирования левой коронарной артерии и последующим снижением [18]. ФНО-α может оказывать защитное эндоэкологическое действие, так как способствует фагоцитозу патогенных микроорганизмов активированными нейтрофилами и макрофагами. С другой стороны, ФНО-α подавляет активность липопротеиновой липазы в адипоцитах, что приводит к нарушению липогенеза. Этот эффект может способствовать истощению организма — кахексии [19], что подтверждается наибольшим снижением массы тела животных в группе ССВО.
Повышение проницаемости эпителиальной выстилки кишечника при воспалении сопровождается бактериальной транслокацией, т.е. интенсификацией переноса бактерий и патоген-ассоциированных молекулярных паттернов (ПАМП) в собственную пластинку слизистой, где происходит распознавание ПАМП различными типами паттерн-распознающих рецепторов, локализованных как на клетках врожденного иммунитета, так и на эпителиоцитах. Активация клеток приводит к NFκВ-зависимой экспрессии многих генов, участвующих в воспалении, включая адгезионные молекулы, белки острой фазы и провоспалительные цитокины. Применительно к вопросу о кардиопротекции следует подчеркнуть, что значительное повышение концентрации в крови таких провоспалительных цитокинов, как ФНО-α, ИЛ-1β и др. сопровождается индукцией апоптоза кардиомиоцитов, угнетением сократительной функции миокарда, усилением хемотаксиса и активацией лейкоцитов в зоне ишемического повреждения. В экспериментальных исследованиях убедительно показаны кардиопротективные эффекты антицитокиновых препаратов. Таким образом, любые изменения состава кишечной микробиоты, способствующие нормализации проницаемости эпителия и уменьшению проявлений системного и локального воспаления, имеют кардиопротективную направленность.
Циркулирующий лептин участвует в регуляции энергетического гомеостаза и обмена веществ. На животных-биомоделях с генетически обусловленным дефицитом лептина было показано, что лептин также может регулировать нейроэндокринные и иммунные функции организма [20]. Лептин повышает концентрацию таких провоспалительных цитокинов, как ФНО-α и ИЛ-6, формируя инсулинорезистентность и компенсаторную гиперинсулинемию и, таким образом, увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа [21]. В нашей работе в группе ССВО отмечено существенное увеличение показателя лептина по отношению к контролю при отсутствии этого эффекта в группах с введением живых и инактивированных пробиотиков. С учетом известной связи гиперлептинемии и ожирения [22] наличие гиперлептинемии в группе ССВО является парадоксальным, т.к. именно в этой группе отмечены минимальные показатели МК висцерального жира. В литературе обсуждается роль лептина в развитии инфаркта миокарда и его осложнений; высокий уровень лептина в плазме крови рассматривают как предиктор развития данной патологии независимо от индекса массы тела [23]. Кроме того, показано, что уровень лептина повышен у пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью [24], а хроническая гиперлептинемия в эксперименте ассоциирована с увеличением размера инфаркта и системным воспалением [25]. Ранее уже было показано, что снижение концентрации лептина в плазме крови может являться механизмом кардиопротекции при модуляции микробиоты [7]. Однако некоторые исследования показывают кардиопротективный эффект лептина. Так, отмечено, что лептин повышает фагоцитарную активность макрофагов, а также стимулирует хемотаксис, что важно для формирования рубцовой зоны и активации репаративных процессов в миокарде [26].
Во всех группах с моделированием ССВО наблюдалось значительное увеличение концентрации ИФН-γ, что может косвенно указывать на компенсаторную иммунную реакцию. Учитывая ведущую роль химически индуцированного колита в данной модели, представляется естественной центральная роль в регуляции защитных реакций организма посредством ФНО-α и ИФН-γ при разнообразии биологических активностей этих цитокинов. Очевидно, что их гиперпродукция определяет развитие патологических состояний, сопровождающихся хроническими воспалительными и/или аутоиммунными реакциями. Увеличение показателя ИФН-γ являлось значимым во всех подопытных группах по отношению к контролю, но в группе ССВО + ИНП отмечено существенное его снижение по отношению к уровню в группе ССВО, что важно, учитывая перспективы применения ФНО-α и ИФН-γ связывающих белков, способных стать основой для создания новых терапевтических цитокин-связывающих препаратов.
Сывороточный лактоферрин – это ферропротеин, который продуцируют нейтрофилы и макрофаги, а секреторный лактоферрин – клетки эпителия. Именно из-за способности связывать ионы металлов лактоферрин проявляет бактериостатическую и бактерицидную активность, а также антиоксидантные и мембраностабилизирующие свойства и относится к факторам неспецифической защиты [27, 28]. Кроме того, макромолекула лактоферрина обладает участками связывания для бактериальных токсинов, липополисахарида, гепарина и других макромолекул. Как иммунотропный белок, лактоферрин участвует в регуляции клеточного и гуморального звена иммунитета, воздействуя через рецепторы иммунокомпетентных клеток, интерлейкины и систему комплемента [29, 30]. Концентрация сывороточного лактоферрина, уровень которого коррелирует с уровнем лейкоцитов в крови, повышается как при локальных, так и при генерализованных деструктивно-воспалительных процессах (сепсис, пневмония, панкреатит), а определение повышенных уровней лактоферрина в сыворотке крови является надежным тестом воспалительного процесса любой этиологии [31]. В данном исследовании во всех группах по отношению к КТР произошло увеличение показателя GRAN, в котором преобладают нейтрофилы; при этом в группе ССВО + ИНП отмечено значимое увеличение по отношению к ССВО и ССВО + ЛБС не только лимфоцитов, но и популяции MID, включающей эозинофилы, базофилы и моноциты. Учитывая увеличение GRAN во всех группах, но увеличение показателя лактоферрина только в группе ССВО + ИНП при сопутствующем уменьшении в других группах, можно отнести его к активности макрофагов и предположить возможную связь с результатом инактивации живых пробиотиков.
ДП как характеристика работы сердца показало существенное снижение ее эффективности по сравнению с контролем в группах ССВО и ССВО + ИНП, что обратно коррелирует с размером инфаркта, который был значимо выше в этих группах по сравнению с группой КТР. В группе ССВО + ЛБС отмечено сохранение ДП на уровне контрольной группы, что может служить дополнительным функциональным критерием кардиопротекции.
Несмотря на широкий круг исследованных параметров, достаточных аргументов для однозначных объяснений ассоциативной связи изменений показателей ИЛ-1β, ИЛ-2, кортизола и лактоферрина в крови с изменениями размеров зоны инфаркта пока недостаточно. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у животных с ССВО имеются специфические особенности действия живых и инактивированных пробиотических микроорганизмов с отсутствием кардиопротективного эффекта при использовании инактивированных лакто- и бифидобактерий.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями и были одобрены Комиссией по контролю содержания и использования лабораторных животных Национальным медицинским исследовательским центром им. В.А. Алмазова Минздрава России (протокол-заявка № ПЗ 23_9_V2 от 06.09.2023 г.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 23-15-00139), https://rscf.ru/project/23-15-00139. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
ВКЛАД АВТОРОВ
Идея работы и планирование эксперимента (Ю.Ю.Б., М.М.Г.), сбор данных (Ю.Ю.Б., Д.Л.С., И.Ю.Б., Е.С.П., В.Ю.Б., О.В.Б.), анализ и обработка данных (Ю.Ю.Б., И.Ю.Б., М.М.Г.), написание и редактирование манускрипта (Ю.Ю.Б., И.Ю.Б., М.М.Г.).
Sobre autores
Y. Borshchev
Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation; National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Petrov of the Ministry of Health of the Russian Federation
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg; St. Petersburg
D. Sonin
Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation; Pavlov First St. Petersburg State Medical University
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg; St. Petersburg
I. Burovenko
Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation
Autor responsável pela correspondência
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg
E. Protsak
Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg
V. Borshchev
Pavlov First St. Petersburg State Medical University
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg
O. Borshcheva
Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg
M. Galagudza
Almazov National Medical Research Center of the Ministry of Health of the Russian Federation; Pavlov First St. Petersburg State Medical University
Email: burovenko.inessa@gmail.com
Rússia, St. Petersburg; St. Petersburg
Bibliografia
- Шляхто ЕВ, Петрищев НН, Галагудза ММ, Власов ТД, Нифонтов ЕМ (2013). Кардиопротекция: фундаментальные и клинические аспекты. CПб. ООО Студия “НП-Принт”. [Shlyakhto EV, Petrishchev NN, Galagudza MM, Vlasov TD, Nifontov EM (2013) Cardioprotection: fundamental and clinical aspects. SPb. OOO Studiya “NP-Print”. (In Russ)].
- Heusch G (2017) Critical Issues for the Translation of Cardioprotection. Circul Res 120(9): 1477–1486. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.310820
- Wang Q, Zuurbier CJ, Huhn R, Torregroza C, Hollmann MW, Preckel B, van den Brom CE, Weber NC (2023) Pharmacological Cardioprotection against Ischemia Reperfusion Injury-The Search for a Clinical Effective Therapy. Cells 12(10): 1432. https://doi.org/10.3390/cells12101432
- Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, Barengo NC, Beaton AZ, Benjamin EJ, Benziger CP, Bonny A, Brauer M, Brodmann M, Cahill TJ, Carapetis J, Catapano AL, Chugh SS, Cooper LT, Coresh J, Criqui M, DeCleene N, Eagle KA, Emmons-Bell S, Feigin VL, Fernández-Solà J, Fowkes G, Gakidou E, Grundy SM, He FJ, Howard G, Hu F, Inker L, Karthikeyan G, Kassebaum N, Koroshetz W, Lavie C, Lloyd-Jones D, Lu HS, Mirijello A, Temesgen AM, Mokdad A, Moran AE, Muntner P, Narula J, Neal B, Ntsekhe M, Moraes de Oliveira G, Otto C, Owolabi M, Pratt M, Rajagopalan S, Reitsma M, Ribeiro ALP, Rigotti N, Rodgers A, Sable C, Shakil S, Sliwa-Hahnle K, Stark B, Sundström J, Timpel P, Tleyjeh IM, Valgimigli M, Vos T, Whelton PK, Yacoub M, Zuhlke L, Murray C, Fuster V (2020) GBD-NHLBI-JACC Global Burden of Cardiovascular Diseases Writing Group. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study. J Am Coll Cardiol 76(25): 2982–3021. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.010
- Kundu P, Blacher E, Elinav E, Pettersson S (2017) Our Gut Microbiome: The Evolving Inner Self. Cell 171(7): 1481–1493. https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.11.024
- Forkosh E, Ilan Y (2019) The heart-gut axis: new target for atherosclerosis and congestive heart failure therapy. Open Heart 6(1): e000993. https://doi.org/10.1136/openhrt-2018-000993
- Lam V, Su J, Koprowski S, Hsu A, Tweddell JS, Rafiee P, Gross GJ, Salzman N H, Baker JE (2012) Intestinal microbiota determine severity of myocardial infarction in rats. FASEB J: official publication of the Federation of Am Soc Exp Biol 26(4): 1727–1735. https://doi.org/10.1096/fj.11-197921
- Danilo CA, Constantopoulos E, McKee LA, Chen H, Regan JA, Lipovka Y, Lahtinen S, Sten- man LK, Nguyen TV, Doyle KP, Slepian MJ, Khalpey ZI, Konhilas JP (2017) Bifidobacterium animalis subsp. lactis 420 mitigates the pathological impact of myocardial infarction in the mouse. Benefic Microbes 8(2): 257–269. https://doi.org/10.3920/BM2016.0119
- Borshchev YY, Burovenko IY, Karaseva AB, Minasian SM, Protsak ES, Borshchev VY, Semeno- va NY, Borshcheva OV, Suvorov AN, Galagudza MM (2022) Probiotic Therapy with Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium animalis subsp. lactis Results in Infarct Size Limitation in Rats with Obesity and Chemically Induced Colitis. Microorganisms 10(11): 2293. https://doi.org/10.3390/microorganisms10112293
- Gan XT, Ettinger G, Huang CX, Burton JP, Haist JV, Rajapurohitam V, Sidaway JE, Martin G, Gloor GB, Swann JR, Reid G, Karmazyn M (2014) Probiotic administration attenuates myocardial hypertrophy and heart failure after myocardial infarction in the rat. Circ Heart Fail7(3): 491–499. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000978
- Борщев ЮЮ, Буровенко ИЮ, Карасева АБ, Минасян СМ, Борщев ВЮ, Семенова НЮ, Борщева ОВ, Половинкин ВВ, Родионов ГГ, Суворов АН, Галагудза ММ (2020). Моделирование синдрома системной воспалительной реакции химической индукцией травмы толстого кишечника у крыс. Мед. иммунол. 22(1): 87–98. [Borschev YuYu, Burovenko IYu, Karaseva AB, Minasyan SM, Borschev VYu, Semenova NYu, Borshcheva OV, Polovinkin VV, Rodionov GG, Suvorov AN, Galagudza MM (2020) Modeling of systemic inflammatory response syndrome by chemical induction of colon injury in rats. Med Immunol 22(1): 87–98. (In Russ)]. https://doi.org/10.15789/1563-0625-MOS-1839
- Шендеров БА (2014). Микробная экология человека и ее роль в поддержании здоровья. Метаморфозы 5: 72–80. [Shenderov BA (2014) Human microbial ecology and its role in maintaining health. Metamorfozy 5: 72–80. (In Russ)].
- Ардатская МД (2015). Пробиотики, пребиотики и метабиотики в коррекции микроэкологических нарушений кишечника. Мед. совет 13: 94–99. [Ardatskaya MD (2015) Probiotics, prebiotics and metabiotics in the management of microecological bowel disorders. Med Sovet 13: 94–99. (In Russ)]. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2015-13-94-99
- Бондаренко ВМ (2005). Метаболитные пробиотики: механизмы терапевтического эффекта при микроэкологических нарушениях. Consil Med 7: 437–443. [Bondarenko VM (2005) Metabolic probiotics: mechanisms of therapeutic effect in microecological disorders. Consil Med 7: 437–443. (In Russ)].
- Alfano M, Poli G (2005) Role of cytokines and chemokines in the regulation of innate immunity and HIV infection. Mol Immunol 42(2): 161–182. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2004.06.016
- Godfried MH, Romijn JA, van der Poll T, Weverling GJ, Corssmit EP, Endert E, Eeftinck Schattenkerk, JK, Sauerwein HP (1995) Soluble receptors for tumor necrosis factor are markers for clinical course but not for major metabolic changes in human immunodeficiency virus infection. Metabol: Clin and Exp 44(12): 1564–1569. https://doi.org/10.1016/0026-0495(95)90076-4
- Spriggs DR, Deutsch S, Kufe DW (1992) Genomic structure, induction, and production of TNF-alpha. Immunol Series 56: 3–34.
- Wang X, Guo Z, Ding Z, Mehta JL (2018) Inflammation, Autophagy, and Apoptosis After Myocardial Infarction. J Am Heart Assoc 7(9): e008024. https://doi.org/10.1161/JAHA.117.008024
- Torti FM, Dieckmann B, Beutler B, Cerami A, Ringold GM (1985) A macrophage factor inhibits adipocyte gene expression: an in vitro model of cachexia. Science (New York) 229(4716): 867–869. https://doi.org/10.1126/science.3839597
- Breslow MJ, Min-Lee K, Brown DR, Chacko VP, Palmer D, Berkowitz DE (1999) Effect of leptin deficiency on metabolic rate in ob/ob mice. Am J Physiol 276(3): E443–E449. https://doi.org/10.1152/ajpendo.1999.276.3.E443
- Ghadge AA, Khaire AA (2019) Leptin as a predictive marker for metabolic syndrome. Cytokine 121: 154735. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2019.154735
- Liu W, Zhou X, Li Y, Zhang S, Cai X, Zhang R, Gong S, Han X, Ji L (2020) Serum leptin, resistin, and adiponectin levels in obese and non-obese patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus: A population-based study. Medicine 99(6): e19052. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000019052
- Khafaji HA, Bener AB, Rizk NM, Al Suwaidi J (2012) Elevated serum leptin levels in patients with acute myocardial infarction; correlation with coronary angiographic and echocardiographic findings. BMC Res Notes 5: 262. https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-262
- Schulze PC, Kratzsch J, Linke A, Schoene N, Adams V, Gielen S, Erbs S, Moebius-Winkler S, Schuler G (2003) Elevated serum levels of leptin and soluble leptin receptor in patients with advanced chronic heart failure. Eur J Heart Fail 5(1): 33–40. https://doi.org/10.1016/s1388-9842(02)00177-0
- Polyakova EA, Mikhaylov EN, Galagudza MM, Shlyakhto EV (2021) Hyperleptinemia results in systemic inflammation and the exacerbation of ischemia-reperfusion myocardial injury. Heliyon 7(11): e08491. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08491
- Smith CC, Yellon DM (2011) Adipocytokines, cardiovascular pathophysiology and myocardial protection. Pharmacol & Therap 129(2): 206–219. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2010.09.003
- Кузнецов ИА, Потиевская ВИ, Качанов ИВ, Куралева ОО (2017). Роль лактоферрина в биологических средах человека. Совр. пробл. науки и образов. 3. [Kuznetsov IA, Potievskaya VI, Kachanov IV, Kuraleva OO (2017) The role of lactoferrin in human biological media. Sovr Probl Nauki Obrazov 3. (In Russ)]. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26522
- Бойко ОВ, Ахминеева АХ, Гудинская НИ, Бойко ВИ, Козак ДМ, Бендюг ВА (2013). Биохимические и иммунологические маркеры в диагностике патологических состояний. Фундамент исслед. 9(3): 327–329. [Boyko OV, Akhmineeva AKh, Gudinskaya NI, Boyko VI, Kozak DM, Bendyug VA (2013) Biochemical and immunological markers in the diagnosis of pathological conditions. Fundament Issled 9: 327–329. (In Russ)]. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32347
- Коханов АВ, Мяснянкин АА, Метелкина ЕВ, Мусатов ОВ, Луцева ОА, Белопасов ВВ (2010). Фетальные и острофазовые белки как маркеры репаративных процессов. Междунар. журн. экспер. образов. 11: 89. [Kokhanov AV, Myasnyankin AA, Metelkina EV, Musatov OV, Lutseva OA, Belopasov VV (2010) Fetal and acute phase proteins as markers of reparative processes. Mezhdunar zhurn eksper obrazov 11: 89. (In Russ)]. https://expeducation.ru/ru/article/view?id=964
- Михайличенко ВЮ, Трофимов ПС, Кчибеков ЭА, Самарин СА, Топчиев МА, Биркун АА (2018). Оценка динамики уровня лактоферрина сыворотки крови в послеоперационном мониторинге больных, прооперированных по поводу распространенного перитонита. Тавр. мед.-биол. вестн. 21(1): 98–103. [Mikhaylichenko VYu, Trofimov PS, Kchibekov EA, Samarin SA, Topchiev MA, Birkun AA (2018) Assessment of the lactoferrin level in blood serum in the postoperative monitoring of patients operated on diffused peritonitis. Tavr Med-Biol Vestn 21(1): 98–103. (In Russ)].
- Луцева ОА, Коханов АВ, Воронкова МЮ, Иримиа РН, Зеленцова ЯВ (2019). Уровни лактоферрина в сыворотке крови и фекальном экстракте при некоторых воспалительных заболеваниях кишечника. Совр. пробл. науки и образов. 1: 46. [Lutseva OA, Kokhanov AV, Voronkova MYu, Irimia RN, Zelentsova YaV (2019) Serum and fecal extract lactoferrin levels in some inflammatory bowel diseases. Sovr Probl Nauki Obrazov 1: 46. (In Russ). https://science-education.ru/ru/article/view?id=28541
Arquivos suplementares