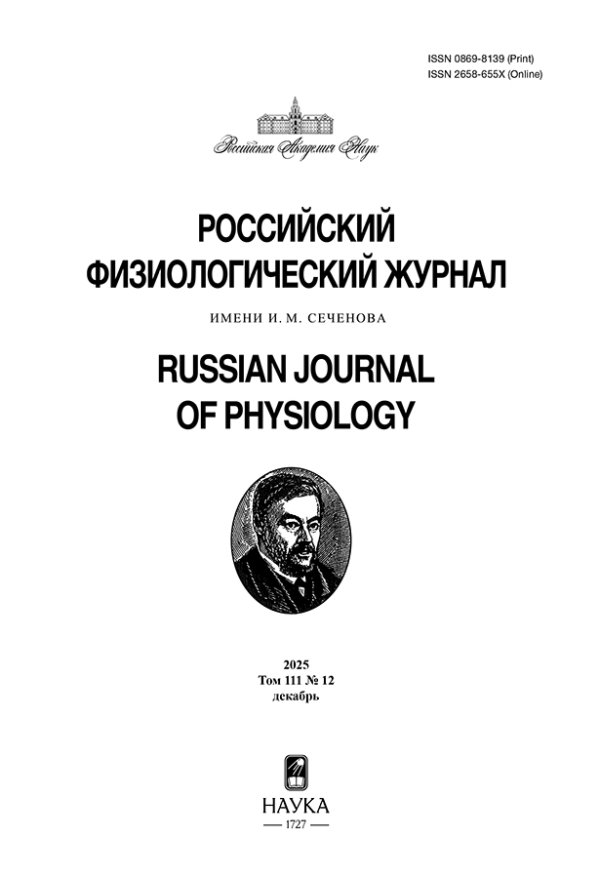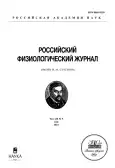Изоосмотическая стрикция сосудистых гладкомышечных клеток аорты крысы при активации пуринергических рецепторов: роль хлорного транспорта
- Авторы: Смаглий Л.В.1,2,3, Гусакова В.С.1, Гусакова С.В.1, Пшемыский М.А.1, Кошуба С.О.1, Голованов Е.А.1
-
Учреждения:
- Сибирский государственный медицинский университет
- Томский государственный университет
- НИИ Северский биофизический научный центр
- Выпуск: Том 110, № 5 (2024)
- Страницы: 769-782
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://medbiosci.ru/0869-8139/article/view/266894
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924050082
- EDN: https://elibrary.ru/BLCOKE
- ID: 266894
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследовали влияние пуринергической сигнальной системы и вклад транспортеров Cl– в изоосмотическую стрикцию сосудистых гладкомышечных клеток (ГМК), возникающую при нормализации осмотического давления после длительной инкубации в гипоосмотической среде. Исследование проводили методом механографии на деэндотелизированных кольцевых сегментах аорты крыс-самцов линии Wistar. Изоосмотическую стрикцию вызывали помещением сосудистых сегментов в нормоосмотический раствор Кребса, содержащий 120 мМ NaCl после 40-минутной инкубации в гипоосмотическом растворе Кребса, содержащем 40 мМ NaCl. Пуринергические рецепторы активировали неселективным агонистом P2X и P2Y рецепторов аденозин-5’-трифосфатом (АТФ, 500 мкМ) и селективным агонистом P2Y рецепторов уридин-5’-трифосфатом (УТФ, 500 мкМ). АТФ и УТФ устраняли транзиторный характер изоосмотической стрикции ГМК аорты, не влияя на ее величину. Предобработка сегментов АТФ и УТФ во время инкубации в гипоосмотическом растворе полностью подавляла развитие изоосмотической стрикции в присутствии АТФ или УТФ, но не влияла на изоосмотическую стрикцию без активаторов пуринергических рецепторов. Ингибитор Na+, K+, 2Cl--котранспорта (NKCC) буметанид (100 мкМ) устранял изоосмотическую стрикцию в присутствии АТФ, но не УТФ, однако восстанавливал ее транзиторный характер. Неселективный блокатор Cl--каналов и Cl-, HCO3--обменника DIDS (100 мкМ) подавлял развитие изоосмотической стрикции как в присутствии АТФ, так и УТФ. Блокатор калиевых каналов тетраэтиламмоний (10 мМ) потенцировал констрикторное действие УТФ на изоосмотическую стрикцию. Вероятно, пуринергические рецепторы устраняют транзиторность изоосмотической стрикции за счет активации Cl--токов через активацию P2Y рецепторов. Механизм взаимодействия пуринергической сигнальной системы и транспорта Cl– при изменении объема клетки требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Объем клеток является одним из ключевых параметров, влияющих на внутриклеточный гомеостаз, и подлежит строгому контролю. К изменению объема клеток приводит увеличение или уменьшение осмолярности внеклеточной или внутриклеточной среды, приводящее к сжатию или набуханию клеток соответственно [1]. Последнее наблюдается при таких патологических состояниях, как гипертензия [2], нарушения водно-солевого баланса (гипо- или гипернатриемия) [1]. Набухание и пролиферация гладкомышечных клеток (ГМК) легочной артерии в модели артериальной легочной гипертензии были продемонстрированы в работе Sun с соавт. [2], увеличение объема ГМК базилярных артерий было продемонстрировано Shi с соавт. в модели почечной гипертензии [3]. Показано, что набухание ГМК активирует механизмы регуляторного снижения объема (regulatory volume decrease, RVD), которое сопровождается транзиторной сократительной реакцией – гипоосмотической стрикцией [4, 5]. В основе RVD лежит активация K+-каналов [5], Cl- каналов [6, 7], K+, Cl--котранспорта [8], объем-регулируемых анионных каналов [9]. Инкубация ГМК в гипотонической среде приводит к снижению внутриклеточной концентрации Cl– [3]. Продемонстрировано, что блокирование Na+, K+, 2Cl--котранспорта (NKCC) подавляет гипоосмотическую стрикцию ГМК аорты крысы. С другой стороны, восстановление нормальной осмолярности после длительного воздействия гипоосмотической среды приводит к сжатию клеток [5], сопровождающемуся активацией механизмов регуляторного увеличения объема (regulatory volume increase, RVI), включающего активацию NKCC [10], H+, Na+-обменника и Cl-,HCO3--обменника [6]. В сосудистых ГМК регуляторное увеличение объема клеток сопровождается транзиторным сокращением – изоосмотической стрикцией клеток, амплитуда которой увеличивается при ингибировании NKCC [4].
Учитывая, что как снижение осмолярности инкубационной среды, так и восстановление ее нормальных значений приводят к повышению тонуса сосудистых ГМК, представляется важным исследование факторов, влияющих на величину и длительность описанных сократительных реакций. Одним из таких факторов является пуринергическая сигнальная система, опосредуемая внеклеточным аденозин-5’-трифосфатом (АТФ). АТФ выделяется из эритроцитов [11], ГМК [12], эндотелиальных клеток [13], симпатических нервных окончаний [14] под действием таких факторов, как механическая деформация эритроцитов [15], снижение рН крови [16] и увеличение парциального давления CO2 [11], турбулентный ток крови [17], умеренное повышение температуры [18]. АТФ активирует рецепторы групп P2X и P2Y на мембранах ГМК и эндотелиальных клеток [19]. Ранее на кольцевых сегментах легочной артерии крысы было показано, что неселективный активатор P2X- и P2Y- рецепторов АТФ устраняет транзиторный характер гипоосмотической стрикции, но подавляет развитие изоосмотической стрикции. Блокирование Cl--каналов, но не NKCC способствовало ее восстановлению [20].
Известно, что экспрессия подтипов P2X- и P2Y-рецепторов и физиологические эффекты их активации варьируют в зависимости от типа сосудистого ложа [19]. Так, ГМК аорты крысы экспрессируют рецепторы P2X1 и P2Y2,4, тогда как ГМК легочной артерии – P2X1 и P2Y2,4,6 [21]. Чтобы выявить возможные отличия в реакции ГМК сосудов большого и малого кругов кровообращения на изменение осмолярности среды и концентрации внеклеточного АТФ, мы исследовали влияние активаторов пуринергических рецепторов на сосуды системного кровотока, выбрав в качестве модели аорту крысы, которая широко используется как в исследовании сигнальных механизмов регуляции ГМК, так и тестировании фармакологических соединений [22].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводили на изолированных кольцевых деэндотелизированных сегментах грудного отдела аорты крыс – самцов линии Wistar массой 180–250 г, которых содержали в специализированном виварии с соблюдением всех установленных норм. Аорту выделяли после умерщвления животных методом ингаляции СО2. Выделенные сосуды помещали в физиологически сбалансированный солевой раствор Кребса, содержащий (мМ) 120.4 NaCl, 5.9 KCl, 2.5 CaCl2, 1.2 MgCl2, 5.5 глюкозы, 15 NH2C(CH2OH)3 [tris(hydroxymethyl)-aminomethane] (pH 7.4; 316.4 мОсм/л). Осмолярность растворов контролировали криоскопическим методом с помощью осмометра-криоскопа ОСКР-1 согласно стандартной методике измерения температуры замерзания раствора.
После удаления жировой и соединительной ткани сосуд нарезали на сегменты шириной 2–3 мм, эндотелий удаляли механически вращением деревянного шпателя в просвете сегмента в течение 1 мин. Отпрепарированные сегменты использовали немедленно. Удаление эндотелия контролировали по отсутствию реакции расслабления в ответ на добавление ацетилхолина (5–100 мкМ). Неиспользованную часть аорты сохраняли в холодильнике при 4 ºС и использовали в течение двух дней с момента выделения сосуда. В предварительных экспериментах было показано, что 24-часовое хранение артерии при 4 ºС не влияет на сократительные свойства гладких мышц.
Механическое напряжение (МН) сосудистых гладкомышечных сегментов (СГМС) измеряли с помощью четырехканальной механографической установки Myobath II и аппаратно-программного обеспечения LAB-TRAX-4/16 (World Precision Instruments, Германия). Для этого СГМС фиксировали в рабочей камере объемом 10 мл, заполненной физиологическим раствором Кребса, растягивали нагрузкой 500 мг и термостатировали при 37 ºС в течение 40–50 мин. Далее вызывали два последовательных сократительных ответа помещением СГМС в гиперкалиевый раствор (30 мМ KCl), который получали путем эквимолярного замещения 30 мM NaCl на KCl в растворе Кребса. Амплитуда сократительного ответа на действие 30 мМ KCl соответствует полумаксимальной. Ранее было показано, что начиная со второго сокращения, наблюдаемого при помещении кольцевого препарата в раствор, содержащий 30 мМ KCl, СГМС сокращаются со стабильной амплитудой.
Для получения изоосмотической стрикции сегменты инкубировали в течение 60 мин в гипоосмотическом растворе Кребса, содержащем 40 мМ NaCl, и затем возвращали в нормальный раствор Кребса (120 мМ NaCl). Для активации пуринергических рецепторов использовали неселективный активатор P2X- и P2Y-рецепторов АТФ и селективный активатор P2Y-рецепторов (P2Y2, P2Y4) уридин-5’-трифосфат (УТФ) [23, 24].
Влияние активаторов пуринергических рецепторов на развитие изоосмотической стрикции оценивали тремя путями:
1) Инкубирование сегментов аорты в гипоосмотическом растворе Кребса (60 мин) и последующее их помещение в изоосмотический раствор Кребса, содержащий 500 мкМ АТФ или УТФ (рис. 1a).
Рис. 1. Влияние активаторов пуринергических рецепторов на развитие изоосмотической стрикции гладкомышечных сегментов аорты крысы в сериях экспериментов, описанных в разделе «Методы исследования» (подробное описание результатов в тексте). (a) – влияние АТФ (500 мкМ) и УТФ (500 мкМ) на изоосмотическую стрикцию, полученную по первой схеме экспериментов. (b) – влияние АТФ (500 мкМ) и УТФ (500 мкМ) на изоосмотическую стрикцию, полученную по второй схеме экспериментов. (с) – влияние АТФ (500 мкМ) и УТФ (500 мкМ) на изоосмотическую стрикцию, полученную по третьей схеме экспериментов. По оси абсцисс – время (часы), по оси ординат – механическое напряжение (мН). Стрелками показано добавление и удаление растворов. Пунктирной линией показано изменение механического напряжения сегмента в контроле, сплошной – при добавлении АТФ или УТФ. На диаграммах представлены медиана и интерквартильный размах амплитуды изоосмотической стрикции в соответствующих сериях экспериментов. * – статистически значимые отличия от контрольных значений (p < 0.05).
2) Инкубирование сегментов аорты в гипоосмотическом растворе Кребса (60 мин), содержащем 500 мкМ АТФ или УТФ, и последующее их помещение в изоосмотический раствор Кребса, содержащий 500 мкМ АТФ или УТФ (рис. 1b).
3) Инкубирование сегментов аорты в гипоосмотическом растворе Кребса (60 мин), содержащем 500 мкМ АТФ или УТФ, и последующее их помещение в изоосмотический раствор Кребса, не содержащий активаторов пуринергических рецепторов (рис. 1c).
Для исследования вклада транспорта Cl- использовали ингибитор NKCC буметанид, неселективный блокатор Cl--каналов [25, 26] и HCO3-, Cl--обменника [27] DIDS (4,4-diisothiocyanostilbene-2,2-disulphonic acid). Для исследования вклада K+-каналов использовали неселективный блокатор К+-каналов тетраэтиламмоний (ТЭА). Указанные соединения добавляли к СГМС перед заменой гипоосмотического раствора на изоосмотический и инкубировали в течение времени, определенного в предварительных экспериментах и показавшего близкий к полумаксимальному эффект воздействия. Время предобработки буметанидом (100 мкМ), DIDS (100 мкМ) и ТЭА (10 мМ) составляло 15, 30 и 10 мин соответственно. Все реактивы произведены Sigma-Aldrich. Амплитуду сократительных ответов рассчитывали в процентах от амплитуды сокращения на гиперкалиевый раствор Кребса (30 мM KCl), которую принимали за 100%.
Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи программы Statistica 7.0 for Windows фирмы Statsoft. Фактические данные представлены в виде: медиана ± интерквартильный размах (Q1; Q3). Для определения характера распределения полученных данных использовали критерий нормальности Колмогорова – Смирнова. Сформированные выборки не подчинялись закону нормального распределения, поэтому для проверки статистических гипотез были использованы непараметрические критерии. Для проверки гипотезы об однородности двух независимых выборок использовался U-критерий Манна – Уитни (Mann–Whitney U test). Достоверными считали различия при значении р < 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Влияние активаторов пуринергических рецепторов на изоосмотическую стрикцию
Помещение СГМС в нормальный раствор Кребса (120 мМ NaCl) после 60-минутной инкубации в гипоосмотической среде (40 мМ NaCl) приводило к развитию транзиторного сокращения амплитудой 21.6 (15.5; 27.7)% от контрольной гиперкалиевой контрактуры и длительностью 38.8 (37.2; 40.4) мин (n = 10).
В первой серии экспериментов, описанной в разделе «Методы исследования», оценивали влияние АТФ или УТФ на изоосмотическую стрикцию, полученную после инкубации в чистом гипоосмотическом растворе, не содержащем активаторы пуринергических рецепторов. В данной модели добавление как АТФ (500 мкМ), так и УТФ (500 мкМ) (рис. 1a) не оказывало статистически значимого влияния на амплитуду изоосмотической стрикции (МН составило 18.7 (15.2; 22.6)% и 19.5 (15.3; 24.2)% соответственно (n = 4, p > 0.05)). Однако в присутствии как АТФ, так и УТФ сегменты не расслаблялись: изоосмотическая стрикция приобретала поддерживаемый характер (рис. 1а).
Во второй серии экспериментов активаторы пуринергических рецепторов добавляли не только на фоне развития изоосмотической стрикции, но и к гипоосмотическому раствору, чтобы оценить влияние их длительного воздействия. В условиях предварительной инкубации сегментов в гипоосмотическом растворе, содержащем АТФ (500 мкМ) или УТФ (500 мкМ), добавление как АТФ (500 мкМ), так и УТФ (500 мкМ) (рис. 1b) к нормальному раствору Кребса, используемому для получения изоосмотической стрикции, полностью подавляло развитие последней (n = 4, p < 0.05).
В то же время отмывание СГМС чистым раствором Кребса после инкубации в гипоосмотическом растворе с АТФ приводило к развитию изоосмотической стрикции, параметры которой не отличались от контрольных значений: амплитуда сокращения составила 23.7 (6.9; 41.6)%, длительность 32.0 (22.0; 42.3) мин (n = 4, p > 0.05) (рис. 1c). В случае, если гипоосмотический раствор содержал УТФ (500 мкМ), амплитуда и длительность изоосмотической стрикции также не отличались от контрольных значений (24.3 (16.9; 31.0)% и 41.0 (40.5; 41.5) мин (n = 4, p > 005) (рис. 1c)).
Роль ионных транспортеров в действии активаторов пуринергических рецепторов на изоосмотическую стрикцию
Далее, чтобы изучить влияние активаторов пуринергических рецепторов непосредственно на изоосмотическую стрикцию, сегменты аорты инкубировали согласно первой схеме (рис. 1а). Для исследования вклада транспортеров ионов хлора и калия сегменты перед заменой гипоосмотического раствора на изоосмотический инкубировали с соответствующими блокаторами в течение времени, определенного в предварительных экспериментах и показавшего полумаксимальный эффект воздействия (время предобработки блокаторами указано далее в тексте).
Сравнение влияния буметанида, DIDS и ТЭА на параметры изоосмотической стрикции представлены в табл. 1.
Таблица 1. Влияние блокаторов ионных транспортеров на параметры изоосмотической стрикции
Блокаторы | Без блокаторов | Буметанид (100 мкМ) | DIDS (100 мкМ) | ТЭА (10 мМ) |
МН, % t, мин | 21.6 (15.5; 27.7) 38.8 (37.2; 40.4) | 39.5 (24.0; 54.2)* 143.8 (134.4; 152.4)* | 14.0 (13.2; 15.4)* 28.1 (23.2; 35.4)* | 70.7 (54.6; 79.3)* Не расслаблялись |
МН – механическое напряжение, t – длительность стрикции, * – достоверные отличия от значений, полученных в отсутствие блокаторов (p < 0.05).
Аналогичные данные, но в условиях добавления АТФ и УТФ представлены в табл. 2.
Таблица 2. Влияние блокаторов ионных транспортеров на параметры изоосмотической стрикции в присутствии АТФ или УТФ
Без блокаторов | Буметанид (100 мкМ) | DIDS (100 мкМ) | ТЭА (10 мМ) | |
120 мМ NaCl + 500 мкМ АТФ | ||||
МН, % t, мин | 18.7 (15.2; 22.6) Не расслаблялись | 0* 0* | 0* 0* | 55.9 (35.8; 94.8)* Не расслаблялись |
120 мМ NaCl + 500 мкМ УТФ | ||||
МН, % t, мин | 19.5 (15.3; 24.2) Не расслаблялись | 23.3 (15.2; 33.6) 31.5 (27.8; 34.0)* | 0* 0* | 97.1 (93.9; 120.4)* Не расслаблялись |
МН – механическое напряжение, t – длительность стрикции, * – достоверные отличия от значений, полученных в отсутствие блокаторов (p < 0.05).
Предобработка буметанидом (100 мкМ, 15 мин) устраняла развитие изоосмотической стрикции в присутствии АТФ (500 мкМ) (n = 7, p < 0.05) (рис. 2а). В то же время буметанид (100 мкМ, предобработка 15 мин) не оказывал влияния на амплитуду изоосмотической стрикции в присутствии 500 мкМ УТФ (23.3 (15.2; 33.6)%, p < 0.05, n = 4) и возвращал ей транзиторный характер, однако несколько уменьшал длительность стрикции (t = 31.5 (27.8; 34.0) мин, p < 0.05) относительно контрольных значений (38.8 (37.2; 40.4) мин (рис. 2b)).
Рис. 2. Влияние ингибитора NKCC буметанида (100 мкМ, предобработка 15 мин) и ингибитора Cl--каналов и Cl-/HCO3--обменника DIDS (100 мкМ, предобработка 30 мин) на развитие изоосмотической стрикции гладкомышечных сегментов аорты крысы в присутствии 500 мкМ АТФ (а) или 500 мкМ УТФ (b). Буметанид и DIDS добавляли за 15 или 30 мин соответственно до индукции изоосмотической стрикции. По оси абсцисс – время (ч), по оси ординат – механическое напряжение (мН). Стрелками показано добавление и удаление растворов.
Ингибитор Cl--каналов и Cl-/HCO3--обменника DIDS (100 мкМ, предобработка 30 мин) также устранял развитие изоосмотической стрикции в присутствии как АТФ, так и УТФ, которая в этом случае полностью отсутствовала (рис. 2a, b).
Неселективный блокатор калиевых каналов ТЭА (10 мМ, предобработка 10 мин) достоверно увеличивал амплитуду изоосмотической стрикции до 70.7 (54.6; 79.3)% (n = 4, p < 0.05)), СГМС при этом не расслаблялись (табл. 1). Добавление 500 мкМ АТФ к сегментам, предобработанным ТЭА, не приводило к статистически значимому изменению параметров изоосмотической стрикции по сравнению с изоосмотической стрикцией в присутствии только ТЭА (МН составило 55.9 (35.8; 94.8)% (n = 4, p > 0.05)), СГМС при этом не расслаблялись (табл. 2). При тех же условиях амплитуда изоосмотической стрикции в присутствии 500 мкМ УТФ и на фоне блокирования калиевых каналов достоверно увеличивалась в сравнении со стрикцией в присутствии только ТЭА и составила 97.1 (93.9; 120.4)% (n = 4, p < 0.05), сегменты также не расслаблялись (табл. 2). В обоих случаях время достижения пика изоосмотической стрикции возрастало до ~ 60 мин (рис. 3).
Рис. 3. Влияние ТЭА (10 мМ, предобработка 10 мин) на амплитуду и длительность изоосмотической стрикции аорты в присутствии АТФ (a) или УТФ (b). Сплошной линией показана контрольная изоосмотическая стрикция в отсутствие добавок, точками – изоосмотическая стрикция в присутствии ТЭА, пунктирными линиями – изоосмотическая стрикция в присутствии АТФ или УТФ, пунктирной линией с точкой – то же, но при действии ТЭА. ТЭА добавляли за 10 мин до индукции изоосмотической стрикции. По оси ординат – механическое напряжение (мН), по оси абсцисс – время (ч).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изменение осмолярности среды при некоторых патологических состояниях может приводить к набуханию клеток. Набухание клеток при артериальной гипертензии было показано в моделях легочной и почечной артериальной гипертензии [2, 3]. В то же время восстановление осмолярности среды сопровождается сжатием клеток и транзиторной стрикцией кровеносных сосудов (изоосмотической стрикцией) [4, 6]. Однако повышение концентрации внеклеточных пуриновых нуклеотидов, в частности АТФ, препятствует расслаблению СГМС и приводит к длительному увеличению базального тонуса. Повышение концентрации АТФ в кровеносном русле наблюдается при гипоксии [28, 41] – состоянии, которое сопровождает ряд заболеваний, включая бронхолегочные заболевания, артериальную легочную гипертензию [30]. Взаимодействие АТФ с эндотелиальными рецепторами приводит к высвобождению NO и релаксации сосудов [29], однако дисфункция эндотелия, сопровождающая сердечно-сосудистые заболевания, может нарушать этот механизм. Ранее нами было продемонстрировано, что АТФ пролонгирует констрикцию сегментов легочной артерии в гипоосмотической среде, но подавляет изоосмотическую стрикцию. Этот эффект частично устранялся действием блокаторов Са2+-активируемых хлорных каналов, но не буметанидом [20].
Изучение изоосмотической стрикции сегментов аорты как сосудов большого круга кровообращения показало реакцию на активаторы пуринергических рецепторов, отличную от легочной артерии. Так, в присутствии как АТФ, так и УТФ изоосмотическая стрикция приобретала поддерживаемый характер. Действие АТФ и УТФ на изоосмотическую стрикцию зависит от условий добавления этих веществ к СГМС. Так, в случае предобработки активаторами пуринергических рецепторов сегментов, инкубируемых в гипоосмотическом растворе, и последующей индукции изоосмотической стрикции раствором Кребса, не содержащем этих веществ, параметры изоосмотической стрикции достоверно не отличались от таковых, полученных в контрольных условиях. Следовательно, влияние активаторов P2X- и P2Y-рецепторов проявляется только в момент их непосредственного действия и носит временный характер.
С другой стороны, известно, что АТФ быстро разрушается эктонуклеотидазами мембраны клеток до аденозина [31]. Показано, что в культуральных СГМК (in vitro) аорты крысы экспрессируются следующие эктонуклеотидазы (в порядке убывания): Entpd1, Entpd2, Nt5e и Entpd3 [32]. Образовавшийся аденозин далее взаимодействует с аденозиновыми рецепторами группы А: P1A1, P1A2α и P1A2β, транспортируется в клетку или дезаминируется до инозина [33]. Эти данные позволяют предположить, что наблюдаемые нами сосудистые эффекты при добавлении АТФ и УТФ могут быть связаны не только с активацией P2X- и P2Y-рецепторов, но и рецепторов аденозина. С другой стороны, в работе Bertoni с соавт. на культуральных ГМК аорты крысы, инкубируемых с АТФ, продемонстрировано достаточно медленное расщепление АТФ, сопровождающееся медленным ростом продукции АДФ, АМФ и аденозина: через 180 мин инкубации концентрация АТФ составляла 50% от исходной [41]. Возможная причина низкой продукции аденозина из АТФ, по мнению авторов, заключается в ингибировании гидролиза АМФ вследствие того, что АТФ и АДФ являются мощными ингибиторами экто-5′-нуклеотидазы [32]. Тем не менее возможная модуляция изоосмотической стрикции аденозином как продуктом гидролиза АТФ эктонуклеотидазами требует дальнейших исследований.
Эксперименты с блокаторами транспорта Cl– показали, что и DIDS – неселективный блокатор Cl--каналов и Cl-/HCO3--обменника, и ингибитор NKCC буметанид полностью подавляли развитие изоосмотической стрикции в присутствии АТФ. В то же время ингибитор NKCC буметанид в отсутствие АТФ увеличивал амплитуду изоосмотической стрикции кольцевых сегментов аорты крысы. На данный момент невозможно однозначно объяснить наблюдаемые изменения, особенно учитывая отличия в реакции изоосмотической стрикции на активацию пуринергических рецепторов в аорте и легочной артерии.
Известно, что изоосмотическая стрикция сопровождается активацией NKCC, следствием чего является увеличение внутриклеточной концентрации ионов, транспорт в клетку воды и восстановление ее объема. С другой стороны, наблюдается значительное снижение [Cl–]i [6]. Особенностью сосудистых ГМК является относительно высокая [Cl–]i, превышающая теоретически ожидаемые значения, определяемые равновесием Доннана [42], и варьирующая в диапазоне 30–50 мМ [43]. Установлено, что потенциал покоя мембраны сосудистых ГМК колеблется от –60 до –40 мВ, тогда как равновесный потенциал Cl– составляет от –30 до –20 мВ. В данных условиях активация Cl--каналов приводит к выходу Cl– из клетки и деполяризации мембраны [43], что было подтверждено ранее рядом исследований [43–46]. Можно предположить, что в основе уменьшения [Cl–]i при изоосмотической стрикции лежит схожий механизм, заключающийся в обусловленном NKCC изначальном увеличении [Cl–]i, сдвиге равновесного потенциала Cl– в сторону положительных значений и, как следствие, выходе Cl– через Cl--каналы [34]. С другой стороны, снижение [Cl–]i активирует серин-треониновые киназы WNK (в частности, WNK3) [34, 35], которые, в свою очередь, фосфорилируют NKCC1 по серину и треонину, увеличивая ее активность [6].
Активаторы пуринергических рецепторов повышают вход в клетку Са2+, который напрямую активирует актомиозиновые взаимодействия, ряд ферментативных внутриклеточных систем, ионные транспортеры, включая Ca2+-активируемые K+-каналы, Cl--каналы и Cl-,HCO3--обменник [31], NKCC [6]. Каждый из этих регуляторных элементов может вносить свой вклад в формирование ответа и требует отдельного изучения. Одним из механизмов пролонгации изоосмотической стрикции можно предположить активацию NKCC и увеличение [Na+]i на фоне АТФ-индуцированного входа Ca2+. Снижение входящего градиента Na+ ингибирует работу Na+, Ca2+-обменника и тем самым способствует накоплению Са2+ в цитоплазме [36], пролонгации актомиозинового взаимодействия, активации Ca2+-активируемых Cl--каналов и усилению выхода Cl– за счет градиента, создаваемого NKCC. Тогда блокирование NKCC и Cl--каналов на фоне возможной активации Ca2+-активируемых K+-каналов может ингибировать этот механизм, подавляя изоосмотическую стрикцию, что и наблюдалось в эксперименте.
Вместе с тем известно, что P2X-рецепторы, являющиеся неселективными ионными каналами, увеличивают транспорт Са2+ в клетку и быстро инактивируются, тогда как P2Y-рецепторы, связанные с G-белком, образуют инозитол-трифосфат (ИФ3) и диацилглицерол (ДАГ). ИФ3 стимулирует выход Са2+ из саркоплазматического ретикулума [37], тогда как ДАГ активирует ПКС [19] через фосфатидилинозитол-бифосфат (ФИФ2) [38]. ПКС блокирует активность Cl-,HCO3--обменника [39], активирует Са2+-активируемые и объем-зависимые Cl--каналы [40], но ингибирует потенциал-зависимые Cl--каналы [41]. Снижение [Cl–]i за счет активации этих каналов способствует усилению активности NKCC [6] и деполяризации мембраны по механизму, описанному выше (рис. 4). Во всяком случае, ингибирование NKCC в эксперименте способствовало восстановлению исходного МН при изоосмотической стрикции в присутствии активатора P2Y-рецепторов УТФ. Таким образом, можно предположить, что пролонгированное увеличение тонуса СГМК при изменении осмолярности среды и одновременной активации пуринергических рецепторов связано именно с киназными путями, активируемыми P2Y-рецепторами. Дальнейшее и более детальное изучение регуляторных механизмов биологических веществ, в том числе пуринергических нуклеотидов, на фоне активации механизмов регуляции объема клетки позволит выявить особенности их функционирования в условиях и при заболеваниях, сопровождающихся изменением осмолярности внутриклеточной среды.
Рис. 4. Гипотетическая схема взаимодействия пуринергической сигнальной системы и механизмов регуляторного увеличения объема клеток при изоосмотической стрикции (пояснения в тексте). NKCC – Na+, K+, 2Cl--котранспорт, CC – хлорные каналы (без уточнения типа), СаСС – кальций-активируемые хлорные каналы, CaPC – кальций-активируемые калиевые каналы, СаС – потенциал-зависимые кальциевые каналы, NCa – Na+, Ca2+-обменник, ATP – аденозин-5’-трифосфат, UTP – уридин-5’-трифосфат, P2X – рецепторы, P2Y – рецепторы, SPR – саркоплазматический ретикулум, IP3 – инозитол-трифосфат, DAG – диацилглицерол, PKC – протеинкиназа С, ECl, hypo – равновесный потенциал Cl– при инкубации в гипоосмотической среде; ECl, iso – равновесный потенциал Cl– при возвращении в изоосмотическую среду. Синими стрелками показано активирующее влияние, красными – ингибирующее.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы и планирование эксперимента (Л.В.С.), сбор и обработка данных (В.С.Ч., М.А.П., С.О.К., Е.А.Г.), написание и редактирование манускрипта (Л.В.С., С.В.Г.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета Российского фонда фундаментальных исследований (договор № 18–44–700009). Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с лабораторными животными и были одобрены Комиссией по этике Сибирского государственного медицинского университета Минздрава России, протокол № 8556 от 21.01.2021 г.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
Л. В. Смаглий
Сибирский государственный медицинский университет; Томский государственный университет; НИИ Северский биофизический научный центр
Автор, ответственный за переписку.
Email: lud.smagly@yandex.ru
Россия, Томск; Томск; Северск
В. С. Гусакова
Сибирский государственный медицинский университет
Email: lud.smagly@yandex.ru
Россия, Томск
С. В. Гусакова
Сибирский государственный медицинский университет
Email: lud.smagly@yandex.ru
Россия, Томск
М. А. Пшемыский
Сибирский государственный медицинский университет
Email: lud.smagly@yandex.ru
Россия, Томск
С. О. Кошуба
Сибирский государственный медицинский университет
Email: lud.smagly@yandex.ru
Россия, Томск
Е. А. Голованов
Сибирский государственный медицинский университет
Email: lud.smagly@yandex.ru
Россия, Томск
Список литературы
- Jentsch TJ (2016) VRACs and other ion channels and transporters in the regulation of cell volume and beyond. Nature Rev Mol Cell Biol 17(5): 293–307. https://doi.org/10.1038/nrm.2016.29
- Sun XZ, Tian XY, Wang DW, Li J (2014) Effects of fasudil on hypoxic pulmonary hypertension and pulmonary vascular remodeling in rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci 18(7): 959–964.
- Shi X–L, Wang G-L, Zhang Z, Liu Y-J, Chen J-H, Zhou J-G, Qiu Q-Y, Guan Y-Y (2007) Alteration of Volume-Regulated Chloride Movement in Rat Cerebrovascular Smooth Muscle Cells During Hypertension. Hypertension 49: 1371–1377. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.106.084657
- Anfinogenova YJ, Baskakov MB, Kovalev IV, Kilin AA, Dulin NO, Orlov SN (2004) Cell-volume-dependent vascular smooth muscle contraction: role of Na+-K+-2Cl– -cotransport, intracellular Cl– and L-type Ca2+ channels. Pflugers Arch 449(1): 42–55. https://doi.org/10.1007/s00424–004–1316-z
- Hoffmann EK, Lambert IH, Pedersen SF (2009) Physiology of Cell Volume Regulation in Vertebrates. Physiol Rev 89(1): 193–277. https://doi.org/10.1152/physrev.00037.2007
- O’Neill WC (1999) Physiological significance of volume-regulatory transporters. Cell Physiol 276(5): C995–C1011. https://doi.org/10.1152/ajpcell.1999.276.5.C995
- Emma F, McManus M, Strange K (1997) Intracellular electrolytes regulate the volume set point of the organic osmolyte/anion channel VSOAC. Am J Physiol 272(6 Pt 1): C1766–C1775. https://doi.org/10.1152/ajpcell.1997.272.6.C1766
- Lauf PK, Bauer J, Adragna NC, Fujise H, Zade-Oppen AMM, Ryu KH, Delpire E (1992) Erythrocyte K-Cl cotransport: properties and regulation. Am J Physiol 263(5 Pt 1): C917–C932. https://doi.org/10.1152/ajpcell.1992.263.5.C917
- Ghouli MR, Fiacco TA, Binder DK (2022) Structure-function relationships of the LRRC8 subunits and subdomains of the volume-regulated anion channel (VRAC). Front Cell Neurosci 16: 962714. https://doi.org/10.3389/fncel.2022.962714
- Qusous A, Geewan CS, Greenwell P, Kerrigan MJ (2011) siRNA-mediated inhibition of Na+-K+-2Cl– cotransporter (NKCC1) and regulatory volume increase in the chondrocyte cell line C-20/A4. J Membr Biol 243: 25–34. https://doi.org/10.1007/s00232–011–9389-z
- Bergfeld GR, Forrester T (1992) Release of ATP from human erythrocytes in response to brief period of hypoxia and hypercapnia. Cardiovasc Res 26: 40–47. https://doi.org/10.1093/cvr/26.1.40
- Takahara N, Ito S, Furuya K, Naruse K, Aso H, Kondo M, Sokabe M, Hasegawa Y (2014) Real-time imaging of ATP release induced by mechanical stretch in human airway smooth muscle cells. Am J Respir Cell Mol Biol 51(6): 772–782. https://doi.org/10.1165/rcmb.2014–0008OC
- Lohman AW, Billaud M, Isakson BE (2012) Mechanisms of ATP release and signalling in the blood vessel wall. Cardiovasc Res 95(3): 269–280. https://doi.org/10.1093/cvr/cvs187
- Kennedy C (2015) ATP as a cotransmitter in the autonomic nervous system. Autonom Neuroscie: basic and clin 191: P2–P15. https://doi.org/10.1016/j.autneu.2015.04.004
- Sprague RS, Ellsworth ML (2012) Erythrocyte derived ATP and perfusion distribution: role of intracellular and intracellular communication. Microcirculation 19: 430–439. https://doi.org/0.1111/j.1549–8719.2011.00158.x
- Ellsworth ML, Forrester T, Ellis CG, Dietrich HH (1995) The erythrocyte as a regulator of vascular tone. Am J Physiol 269: H2155–H2161. https://doi.org/10.1152/ajpheart.1995.269.6.H2155
- Wan J, Ristenpart WD, Stone HA (1998) Dynamics of shear induced ATP release from red blood cells. Proc Natl Acad Sci U S A 105: 16432–16437. https://doi.org/10.1073/pnas.0805779105
- Kalsi KK, Gonzalez-Alonso J (2012) Temperature dependent release of ATP from human erythrocytes: mechanism for the control of local tissue perfusion. Exp Physiol 97: 419–432. https://doi.org/10.1113/expphysiol.2011.064238
- Burnstock G (2018) Purine and purinergic receptors. Brain Neurosci Adv 2: 1–10. https://doi.org/10.1177/2398212818817494
- Смаглий ЛВ, Гусакова ВС, Горянова АМ, Голованов ЕА, Чибисов ЕЕ, Бирулина ЮГ, Гусакова СВ (2020) Роль АТФ и транспортеров ионов Cl– в регуляции сократительной активности гладких мышц легочной артерии в гипоосмотической среде. Артер гипертен 25(6): 573–580. [Smaglii LV, Gusakova VS, Goryanova AM, Golovanov EA, Chibisov EE, Birulina JG, Gusakova SV (2020) Role of ATP and Cl– transporters in regulation of contractile activity of pulmonary artery smooth muscles in hyposmotic conditions. Arterial Hyperten 25(6): 573–580. (In Russ)]. https://doi.org/10.18705/1607–419X-2020–26–5–573–580
- Burnstock G (2017) Purinergic Signaling in the Cardiovascular System. Circulat Res 120(1): 207–228. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.309726
- Rameshrad M, Babaei H, Azarmi Y, Fouladia DF (2016) Rat aorta as a pharmacological tool for in vitro and in vivo studies. Life Sci 145: 190–204. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2015.12.043
- Choi RCY, Chu GKY, Siow NL, Yung AWY, Yung LY, Lee PSC, Lo CCW, Simon J, Dong TTX, Barnard EA, Tsim KWK (2013) Activation of UTP-sensitive P2Y2 receptor induces the expression of cholinergic genes in cultured cortical neurons: a signaling cascade triggered by Ca2+ mobilization and extracellular regulated kinase phosphorylation. Mol Pharmacol 84(1): 50–61. https://doi.org/10.1124/mol.112.084160
- Attah IY, Neumann A, Al-Hroub H, Rafehi M, Baqi Y, Namasivayam V, Müller CE (2020) Ligand binding and activation of UTP-activated G protein-coupled P2Y2 and P2Y4 receptors elucidated by mutagenesis, pharmacological and computational studies. Biochim Biophys Acta Gen Subj 1864(3): 129501. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2019.129501
- Koszela-Piotrowska I, Choma K, Bednarczyk P, Dołowy K, Szewczyk A, Kunz WS, Malekova L, Kominkova V, Ondrias K (2007) Stilbene derivatives inhibit the activity of the inner mitochondrial membrane chloride channels. Cell Mol Biol Lett 12(4): 493–508. https://doi.org/10.2478/s11658–007–0019–9
- Alexander SPH, Mathie A, Peters JA (2009) Chloride channels. Br J Pharmacol 158(Suppl 1): S130–S134. https://doi.org/10.1111/j.1476–5381.2009.00503_6.x
- Zhang Q, Jian L, Yao D, Rao B, Xia Y, Hu K, Li S, Shen Y, Cao M, Qin A, Zhao J, Cao Y (2023) The structural basis of the pH-homeostasis mediated by the Cl–/HCO3– exchanger, AE2. Nat Commun 14: 1812. https://doi.org/10.1038/s41467–023–37557-y
- Farisa A, Spence DM (2008) Measuring the simultaneous effects of hypoxia and deformation on ATP release from erythrocytes. The Analyst 133: 678–682. https://doi.org/10.1039/B719990B
- Grygorczyk R, Orlov SN (2017) Effects of Hypoxia on Erythrocyte Membrane Properties – Implications for Intravascular Hemolysis and Purinergic Control of Blood Flow. Front Physiol 8: 1110. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.01110
- Tuder RM, Yun JH, Bhunia A, Fijalkowska I (2007) Hypoxia and chronic lung disease. J Mol Med (Berl) 85: 1317–1324. https://doi.org/10.1007/s00109–007–0280–4
- Namkung W, Lee JA, Ahn W, Han WS, Kwon SW, Ahn DS, Kim KH, Lee MG (2003) Ca2+ Activates Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator- and Cl–-dependent HCO3– Transport in Pancreatic Duct Cells. J Biol Chem 278(1): 200–207. https://doi.org/10.1074/jbc.M207199200
- Bertoni APS, de Campos RP, Tamajusuku ASK, Stefani GP, Braganhol E, Battastini AMO, Wink MR (2020) Biochemical analysis of ectonucleotidases on primary rat vascular smooth muscle cells and in silico investigation of their role in vascular diseases. Life Sci 256: 117862. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117862
- Martin-Aragon Baudel M, Espinosa-Tanguma R, Nieves-Cintron M, Navedo MF (2020) Purinergic Signaling During Hyperglycemia in Vascular Smooth Muscle Cells. Front Endocrinol (Lausanne) 11: 329. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00329
- Orlov SN, Koltsova SV, Kapilevich LV, Dulin NO, Gusakova SV (2014) Cation-Chloride Cotransporters: Regulation, Physiological Significance, and Role in Pathogenesis of Arterial Hypertension. Biochemistry (Moscow) 79(13): 1546–1561. https://doi.org/10.1134/S0006297914130070
- Park S, Ku SK, Ji HW, Choi JH, Shin DM (2015) Ca(2+) is a Regulator of the WNK/OSR1/NKCC Pathway in a Human Salivary Gland Cell Line. Korean J Physiol Pharmacol 19(3): 249–255. https://doi.org/10.4196/kjpp.2015.19.3.249
- Zheng Y-M, Wang Y-X (2007) Sodium-calcium exchanger in pulmonary artery smooth muscle cells. Ann N Y Acad Sci 1099: 427–435. https://doi.org/10.1196/annals.1387.017
- Ralevic V (2021) Purinergic signalling in the cardiovascular system – a tribute to Geoffrey Burnstock. Purin Signal 17: 63–69. https://doi.org/10.1007/s11302–020–09734-x
- Kheifets V, Mochly-Rosen D (2007) Insight into intra- and inter-molecular interactions of PKC: design of specific modulators of kinase function. Pharmacol Res 55: 467–476. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2007.04.014
- Fraga S, Luo Y, Jose P, Zandi-Nejad K, Mount DB, Soares-da-Silva P (2006) Dopamine D1-like receptor-mediated inhibition of Cl–/HCO3– exchanger activity in rat intestinal epithelial IEC-6 cells is regulated by G protein-coupled receptor kinase 6 (GRK 6). Cell Physiol Biochem 18(6): 347–360. https://doi.org/10.1159/000097612
- Yu K, Jiang T, Cui Y, Tajkhorshid E, Hartzell HC (2019) A network of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate binding sites regulates gating of the Ca2+-activated Cl– channel ANO1 (TMEM16A). Proc Natl Acad Sci U S A 116: 19952–19962. https://doi.org/10.1073/pnas.1904012116
- Gada KD, Logothetis DE (2022) PKC regulation of ion channels: The involvement of PIP2. J Biol Chem 298(6): 102035. https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.102035
- Chipperfield AR, Harper AA (2000) Chloride in smooth muscle. Progr Biophys Mol Biol 74(3–5): 175–221. https://doi.org/10.1016/S0079–6107(00)00024–9
- Bulley S, Jaggar JH (2014) Cl- channels in smooth muscle cells. Pflugers Arch 466(5): 861–872. https://doi.org/10.1007/s00424–013–1357–2
- Thomas-Gatewood C, Neeb ZP, Bulley S, Adebiyi A, Bannister JP, Leo MD, Jaggar JH (2011) TMEM16A channels generate Ca²⁺-activated Cl- currents in cerebral artery smooth muscle cells. Am J Physiol Heart Circ Physiol 301(5): H1819–H1827. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00404.2011
- Salter KJ, Turner JL, Albarwani S, Clapp LH, Kozlowski RZ (1995) Ca(2+)-activated Cl– and K+ channels and their modulation by endothelin-1 in rat pulmonary arterial smooth muscle cells. Exp Physiol 80(5): 683–884. https://doi.org/10.1113/expphysiol.1995.sp003889
- Bae YM, Kim KS, Park JK, Ko E, Ryu SY, Baek HJ, Lee SH, Ho WK, Earm YE (2001) Ca2+i-dependent membrane currents in vascular smooth muscle cells of the rabbit. Life Sci 69(21): 2451–2466. https://doi.org/10.1016/S0024–3205(01)01323–6
Дополнительные файлы