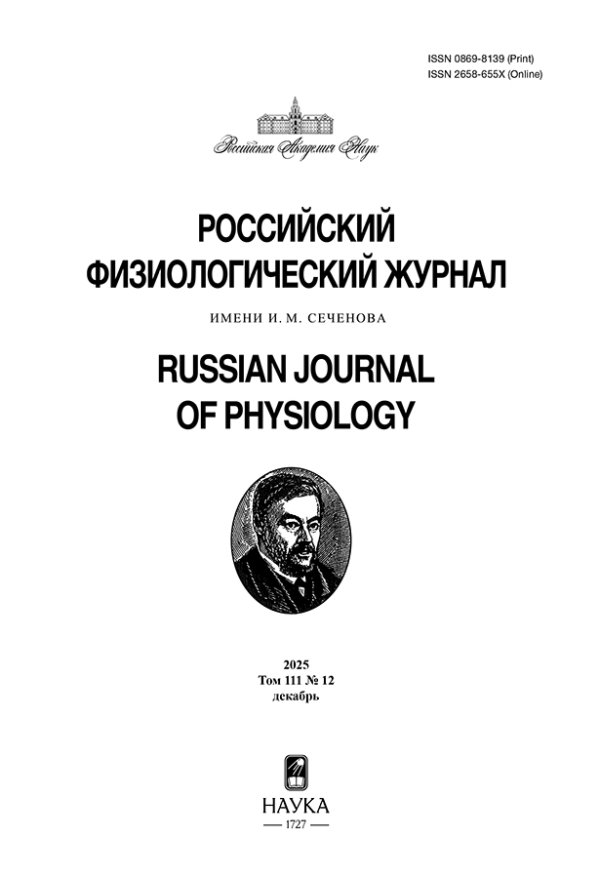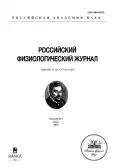Особенности функционирования клеток мозга при гипергликемии и сахарном диабете
- Авторы: Морозова М.П.1, Савинкова И.Г.1, Горбачева Л.Р.1,2
-
Учреждения:
- Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
- Выпуск: Том 110, № 7 (2024)
- Страницы: 1090–1107
- Раздел: ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://medbiosci.ru/0869-8139/article/view/266947
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924070033
- EDN: https://elibrary.ru/BEBJKR
- ID: 266947
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Гипергликемия является симптомом и повреждающим фактором при сахарном диабете (СД), приводящим к системным осложнениям в организме, в том числе к макро- и микроангиопатиям головного мозга, нарушению кровоснабжения, появлению очагов нейродегенерации и запуску нейровоспаления. Нервная ткань характеризуется высоким уровнем потребления энергии и высокочувствительна к колебаниям уровня метаболических субстратов. Таким образом, крайне актуальным является исследование влияния высокого уровня глюкозы на функциональное состояние ЦНС. В обзоре предпринята попытка комплексно оценить последствия гипергликемии для клеток мозга. Анализ экспериментальных данных, полученных в in vivo и in vitro моделях СД, описывающих изменения морфофункционального состояния нейронов, микроглии и астроцитов, показал, что прямое и опосредованное влияние глюкозы в высокой концентрации зависит от типа клеток. Рецепторы и внутриклеточные сигнальные каскады астроцитов и микроглии, опосредующие действие гипергликемии и развитие нейровоспаления, могут выступать в качестве терапевтических мишеней коррекции последствий СД. Поэтому поиск способов модуляции функциональной активности глиальных клеток может оказаться эффективной стратегией для снижения тяжести последствий поражения ЦНС.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Распространенность сахарного диабета (СД) – группы метаболических заболеваний, сопровождающихся увеличением уровня глюкозы в крови, в мире очень широка. Численность больных СД за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза и к концу 2021 г. превысила 537 млн человек. Согласно прогнозам Международной федерации диабета заболеваемость СД к 2045 г. составит 783 млн человек [1]. Стойкое повышение уровня глюкозы в крови, гипергликемия, приводит к развитию патологических изменений в организме, наиболее опасными из которых являются системные сосудистые осложнения – микро- и макроангиопатии, обуславливающие развитие диабетической нефропатии, ретинопатии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, увеличивающие риск мозговых инсультов и других поражений нервной системы [2]. Именно эти заболевания становятся основной причиной инвалидизации и смертности пациентов с СД [1–3].
Гипергликемия и метаболизм глюкозы
Гипергликемия запускает несколько метаболических сигнальных путей, которые приводят к активации воспалительного ответа, выбросу провоспалительных цитокинов и гибели клеток, что ведет к осложнениям СД [4] (рис. 1). Основной путь, который активируется в ответ на гипергликемию – это полиоловый путь окисления глюкозы, в котором при помощи фермента альдозоредуктазы глюкоза превращается в осмотически активные сорбитол и фруктозу, что ведет к осмотическому стрессу и повреждению эндотелиальных клеток [5, 6]. При хронической гипергликемии из-за снижения эффективности метаболизма глюкозы посредством гликолиза и цикла Кребса [7] активируются пути, которые обычно малозначимы в нормогликемических условиях, но становятся основными путями для переноса глюкозы при гипергликемии. Такие пути приводят к продукции активных форм кислорода (АФК), запуску окислительного стресса и последующему развитию осложнений СД [7] (рис. 1).
Гипергликемия запускает гликолиз и дополнительно усиливает синтез диацилглицерола (ДАГ), который активирует протеинкиназу C (ПКС) [4]. ПКС способствует активации НАДФН-оксидазы, что приводит к запуску окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе окислительного стресса. Как следствие, АФК и конечные продукты гликирования накапливаются в клетках, что приводит к запуску гибели клеток [4]. В настоящее время показано, что у пациентов с СД гипергликемия приводит к появлению АФК вследствие активации ферментов митохондриальной дыхательной цепи, ксантиноксидаз, липоксигеназ, циклооксигеназ, NO-синтаз и пероксидаз [4], а развивающийся окислительный стресс ведет к гибели клеток (рис. 1). Так, например, высокий уровень глюкозы при СД через увеличение продукции АФК активирует апоптоз β-клеток поджелудочной железы, секретирующих инсулин, что приводит к еще более выраженной гипергликемии [8]. И апоптоз, и некроптоз играют важную роль в прогрессировании осложнений СД, поскольку поражаются ткани сердца, сетчатки, почек и нервной системы [9–11]. Усиленный синтез ДАГ и активация ПКС запускают множество внутриклеточных сигнальных механизмов, вызывающими увеличение проницаемости сосудистой стенки, нарушение эндотелий-зависимой дилатации сосудов и активации окислительного стресса [5, 6].
Под влиянием гипергликемии также происходит активация гексозаминового пути метаболизма глюкозы, что проявляется в изменении активности транскрипционных факторов, включая специфический белок 1 (Sp1) и транскрипционного ядерного фактора каппа-В (NF-κВ) в эндотелиальных клетках [6]. В эндотелии Sp1 индуцирует транскрипцию ингибитора активации плазминогена 1 (PAI-1), что снижает тромборезистентность сосудистой стенки, а активация NF-κВ способствует выработке провоспалительных цитокинов. Активация NF-κВ высоким уровнем глюкозы может реализовываться за счет различных механизмов: активации toll-подобного рецептора 4 (TLR4) [12], что ведет к фосфорилированию киназного комплекса IκB, высвобождению субъединицы p65 NF-κВ [13] и транслокации её из цитозоля в ядро [12]. Также гипергликемия через ERK1/2-путь вызывает перемещение индуцируемого гипоксией фактора 1-альфа (HIF-1α) в ядро, где он регулирует экспрессию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) [14, 15]. Таким образом, функциональный профиль эндотелия сосудов на фоне хронической гипергликемии сдвигается в сторону вазоконстрикторного ответа, прокоагулянтной активности и повышенной адгезии.
Нарастание патологических изменений в организме на фоне развития СД также связано с прямым токсическим действием хронической гипергликемии, которая приводит к образованию конечных продуктов гликирования (advanced glycation end-products, AGE-продукты) вне и внутри клетки [5]. Высокий уровень глюкозы индуцирует образование метилглиоксаля, который модифицирует белки посредством гликирования аминогрупп белков [16]. Одним из основных продуктов является гликированный гемоглобин (HbA1c), который используется в качестве маркера тяжести сердечно-сосудистых заболеваний и неблагоприятного прогноза у пациентов с СД. Однако повышенный уровень глюкозы в крови приводит к гликированию не только гемоглобина, но и компонентов гликокаликса эндотелия сосудов и нарушению его функции, что объясняет изменение кровоснабжения и питания всех органов и систем в организме [17, 18]. Стойкая гипергликемия и образование AGE-продуктов стимулирует иммунную систему, например, через продукцию АФК возможна активация эндотелия, мезангиальных клеток нефронов и макрофагов [5, 19, 20]. Активация AGE-рецепторов через транскрипционный фактор NF-κB может индуцировать воспаление [21]. Существенный вклад в развитие осложнений СД на фоне гипергликемии вносит активность поли(АДФ-рибозо)-полимеразы (PARP) [22, 23]. Показано, что гипергликемия и неэтерифицированные жирные кислоты стимулируют PARP, что приводит к повреждению нейролеммы и перицитов сетчатки [24].
Рис. 1. Основные метаболические пути, активируемые при гипергликемии и приводящие к развитию диабетической нейропатии. Условные обозначения: АФК – активные формы кислорода, ДАГ – диацилглицерол, AGE-продукты – конечные продукты глубокого гликирования, NF-κB – транскрипционный ядерный фактор каппа-В, PARP – поли(АДФ-рибозо)-полимераза, UDP-GlcNAc – уридин-дифосфат-N-ацетилглюкозамин.
Таким образом, вызванная СД стойкая гипергликемия обладает как прямым токсическим эффектом, индуцируя через реакции гликирования образование AGE-продуктов, так и опосредованным – через запуск полиолового, гексозаминового путей, индуцируя образование АФК, окислительного стресса, активацию ПКС, специфического белка 1 (Sp1), ERK1/2, транскрипционного фактора NF-κB, поли(АДФ-рибозо)-полимеразы (PARP) и HIF-1α. Все это потенцирует активацию воспаления и запуск клеточной гибели.
Влияние гипергликемии на клетки ЦНС
Устойчивые эпизоды гипергликемии приводят к нарушению деятельности нейронов, вызывая их гибель. В то же время нейроглия реагирует на повышенный уровень глюкозы преимущественно по провоспалительному типу, запуская высвобождение цитокинов, которые в свою очередь оказывают токсический эффект на нейроны и способствуют дальнейшей активации глии. Астроциты как клетки, принимающие непосредственное участие в функционировании нейронов, являются основными посредниками негативного влияния гипергликемии на нейроны. Микроглия, вероятно, отвечает при СД за распространение нейровоспаления в мозговой ткани, потенцируя негативное действие гипергликемии системно на все структуры и клетки головного мозга.
Влияние гипергликемии на нейроны
Гипергликемия, сопровождающая СД, в первую очередь влияет на клетки, которые имеют ограниченную способность регулировать потребление глюкозы. К таким клеткам, помимо эндотелиальных клеток капилляров сетчатки, мезангиальных клеток почечных клубочков, шванновских клеток, относятся и нейроны [3].
Методом магнитно-резонансной томографии показано, что длительная гипергликемия приводит к структурным изменениям в головном мозге. Нарушение работы нервной системы у пациентов с СД связано с развитием макро- и микроангиопатии, очагов нейродегенерации из-за ишемических эпизодов и резких колебаний уровня глюкозы [25]. В конечном счете в нейронах накапливаются метаболические изменения: усиливается митохондриальная дисфункция и развивается окислительный стресс, сопряженный с усиленным образованием свободных радикалов и снижением возможности их нейтрализации [25, 26] и запуску воспалительного ответа [27–29]. Запуск основных метаболических путей, активирующихся при гипергликемии: полиолового, диацилглицеролового, гексозаминового, активация митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) и NF-κВ, а также образование АФК – приводят к активации гибели нейронов и нейровоспалению [2, 4].
В условиях высокого уровня глюкозы происходят реакции гликирования аминокислот и образования AGE-продуктов, которые через собственные рецепторы RAGE вызывают избыточное производство АФК в нейронах. Это нарушает правильную упаковку белков, в том числе в митохондриях. Митохондриальная дисфункция ведет как к накоплению АФК, так и снижению синтеза АТФ, что нарушает регуляцию ионного баланса в нейронах, приводит к деполяризации плазматической мембраны, высвобождению медиаторов и гиперактивации постсинаптических рецепторов – развитию эксайтотоксичности и гибели нервных клеток [30]. Исследования показали, что АФК и возникающий в результате окислительный стресс играют ключевую роль в апоптозе нервных клеток [31, 32]. К группе АФК относят свободные радикалы: супероксидный анион (O2–), гидроксильные радикалы и перекись водорода – молекулы со сверхкоротким периодом жизни из-за их высокой химической активности и способностью нарушать структуру ДНК, белков и липидов. В норме клетка обладает различными механизмами антиоксидантной защиты, однако при избыточном образовании АФК развивается окислительный стресс, который дополнительно потенциирует образование АФК [33], вызывает мутацию митохондриальной ДНК, нарушение кальциевого гомеостаза нейронов, что может усиливать высвобождение медиаторов, а также стимулировать Са2+-зависимый путь активации апоптоза клеток [30]. Высокий уровень глюкозы повышал также чувствительность культуры корковых нейронов к глутаматной эксайтотоксичности. Наблюдалось значительное увеличение уровней белка субъединиц GluA1 и GluA2 AMPA-рецептора, что влияло на чувствительность нейронов к AMPA- или NMDA-индуцированной нейротоксичности, а также снижало внеклеточный уровень глутамата в первичной культуре нейронов коры [34]. Таким образом, глюкозотоксичность для нейронов может быть также опосредована нарушением гомеостаза глутамата [34]. Кроме того, культивирование первичных нейронов гиппокампа в среде с высоким содержанием глюкозы (30 мМ) показало увеличение экспрессии белка циклинзависимой киназы Cdk5 и ее активности вплоть до аберрантной, что приводило к апоптозу нейронов гиппокампа через активацию каскада MKK6/p38 MAPK [35].
Нейрокогнитивные изменения, наблюдаемые у пациентов с СД, связанные с изменениями объема белого и серого вещества, особенно заметны у пациентов с длительной гипергликемией или повторяющимися эпизодами тяжелой гипергликемии. Исследования показали снижение объема серого вещества таламуса, височных долей, парагиппокампальной извилины, островковой коры и угловой извилины – областей мозга, связанных с памятью, вниманием и речевой функцией [36, 37]. При обоих типах СД наблюдается снижение синаптической пластичности гиппокампа, аномальная экспрессия нейропептидов в нейронах гипоталамуса, нейротоксичность и изменения в нейротрансмиссии глутамата, увеличение уровня циркулирующего кортикостерона, повышенная чувствительность к стрессу и снижение регуляции глюкокортикоидных рецепторов гиппокампа, что может способствовать развитию морфофункциональных нарушений в ЦНС.
Энцефалопатия, характеризующаяся приобретенными когнитивными и поведенческими нарушениями, является одним из осложнений СД [38]. Одним из наиболее чувствительных к метаболическим нарушениям при СД участком мозга является гиппокамп [39–41]. Гиппокамп является частью лимбической системы, которая особенно чувствительна к повышенному уровню сахара в крови, вовлечена в процессы формирования памяти, эмоций и адаптивных реакций [42, 43]. Молекулярные и структурные изменения в гиппокампе при СД сопровождаются снижением памяти и обучения [44]. В модели стрептозотоцин-индуцированной гипергликемии на мышах были продемонстрированы нарушения памяти, связанные с молекулярными изменениями в гиппокампе, включая снижение количества субъединиц GluN1 и GluN2a рецептора NMDA, снижение уровня фосфорилирования транскрипционного фактора CREB, связанного с памятью, и снижение экспрессии генов, кодирующих белки SYT2, SYT4 и BDNF, регулирующих синаптическую передачу и пластичность [45].
Процессы ассоциативного обучения, приобретения и извлечения памяти связаны с долгосрочными изменениями в синаптической передаче между нейронами гиппокампа. При СД происходят изменения пре- и постсинаптических структур нейронов гиппокампа. Так, нейроны в CA3 области гиппокампа подвергаются ультраструктурным изменениям, включающим сокращение и упрощение их апикальных дендритов и уменьшение количества везикул в пресинаптических окончаниях [46]. Влияние гипергликемии на синтез и высвобождение ключевых нейромедиаторов объясняет развитие когнитивного дефицита, наблюдаемого у животных с СД [47, 48]. Так, в модели СД 1-го типа наблюдали повышенный уровень дофамина в различных областях мозга, снижение базального уровня серотонина и дофамина в гиппокампе [49], а также снижение базального уровня глутамата в зубчатой извилине [50]. При хронической гипергликемии внеклеточные уровни ГАМК и глутамата в мозге снижаются [51], а возникающий дисбаланс между возбуждающими и тормозными медиаторами может являться пусковым фактором развития нейродегенерации и, следовательно, когнитивных нарушений.
Таким образом, длительная гипергликемия ответственна как за структурные нарушения нервных клеток вплоть до их гибели, развитие дисбаланса нейромедиаторов, так и за нарушение функциональной активности нейронов, проявляющиеся в том числе и когнитивным дефицитом у пациентов с СД. Изучение механизмов, ответственных за гибель и нарушение работы нейронов, а также поиск препаратов, корректирующих нарастающую нейронную дисфункцию, могут снизить негативные влияния высокого уровня глюкозы на качество жизни пациентов с СД [52, 53].
Влияние гипергликемии на микроглию
Микроглия представляет собой резидентные иммунные клетки в ЦНС, которые в норме участвуют как в процессе формирования мозга, так и в поддержании гомеостаза нервной ткани во взрослом состоянии, а при патологии – в реализации нейровоспаления как ответной реакции ткани на повреждение [54–56]. Выполняя функцию макрофагов, микроглия отвечает за уничтожение микробов, мертвых клеток, избыточных синапсов, белковых агрегатов и других антигенов, которые могут представлять опасность для ЦНС, однако активность микроглии жестко регулируется ее микроокружением [55].
В норме микроглиальные клетки «мониторируют» гомеостаз нервной ткани, перемещаются по ней и с помощью отростков «ощупывают» другие клетки и окружающее пространство в поисках сигнальных молекул повреждения [57]. Воздействие повреждающего фактора активирует микроглию. Активированная микроглия усиленно пролиферирует, а форма ее клеток становится амебоидной с толстыми и короткими отростками. Кроме того, усиливаются миграционные свойства микроглии, меняется ее секреторный профиль и усиливается фагоцитарная активность [57]. По функциональному состоянию активированную микроглию традиционно классифицируют на два полярных типа: нейротоксический М1-фенотип и нейропротекторный М2-фенотип – хотя предполагается, что существует множество промежуточных типов активированной микроглии [58]. Функциональный фенотип микроглии определяется сигналами микроокружения, в том числе медиаторами нервных и астроглиальных клеток, которые также реагируют на уровень повреждения, степень дисфункции, стадию воспалительного ответа ткани. Изменение функциональной активности микроглии также может быть связано с процессами старения мозга и развитием нейродегенерации, наблюдаемой при хронической гипергликемии и СД. Таким образом, являясь источником большого количества сигнальных соединений, микроглия может индуцировать или модулировать широкий спектр клеточных реакций [55, 56, 58].
Изменение функционального фенотипа микроглии тесно связано и с изменением ее метаболической активности. В качестве метаболических путей образования энергии наивная микроглия использует как гликолиз, так и окислительное фосфорилирование. Микроглия экспрессирует широкий набор переносчиков глюкозы на своей мембране: обнаружены мРНК и белки GLUT1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 13 – однако при провоспалительной стимуляции резко возрастает экспрессия именно GLUT1 [59]. Так, показано, что активированная липополисахаридом и INFγ микроглия приобретает М1-фенотип и демонстрирует высокий уровень экспрессии GLUT1, что свидетельствует о метаболическом перепрограммировании клеток в сторону анаэробного гликолиза [59]. Блокировка GLUT1 активированной микроглии существенно подавляла ее фагоцитарную активность, что прямо влияло на функциональную активность клеток. Предполагается, что в условиях острого недостатка О2 наблюдается гибель нейронов и астроцитов, тогда как микроглия еще сохраняет жизнеспособность – приобретает провоспалительный фенотип, переходит на гликолиз, зачищает от детрита и погибших клеток зону нейровоспаления. Степень активации микроглии определяется уровнем потребления энергетических субстратов: глюкозы, жирных кислот, глутамина, доступность которых существенно изменяется при СД. Учитывая, что СД и гипергликемия сопровождается нарушением усвоения энергетических субстратов клетками, а также нарушением функции микрососудистого русла, то микроглия в отсутствие повреждающего фактора уже оказывается в условиях, способствующих трансформации в провоспалительный фенотип. Показано, что микроглия стимулированная IL-4 в М2-фенотип снижает потребление глюкозы и выработку лактата, что свидетельствует о снижении потребности в анаболических реакциях микроглии [60]. Интересно, что глюкоза является не только метаболическим субстратом для клеток, но и опосредует сигнальную функцию, например, влияет на продукцию провоспалительных факторов. Так, продукция оксида азота (NO) микроглией сопряжена с потреблением НАДФН, который регенерируется из НАДФ+ прежде всего через гексозомонофосфатный шунт, использующий в качестве субстрата только глюкозу. Доступность глюкозы определяет интенсивность глиальной продукции NO, который реализует как адаптивные, так и патогенетические эффекты в очаге воспаления [61]. Таким образом, последствия метаболических нарушений, вызванные гипергликемией при СД, в ткани мозга могут влиять на запуск этапов воспалительного ответа.
Высокий уровень глюкозы оказывает негативное влияние на пролиферацию микроглиальных клеток [62], а также вызывает активацию микроглии [12, 63]. В условиях СД и хронической гипергликемии активность нейронов также существенно изменяется, в результате чего они выделяют стимуляторы микроглии [57]. Показано, что 24-часовое культивирование микроглии в среде с высоким содержанием глюкозы оказывает цитотоксический эффект за счет активации каспазы-1 и индукции апоптоза [64, 65]. Более длительная инкубация (12 суток) клеток микроглии человека в среде с высоким уровнем глюкозы вызывала изменения фенотипов микроглии, опосредуемых через ERK5-зависимый путь [66]. Одновременно с морфологическими изменениями микроглии в данных условиях происходит активация клеток, на что указывает экспрессия специфических маркеров, таких как Iba1 (Ionized calcium-binding adaptor molecule 1) и рецепторов CD11b, CD68 и MHC–II. Исследования in vitro показали, что высокие концентрации глюкозы (35 мМ) активируют микроглию и стимулируют секрецию провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (MCP-1), регулятор пролиферации микроглии M–CSF [67]. Инкубация микроглиальных клеток мыши BV2 в среде, имитирующей гипергликемию при СД, вызывает их активацию: усиленное образование АФК и синтез провоспалительных цитокинов и NO через активацию сигнальных путей p38 и JNK [68].
Гиперактивация микроглии в условиях гипергликемии проявляется увеличением экспрессии НАДФН-оксидазы, которая генерирует супероксидный анион и АФК [55], что в конечном счете проявляется увеличением продукции АФК и AGE-продуктов. М-1 микроглия экспрессирует также iNOS, синтезирующую NO [55]. Последний в присутствии супероксидного аниона может превращаться в пероксинитрит и дополнительно повреждать клетки, кроме того, NO потенцирует токсическое действие глутамата, тем самым усиливая нейротоксичность через NMDA-рецепторы [55]. Другим важным медиатором воспаления, продуцируемым M1-фенотипом микроглии, является матриксная металлопептидаза 12, способная повреждать матрикс нервной ткани [55].
АФК индуцируют дополнительную активацию микроглии через пути NF-κB и фосфорилирование внеклеточной сигнал-регулируемой киназы (ERK), в результате чего повышается секреция ими провоспалительных цитокинов. Показано, что модуляция активности микроглии при диабетической энцефалопатии может включать различные сигнальные пути, в том числе формирование инфламмасомы NLRP3, путь NF-κB, фракталкин/CX3CR1-путь, p38 MAPK, CD200/CD200R, AGEs/RAGE и Akt/mTOR и активацию пуринергической системы мозга [63, 67].
Важным фактором, активирующим микроглию, является АТФ, высвобождаемый из поврежденных клеток. Под действием АТФ через P2RY12 происходит функциональная трансформация микроглиальных клеток, приводящая к усилению миграционной активности клеток в направлении зоны повреждения [57]. Показано, что отдельные функции активированной микроглии также опосредованы активацией пуринергических рецепторов: фагоцитоз (P2RY6), пиноцитоз (P2RY4) или секреторную активность (P2RX4 и 7) [57]. Высокий уровень глюкозы вызывает транзиторное увеличение уровня внутриклеточного Са2+ в микроглии за счет активации пуринергических рецепторов: через P2X, обеспечивая транспорт Са2+ из интерстиция, а через P2Y2 – меньшее высвобождение Са2+ из внутриклеточных депо [69] и гиперэкспрессию механочувствительного катионного канала Piezo1 [63]. Последний увеличивает как приток Са2+ из окружающей среды, так и повышение уровня Са2+ в цитозоле за счет активации метаботропных пуринергических рецепторов P2Y [63]. Следовательно, метаболические нарушения в нервной ткани и изменение баланса продукции АТФ может существенно изменить пуринергическую регуляцию функций, в том числе и микроглиальных клеток.
Таким образом, развитие СД и связанные с ним метаболические нарушения оказывают широкий спектр влияний на функционирование микроглии. Так, на фоне гипергликемии происходят морфофункциональные изменения в микроглии и модификация секреторного фенотипа в сторону продукции провоспалительных факторов, что меняет адаптационный потенциал клеток и снижает устойчивость гомеостаза в ЦНС. Понимание механизмов активации и взаимодействия между глиальными клетками, формирование ими сигнального микроокружения нейронов может играть важную роль в понимании прогрессирования заболеваний и разработки методов их лечения [54, 58]. Поэтому поиск модуляторов функционального состояния микроглии может помочь в разработке новых методов коррекции нейропатии при СД.
Влияние гипергликемии на астроциты
Астроциты – наиболее распространенные глиальные клетки в мозге, которые отвечают за гомеостаз нейромедиаторов и ионный баланс, защиту от окислительного стресса и репарацию ткани, регуляцию работы синапсов и синаптогенеза [70, 71]. Астроциты являются структурными элементами гематоэнцефалического барьера, а значит, выполняют важную для мозга барьерную функцию [30, 72, 73]. Кроме того, астроциты, выступая в качестве депо гликогена, являются «энергетическими станциями» нервной ткани и «аварийным резервом» энергетических субстратов в условиях патологического процесса в ЦНС, например, при ишемии. Они поглощают питательные вещества из крови, метаболизируют их и доставляют в активно работающие синапсы для поддержания функций нейронов [72, 74]. Астроциты за счет множества плотных контактов образуют синцитий, посредством которого происходит распространение «кальциевых волн», что указывает на возможность передачи сигналов в мозге нейрон-независимым образом [75].
Особенности морфологии и локализации астроцитов позволяют им реагировать на изменения микроокружения и взаимодействовать с нейронами, обеспечивая их функционирование при разной степени активации [70, 71]. В головном мозге глюкоза поступает в астроциты через переносчик GLUT1 и либо участвует в гликолизе, либо запасается в форме гликогена [70, 76, 77]. Низкая активность прогликолитического фермента 6-фосфофруктокиназы-2,6-бисфосфатазы-3 (PFKFB3) в нейронах способствует окислению глюкозо-6-фосфата по пентозофосфатному пути, что способствует антиоксидантной защите [74]. А высокая активность PFKFB3 в астроцитах позволяет производить и высвобождать лактат, который поглощается нейронами, использующими его в качестве окисляемого субстрата [74]. Гликолиз в астроцитах активируется в соответствии с возбуждением нейронов и приводит к увеличению высвобождения лактата из астроцитов [78]. Помимо обеспечения лактата, астроцитарный гликолиз играет важную роль в нейропротекции. Среди второстепенных путей метаболизма глюкозы интерес исследователей привлекает поток глюкозы к пентозофосфатному пути, основному шунтирующему пути гликолиза. Фактически активность пентозофосфатного пути в астроцитах в пять-семь раз выше, чем в нейронах. Астроцитарный пентозофосфатный путь играет ключевую роль в защите нейронов от окислительного стресса, обеспечивая нейроны восстановленной формой глутатиона, который необходим для устранения АФК [78].
Между астроцитами и нейронами обнаружена метаболическая система взаимодействия, называемая астроцит-нейронным лактатным челноком или шаттлом (ANLS). В условиях избытка глюкозы астроциты активно ее поглощают и пополняют запасы гликогена, а при ее недостатке запасы гликогена быстро истощаются [77]. Быстрое расщепление гликогена с образованием лактата и функционирование ANLS необходимо при повышенной активности нейронов, а также в условиях низкого уровня глюкозы [77]. Астроциты, таким образом, выступают в роли депо энергетических субстратов для обеспечения потребностей нейронов [71, 76].
О важности метаболической функции астроцитов в мозге свидетельствуют данные электронной микроскопии у мышей с СД, где установлено изменение морфологии астроцитов, включенных в нейроваскулярную единицу мелких сосудов мозга [79]. В экспериментах in vitro на клетках, культивируемых в среде с высоким содержанием глюкозы, и на срезах мозга крыс с СД показано, что эти факторы снижают взаимодействие между астроцитами через щелевые контакты [80]. In vitro высокие уровни глюкозы (30 ммоль/л) приводили к изменениям в морфологии астроцитов и экспрессии белков цитоскелета, таких как GFAP и виментин. Уровни IL-6, IL-1β, IL-4, TNF-α и VEGF повышались, тогда как уровень трансформирующего фактора роста-β оставался неизменным [81]. Состояние астроцитов решающим образом определяет целостность и функциональное состояние гематоэнцефалического барьера: изменение реактивности астроцитов опосредует проницаемость этого барьера и влияет на переход острых состояний головного мозга в хронические [72, 82].
В экспериментах показано, что высокий уровень глюкозы увеличивает продукцию АФК, экспрессию провоспалительных цитокинов и клеточный апоптоз в первичных культурах астроцитов [81, 83, 84], что способствует развитию хронического нейровоспаления и прогрессии диабетической церебральной нейропатии. Хроническая гипергликемия вызывает изменения секреции VEGF, влияя на миграцию, пролиферацию и ангиогенез эндотелиальных клеток, изменяя барьерные функции сосудистой стенки. Нарушение функции гематоэнцефалического барьера на фоне гипергликемии при СД связано с усилением дыхания в перицитах и астроцитах, в результате чего развивается окислительный стресс и активируется продукция АФК [85]. Важно отметить, что дыхательная цепь митохондрий собрана в нейронах плотнее, чем в астроцитах, поэтому биоэнергетическая эффективность митохондрий выше в нейронах, а производство АФК митохондриальным комплексом I очень высоко в астроцитах [74]. В свою очередь АФК стимулирует продукцию провоспалительных цитокинов, активацию транскрипционного фактора NF-κB, что дополнительно способствует увеличению проницаемости гематоэнцефалического барьера [30]. В результате помимо стимуляции воспалительного ответа происходит облегчение поступления высокой концентрации глюкозы в ЦНС [30]. Одним из ключевых факторов астроцитарного «секретома» является фактор VEGF, способствующий снижению барьерных функций гематоэнцефалического барьера, поскольку новообразованные кровеносные сосуды обладают повышенной проницаемостью [73]. В условиях высокого содержания глюкозы происходит снижение астроцитарной экспрессии и продукции коннексина Cx43 и увеличение секреции VEGF, что показано для коры головного мозга крысы [73].
Важной физиологической функцией астроцитов является регуляция ионного гомеостаза, в частности, уровня внеклеточного K+ [86]. Накопление K+ во внеклеточном пространстве может привести к устойчивой деполяризации и повышенной возбудимости нейронов. В свою очередь астроциты могут либо поглощать избыточный K+ с помощью Na+/K+-насоса, Na+/K+/Cl– котранспортера или Kir4.1, калиевых каналов входящего выпрямления, либо удаления избытка K+ через плотные контакты, образованные коннексинами Cx43 и Cx30 [86]. Гипергликемия при СД способствует снижению продукции коннексина Cx43, что снижает возможности астроцитов поддерживать ионный гомеостаз микроокружения нейронов [73].
Другой важной функцией, в которой участвуют астроциты, является регуляция объема внеклеточного пространства и осмолярности жидкости посредством аквапорина 4 (AQP4), канала, опосредующего трансмембранные перемещения воды в зависимости от осмотических градиентов, и экспрессируемого астроцитами в основном в перисинаптических контактах и периваскулярных астроцитарных ножках [86]. Регуляция потока воды вблизи синапсов и кровеносных сосудов может быть связана с гомеостазом К+.
Астроциты, кроме того, контролируют концентрацию медиаторов в синаптической щели, влияя на баланс процессов возбуждения и торможения, а также выполняют буферную функцию в отношении нейромедиаторов за счет работы метаболического цикла синтеза глутамин-глутамат-ГАМК [86].
В многочисленных экспериментах по моделированию СД показано, что гипергликемия пагубно сказывается на функционировании астроцитов. Так, в экспериментах на астроцитах, выделенных из мозга новорожденных крыс, показано, что культивирование в среде с высоким уровнем глюкозы (25 мМ) вызывает повышение поглощения аналога глюкозы и не влияет на экспрессию GLUT1 на мембране [76]. В среде с высоким содержанием глюкозы метаболизм астроцитов изменяется в сторону увеличения запасов гликогена [76]. Но вместе с тем для «гипергликемических» астроцитов показано снижение метаболической эффективности и емкости клеток: высокий уровень глюкозы снижал уровень максимального дыхания астроцитов и их гликолитическую резервную способность, оцениваемую с помощью митохондриального стресс-теста Seahorse и гликолитического стресс-теста [76]. Таким образом, астроциты, культивируемые в растворе с высоким содержанием глюкозы, оказываются более уязвимы к периодам депривации глюкозы [76]. Кроме того, высокий уровень глюкозы оказывает негативные осмотические эффекты на работу нервной ткани. Показано, что воздействие высокого уровня глюкозы увеличивает содержание и активность Na+/K+/Cl– котранспортера и Na+/H+-обменника 1 в клетках гематоэнцефалического барьера, что в случае ишемических событий на фоне гипергликемии будет усиливать формирование отека, транспорт ионов и воды и вызывать набухание астроцитов [87].
В экспериментах in vitro высокий уровень глюкозы (25 мМ) вызывал остановку клеточного цикла первичных астроцитов: было показано снижение экспрессии циклинов D1 и D3, а также ингибирование пролиферации и миграции первичных астроцитов [88]. Высокий уровень глюкозы усиливал гликолитический метаболизм, повышал содержание АТФ и гликогена в первичных астроцитах [88]. Кроме того, высокий уровень глюкозы активирует сигнальный путь AMP-активируемой протеинкиназы (AMPK) в астроцитах [88]. Таким образом, гипергликемия оказывает влияние на энергетический метаболизм и функциональный фенотип астроцитов, что может являться потенциальным механизмом, лежащим в основе развития диабетической церебральной нейропатии.
Астроциты и нейроны различаются по регуляции гликолитических ферментов и по организации их митохондриальной дыхательной цепи [89]. Образующиеся в митохондриях астроцитов АФК регулируют утилизацию глюкозы через пентозофосфатный путь и метаболизм глутатиона, который модулирует окислительно-восстановительный статус и, возможно, определяет выживаемость нейронов [89]. Кроме того, астроциты играют важную роль в защите нейронов от эксайтотоксичности, поскольку способны поглощать глутамат и выступать в качестве депо ионов К+, поступающих в клетку через Kir4.1, калиевые каналы входящего выпрямления [90]. Культивирование астроцитов условиях гипергликемии ведет к снижению содержания белков калиевых каналов Kir4.1 и нарушению поглощения калия и глутамата [68]. Кроме того, показано, что экспрессируемая астроцитами miR-205, уровень которой возрастает в 6 раз при инкубации с высоким уровнем глюкозы по сравнению с нормой, угнетает экспрессию мРНК Kir4.1 [90].
На вовлеченность астроцитов в нейровоспаление и способность влиять на другие клетки головного мозга указывают результаты немногочисленных исследований. Так, в работе Nardin с соавт. на гипергликемических крысах показано снижение экспрессии S100B, Са2+-связывающего белка астроцитов, регулирующего образование цитоскелета и клеточный цикл [91]. Увеличение внеклеточного уровня S100B является маркером активации глии при состояниях, связанных с повреждением головного мозга: считается, что в зависимости от концентрации S100B оказывает трофическое или апоптотическое действие на нейроны. Другим показателем изменения активности астроцитов в условиях высокого уровня глюкозы в среде является пониженное содержание глиального фибриллярного кислого белка и глутатиона, снижение скорости пролиферации клеток. В свою очередь такие изменения активности астроцитов могут влиять и на выживание нейронов, что отчасти объясняет развитие когнитивного дефицита и других нарушений работы нервной системы, наблюдаемых у пациентов с СД [91]. Ранние работы Kelleher с соавт. продемонстрировали, что астроциты могут выполнять защитную роль при инкубации в среде с высоким содержанием глюкозы (15–30 ммоль/л) за счет выделения в окружающую среду фермента лактатдегидрогеназы, это позволяет утилизировать избыточную глюкозу и синтезировать АТФ [92].
Поскольку астроциты выступают источником метаболических субстратов и АТФ, в том числе в области синаптических контактов, а функциональная активность этих глиальных клеток также нарушается в условиях развития гипергликемии, то важно понимать, какую роль они играют в обеспечении проводниковой функции нейронов и работе синапсов в ЦНС.
Рис. 2. Влияние гипергликемии на взаимодействие нейронов, астроцитов и микроглии, приводящее к нейровоспалению и нейродегенерации.
Заключение
Гипергликемия, сопровождающая развитие СД, нарушает трофическую функцию кровеносных сосудов, в том числе церебральных, меняет гемостазический баланс крови, а также является основным повреждающим фактором, запускающим гибель нервных клеток, повышая реактивность глии (рис. 2). Адаптивное изменение деятельности астроцитов на молекулярном, клеточном и функциональном уровнях, так называемый астроглиоз, направлен на синтез и высвобождение большого количества факторов: нейротрофинов, провоспалительных цитокинов, NO и других сигнальных молекул, имеющих как адаптивное, так и патогенетическое значение для выживаемости нейронов и регуляции активности микроглии. В условиях высокой концентрации глюкозы микроглия также приобретает реактивный фенотип и продуцирует широкий спектр провоспалительных факторов, что дополнительно усиливает нейровоспаление, вовлекая все большее число глиальных клеток в продукцию провоспалительных и нейротоксических факторов, вызывающих нейрональную дисфункцию. Нарушение метаболизма глюкозы ведет к изменению баланса АТФ, аденозина и других нуклеотидов, которые через пуринергические рецепторы нейронов, астроцитов и клетках микроглии усиливают развитие нейровоспаления и дальнейшее поражение головного мозга. Поэтому исследование влияния гипергликемии и роли астроцитов и микроглии в патогенезе нейровоспаления и нейродегенерации, изучение взаимодействия между глиальными клетками и нейронами является актуальной и важной задачей фундаментальной физиологии и медицины. Поиск ключевых путей активации астроцитов и микроглии, способов модуляции их функциональной активности и коррекции последствий метаболических нарушений, вызванных гипергликемией, могут рассматриваться в качестве основных терапевтических стратегий, направленных на эффективное купирование и снижение тяжести последствий поражений мозга в результате ишемии, травмы или нейродегенеративных заболеваний.
Вклады авторов
Идея написания обзора (М. П. М.), поиск и анализ литературных источников на тему обзора (М. П. М., И. Г. С., Л. Р. Г.), написание и редактирование манускрипта (М. П. М., И. Г. С., Л. Р. Г.), окончательный дизайн и одобрение финальной версии (М. П. М, и Л. Р. Г.).
Финансирование работы
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета Института физиологии Российского национального исследовательского университета им. Н. И. Пирогова и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
Соблюдение этических стандартов
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных.
Конфликт интересов
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
М. П. Морозова
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
Автор, ответственный за переписку.
Email: mormasha@gmail.com
Институт физиологии
Россия, МоскваИ. Г. Савинкова
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
Email: mormasha@gmail.com
Институт физиологии
Россия, МоскваЛ. Р. Горбачева
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Email: mormasha@gmail.com
Институт физиологии
Россия, Москва; МоскваСписок литературы
- Дедов ИИ, Шестакова МВ, Майоров АЮ, Мокрышева НГ, Андреева ЕН, Безлепкина ОБ, Петеркова ВА, Артемова ЕВ, Бардюгов ПС, Бешлиева ДД, Бондаренко ОН, Бурумкулова ФФ, Викулова ОК, Волеводз НН, Галстян ГР, Гомова ИС, Григорян ОР, Джемилова ЗН, Ибрагимова ЛИ, Калашников ВЮ, Кононенко ИВ, Кураева ТЛ, Лаптев ДН, Липатов ДВ, Мельникова ОГ, Михина МС, Мичурова МС, Мотовилин ОГ, Никонова ТВ, Роживанов РВ, Смирнова ОМ, Старостина ЕГ, Суркова ЕВ, Сухарева ОЮ, Тиселько АВ, Токмакова АЮ, Шамхалова МШ, Шестакова ЕА, Ярек-Мартынова ИЯ, Ярославцева МВ (2023) Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. (ред) ИИ Дедов, МВ Шестакова, АЮ Майоров 11-й вып Сахарный диабет 26(2S): 1–157. [Dedov I, Shestakova M, Mayorov A, Mokrysheva N, Andreeva E, Bezlepkina O, Peterkova V, Artemova E, Bardiugov P, Beshlieva D, Bondarenko O, Burumkulova F, Vikulova O, Volevodz N, Galstyan G, Gomova I, Grigoryan O, Dzhemilova Z, Ibragimova L, Kalashnikov V, Kononenko I, Kuraeva T, Laptev D, Lipatov D, Melnikova O, Mikhina M, Michurova M, Motovilin O, Nikonova T, Rozhivanov R, Smirnova O, Starostina E, Surkova E, Sukhareva O, Tiselko A, Tokmakova A, Shamkhalova M, Shestakova E, Jarek-Martynowa I, Yaroslavceva M (2023) Standards of Specialized Diabetes Care (Eds) Dedov II, Shestakova MV, Mayorov AYu 11th Edit Diabetes mellitus 26(2S): 1–157. (In Russ)]. https://doi.org/10.14341/DM13042
- Luna R, Talanki Manjunatha R, Bollu B, Jhaveri S, Avanthika C, Reddy N, Saha T, Gandhi F (2021) A Comprehensive Review of Neuronal Changes in Diabetics. Cureus 13(10): e19142. https://doi.org/10.7759/cureus.19142
- Rajchgot T, Thomas SC, Wang JC, Ahmadi M, Balood M, Crosson T, Dias JP, Couture R, Claing A, Talbot S (2019) Neurons and Microglia; A Sickly-Sweet Duo in Diabetic Pain Neuropathy. Front Neurosci 13: 25. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00025
- Volpe CMO, Villar-Delfino PH, Dos Anjos PMF, Nogueira-Machado JA (2018) Cellular death, reactive oxygen species (ROS) and diabetic complications. Cell Death Dis 9(2): 119. https://doi.org/10.1038/s41419–017–0135-z
- Brownlee M (2001) Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature 414: 813–820. https://doi.org/10.1038/414813a
- Попыхова ЭБ, Степанова ТВ, Лагутина ДД, Кириязи ТС, Иванов АН (2020) Роль сахарного диабета в возникновении и развитии эндотелиальной дисфункции. Пробл эндокринол 66(1): 47–55. [Popykhova EB, Stepanova TB, Lagutina DD, Kirijazi TS, Ivanov AN (2020) The role of diabetes mellitus in the occurrence and development of endothelial dysfunction. Probl Endocrinol 66(1): 47–55. (In Russ)]. https://doi.org/10.14341/probl12212
- Yan LJ (2014) Pathogenesis of chronic hyperglycemia: from reductive stress to oxidative stress. J Diabetes Res 2014: 137919. https://doi.org/10.1155/2014/137919
- Kohnert KD, Freyse EJ, Salzsieder E (2012) Glycaemic variability and pancreatic β-cell dysfunction. Curr Diabetes Rev 8(5): 345–354. https://doi.org/10.2174/157339912802083513
- Erekat NS (2022) Programmed Cell Death in Diabetic Nephropathy: A Review of Apoptosis, Autophagy, and Necroptosis. Med Sci Monit 28: e937766. https://doi.org/10.12659/MSM.937766
- Shen J, San W, Zheng Y, Zhang S, Cao D, Chen Y, Meng G (2023) Different types of cell death in diabetic endothelial dysfunction. Biomed Pharmacother 168: 115802. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.115802
- Ke D, Zhang Z, Liu J, Chen P, Li J, Sun X, Chu Y, Li L (2023) Ferroptosis, necroptosis and cuproptosis: Novel forms of regulated cell death in diabetic cardiomyopathy. Front Cardiovasc Med 10: 1135723. https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1135723
- Yang L, Tong Y, Chen PF, Miao S, Zhou RY (2020) Neuroprotection of dihydrotestosterone via suppression of the toll-like receptor 4/nuclear factor-kappa B signaling pathway in high glucose-induced BV-2 microglia inflammatory responses. Neuroreport 31(2): 139–147. https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001385
- Zhang T, Ouyang H, Mei X, Lu B, Yu Z, Chen K, Wang Z, Ji L (2019) Erianin alleviates diabetic retinopathy by reducing retinal inflammation initiated by microglial cells via inhibiting hyperglycemia-mediated ERK1/2-NF-κB signaling pathway. FASEB J 33(11): 11776–11790. https://doi.org/10.1096/fj.201802614RRR
- Mei X, Zhou L, Zhang T, Lu B, Sheng Y, Ji L (2018) Chlorogenic acid attenuates diabetic retinopathy by reducing VEGF expression and inhibiting VEGF-mediated retinal neoangiogenesis. Vascul Pharmacol 101: 29–37. https://doi.org/10.1016/j.vph.2017.11.002
- Yu Z, Zhang T, Gong C, Sheng Y, Lu B, Zhou L, Ji L, Wang Z (2016) Erianin inhibits high glucose-induced retinal angiogenesis via blocking ERK1/2-regulated HIF-1α-VEGF/VEGFR2 signaling pathway. Sci Rep 6: 34306. https://doi.org/10.1038/srep34306
- Lovestone S, Smith U (2014) Advanced glycation end products, dementia, and diabetes. Proc Natl Acad Sci U S A 111(13): 4743–4744. https://doi.org/10.1073/pnas.1402277111
- Kaur G, Harris NR (2023) Endothelial glycocalyx in retina, hyperglycemia, and diabetic retinopathy. Am J Physiol Cell Physiol 324(5): C1061–C1077. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00188.2022
- Ikonomidis I, Pavlidis G, Lambadiari V, Kousathana F, Varoudi M, Spanoudi F, Maratou E, Parissis J, Triantafyllidi H, Dimitriadis G, Lekakis J (2017) Early detection of left ventricular dysfunction in first-degree relatives of diabetic patients by myocardial deformation imaging: The role of endothelial glycocalyx damage. Int J Cardiol 233: 105–112. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.01.056
- Melani A, Turchi D, Vannucchi MG, Cipriani S, Gianfriddo M, Pedata F (2005) ATP extracellular concentrations are increased in the rat striatum during in vivo ischemia. Neurochem Int 47(6): 442–448. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2005.05.014
- Sheetz MJ, King GL (2002) Molecular understanding of hyperglycemia's adverse effects for diabetic complications. JAMA 288(20): 2579–2588. https://doi.org/10.1001/jama.288.20.2579
- Vlassara H, Striker GE (2013) Advanced glycation endproducts in diabetes and diabetic complications. Endocrinol Metab Clin North Am 42(4): 697–719. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2013.07.005
- Obrosova IG, Drel VR, Pacher P, Ilnytska O, Wang ZQ, Stevens MJ, Yorek MA (2005) Oxidative-nitrosative stress and poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) activation in experimental diabetic neuropathy: the relation is revisited. Diabetes 54(12): 3435–3441. https://doi.org/10.2337/diabetes.54.12.3435
- Худякова НВ, Иванов НВ, Пчелин ИЮ, Шишкин АН, Ворохобина НВ, Байрашева ВК, Василькова ОН (2019) Диабетическая нейропатия: молекулярные механизмы развития и возможности патогенетической терапии. Juvenis scientia 4: 8–12. [Khudjakova NV, Ivanov NV, Pchelin IYu, Shishkin AN, Vorokhobina NV, Bairasheva VK, Vasilkova ON (2019) Diabetic neuropathy: molecular mechanisms of development and possibilities of pathogenetic therapy. Juvenis scientia 4: 8–12. (In Russ)].
- Sun J, Chen L, Chen R, Lou Q, Wang H (2021) Poly(ADP-ribose) Polymerase-1: An Update on Its Role in Diabetic Retinopathy. Discov Med 32(165): 13–22.
- Pignalosa FC, Desiderio A, Mirra P, Nigro C, Perruolo G, Ulianich L, Formisano P, Beguinot F, Miele C, Napoli R, Fiory F (2021). Diabetes and Cognitive Impairment: A Role for Glucotoxicity and Dopaminergic Dysfunction. Int J Mol Sci 22(22): 12366. https://doi.org/10.3390/ijms222212366
- Harding JL, Pavkov ME, Magliano DJ, Shaw JE, Gregg EW (2019) Global trends in diabetes complications: a review of current evidence. Diabetologia 62(1): 3–16. https://doi.org/10.1007/s00125–018–4711–2
- Ito F, Sono Y, Ito T (2019) Measurement and Clinical Significance of Lipid Peroxidation as a Biomarker of Oxidative Stress: Oxidative Stress in Diabetes, Atherosclerosis, and Chronic Inflammation. Antioxidants (Basel) 8(3): 72. https://doi.org/10.3390/antiox8030072
- Kamada H, Yu F, Nito C, Chan PH (2007) Influence of hyperglycemia on oxidative stress and matrix metalloproteinase-9 activation after focal cerebral ischemia/reperfusion in rats: relation to blood-brain barrier dysfunction. Stroke 38(3): 1044–1049. https://doi.org/10.1161/01.STR.0000258041.75739.cb
- Muriach M, Flores-Bellver M, Romero FJ, Barcia JM (2014) Diabetes and the brain: oxidative stress, inflammation, and autophagy. Oxid Med Cell Longev 2014: 102158. https://doi.org/10.1155/2014/102158
- Liyanagamage DSNK, Martinus RD (2020) Role of Mitochondrial Stress Protein HSP60 in Diabetes-Induced Neuroinflammation. Mediators Inflamm 2020: 8073516. https://doi.org/10.1155/2020/8073516
- Vincent AM, Brownlee M, Russell JW (2002). Oxidative stress and programmed cell death in diabetic neuropathy. Ann N Y Acad Sci 959: 368–383. https://doi.org: 10.1111/j.1749–6632.2002.tb02108.x
- Volpe CMO, Villar-Delfino PH, Dos Anjos PMF, Nogueira-Machado JA (2018) Cellular death, reactive oxygen species (ROS) and diabetic complications. Cell Death Dis 9(2): 119. https://doi.org: 10.1038/s41419–017–0135-z
- Рыбакова ЛП, Алексанян ЛР, Капустин СИ, Бессмельцев СС (2020) Окислительно-антиокислительная система организма человека, роль в развитии патологического процесса и его коррекции. Вестн гематол 18(4): 26–37. [Rybakova LP, Aleksanjan LR, Kapustin SI, Bessmeltsev SS (2020) The oxidative-antioxidative system of the human body, its role in the development of the pathological process and its correction. Bull Hematol 18(4): 26–37. (In Russ)].
- Sasaki-Hamada S, Sanai E, Kanemaru M, Kamanaka G, Oka JI (2022) Long-term exposure to high glucose induces changes in the expression of AMPA receptor subunits and glutamate transmission in primary cultured cortical neurons. Biochem Biophys Res Commun 589: 48–54. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.11.108
- Li W, Roy Choudhury G, Winters A, Prah J, Lin W, Liu R, Yang SH (2018) Hyperglycemia Alters Astrocyte Metabolism and Inhibits Astrocyte Proliferation. Aging Dis 9(4): 674–684. https://doi.org/10.14336/AD.2017.1208
- Seaquist ER (2010) The final frontier: how does diabetes affect the brain? Diabetes 59(1): 4–5. https://doi.org: 10.2337/db09–1600
- Klein JP, Waxman SG (2003) The brain in diabetes: molecular changes in neurons and their implications for end-organ damage. Lancet Neurol 2(9): 548–554. https://doi.org: 10.1016/s1474–4422(03)00503–9
- Wang C, Li J, Zhao S, Huang L (2020). Diabetic encephalopathy causes the imbalance of neural activities between hippocampal glutamatergic neurons and GABAergic neurons in mice. Brain Res 1742: 146863. https://doi.org: 10.1016/j.brainres.2020.146863
- Yonamine CY, Michalani MLE, Moreira RJ, Machado UF (2023) Glucose Transport and Utilization in the Hippocampus: From Neurophysiology to Diabetes-Related Development of Dementia. Int J Mol Sci 24(22): 16480. https://doi.org/10.3390/ijms242216480
- Yun JH, Lee DH, Jeong HS, Kim HS, Ye SK, Cho CH (2021) STAT3 activation in microglia exacerbates hippocampal neuronal apoptosis in diabetic brains. J Cell Physiol 236(10): 7058–7070. https://doi.org/10.1002/jcp.30373
- Deng J, Chen L, Ding K, Wang Y (2021) Acute glucose fluctuation induces inflammation and neurons apoptosis in hippocampal tissues of diabetic rats. J Cell Biochem 122(9): 1239–1247. https://doi.org/10.1002/jcb.29523
- Foghi K, Ahmadpour S (2013). Diabetes mellitus type 1 and neuronal degeneration in ventral and dorsal hippocampus. Iran J Pathol 9(1): 33–37.
- Sadeghi A, Hami J, Razavi S, Esfandiary E, Hejazi (2016) The Effect of Diabetes Mellitus on Apoptosis in Hippocampus: Cellular and Molecular Aspects. Int J Prev Med 7: 57. https://doi.org/10.4103/2008–7802.178531
- Sebastian MJ, Khan SK, Pappachan JM, Jeeyavudeen MS (2023). Diabetes and cognitive function: An evidence-based current perspective. World J Diabetes 14(2): 92–109. https://doi.org/10.4239/wjd.v14.i2.92
- Ripoli C, Spinelli M, Natale F, Fusco S, Grassi C (2020) Glucose Overload Inhibits Glutamatergic Synaptic Transmission: A Novel Role for CREB-Mediated Regulation of Synaptotagmins 2 and 4. Front Cell Dev Biol 8: 810. https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00810
- Ho N, Sommers MS, Lucki I (2013) Effects of diabetes on hippocampal neurogenesis: links to cognition and depression. Neurosci Biobehav Rev 37(8): 1346–1362. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.03.010
- Guyot LL, Diaz FG, O’Regan MH, Song D, Phillis JW (2001) The effect of streptozotocin-induced diabetes on the release of excitotoxic and other amino acids from the ischemic rat cerebral cortex. Neurosurgery 48(2): 385–391. https://doi.org/10.1097/00006123–200102000–00030
- Baptista FI, Gaspar JM, Cristóvão A, Santos PF, Köfalvi A, Ambrósio AF (2011) Diabetes induces early transient changes in the content of vesicular transporters and no major effects in neurotransmitter release in hippocampus and retina. Brain Res 1383: 257–269. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2011.01.071
- Ramakrishnan R, Kempuraj D, Prabhakaran K, Jayakumar AR, Devi RS, Suthanthirarajan N, Namasivayam A (2005) A short-term diabetes induced changes of catecholamines and p38-MAPK in discrete areas of rat brain. Life Sci 77(15): 1825–1835. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2004.12.038
- Yamato T, Misumi Y, Yamasaki S, Kino M, Aomine M (2004) Diabetes mellitus decreases hippocampal release of neurotransmitters: an in vivo microdialysis study of awake, freely moving rats. Diabetes Nutr Metab 17: 128–136.
- Sherin A, Anu J, Peeyush KT, Smijin S, Anitha M, Roshni BT, Paulose CS (2012) Cholinergic and GABAergic receptor functional deficit in the hippocampus of insulin-induced hypoglycemic and streptozotocin-induced diabetic rats. Neuroscience 202: 69–76. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.11.058
- Liu J, Feng L, Ma D, Zhang M, Gu J, Wang S, Fu Q, Song Y, Lan Z, Qu R, Ma S (2013) Neuroprotective effect of paeonol on cognition deficits of diabetic encephalopathy in streptozotocin-induced diabetic rat. Neurosci Lett 549: 63–68. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2013.06.002
- Jing YH, Chen KH, Kuo PC, Pao CC, Chen JK (2013) Neurodegeneration in streptozotocin-induced diabetic rats is attenuated by treatment with resveratrol. Neuroendocrinology 98(2): 116–127. https://doi.org/10.1159/000350435
- Borst K, Dumas AA, Prinz M (2021) Microglia: Immune and non-immune functions. Immunity 54(10): 2194–2208. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.09.014
- Colonna M, Butovsky O (2017) Microglia Function in the Central Nervous System During Health and Neurodegeneration. Annu Rev Immunol 35: 441–468. https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-051116–052358
- Liu Y, Li M, Zhang Z, Ye Y, Zhou J (2018) Role of microglia-neuron interactions in diabetic encephalopathy. Ageing Res Rev 42: 28–39. https://doi.org/10.1016/j.arr.2017.12.005
- Gómez Morillas A, Besson VC, Lerouet D (2021) Microglia and Neuroinflammation: What Place for P2RY12? Int J Mol Sci 22(4): 1636. https://doi.org/10.3390/ijms22041636
- Kwon HS, Koh SH (2020) Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes. Transl Neurodegener 9(1): 42. https://doi.org/10.1186/s40035–020–00221–2
- Wang L, Pavlou S, Du X, Bhuckory M, Xu H, Chen M (2019) Glucose transporter 1 critically controls microglial activation through facilitating glycolysis. Mol Neurodegener 14(1): 2. https://doi.org/10.1186/s13024–019–0305–9
- Orihuela R, McPherson CA, Harry GJ (2016) Microglial M1/M2 polarization and metabolic states. Br J Pharmacol 173(4): 649–665. https://doi.org/10.1111/bph.13139
- Castillo E, Mocanu E, Uruk G, Swanson RA (2021) Glucose availability limits microglial nitric oxide production. J Neurochem 159(6): 1008–1015. https://doi.org/10.1111/jnc.15522
- Baptista FI, Aveleira CA, Castilho ÁF, Ambrósio AF (2017) Elevated Glucose and Interleukin-1β Differentially Affect Retinal Microglial Cell Proliferation. Mediat Inflamm 2017: 4316316. https://doi.org/10.1155/2017/4316316
- Liu H, Bian W, Yang D, Yang M, Luo H (2021) Inhibiting the Piezo1 channel protects microglia from acute hyperglycaemia damage through the JNK1 and mTOR signalling pathways. Life Sci 264: 118667. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118667
- Wang LQ, Zhou HJ (2018) LncRNA MALAT1 promotes high glucose-induced inflammatory response of microglial cells via provoking MyD88/IRAK1/TRAF6 signaling. Sci Rep 8(1): 8346. https://doi.org/10.1038/s41598–018–26421–5
- Huang Z, Xie N, Illes P, Di Virgilio F, Ulrich H, Semyanov A, Verkhratsky A, Sperlagh B, Yu SG, Huang C, Tang Y (2021) From purines to purinergic signalling: molecular functions and human diseases. Signal Transduct Target Ther 6(1): 162. https://doi.org/10.1038/s41392–021–00553-z
- Chen C, Wu S, Hong Z, Chen X, Shan X, Fischbach S, Xiao X (2019) Chronic hyperglycemia regulates microglia polarization through ERK5. Aging (Albany NY) 11(2): 697–706. https://doi.org/10.18632/aging.101770
- Vargas-Soria M, García-Alloza M, Corraliza-Gómez M (2023) Effects of diabetes on microglial physiology: a systematic review of in vitro, preclinical and clinical studies. J Neuroinflammat 20(1): 57. https://doi.org/10.1186/s12974–023–02740-x
- Kongtawelert P, Kaewmool C, Phitak T, Phimphilai M, Pothacharoen P, Shwe TH (2022) Sesamin protects against neurotoxicity via inhibition of microglial activation under high glucose circumstances through modulating p38 and JNK signaling pathways. Sci Rep 12(1): 11296. https://doi.org/10.1038/s41598–022–15411–3
- Pereira Tde O, da Costa GN, Santiago AR, Ambrósio AF, dos Santos PF (2010) High glucose enhances intracellular Ca2+ responses triggered by purinergic stimulation in retinal neurons and microglia. Brain Res 1316: 129–138. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2009.12.034
- Chen Z, Yuan Z, Yang S, Zhu Y, Xue M, Zhang J, Leng L (2023) Brain Energy Metabolism: Astrocytes in Neurodegenerative Diseases. CNS Neurosci Ther 29(1): 24–36. https://doi.org/10.1111/cns.13982
- Souza DG, Almeida RF, Souza DO, Zimmer ER (2019) The astrocyte biochemistry. Semin Cell Dev Biol 95: 142–150. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2019.04.002
- Xiong XY, Tang Y, Yang QW (2022) Metabolic changes favor the activity and heterogeneity of reactive astrocytes. Trends Endocrinol Metab 33(6): 390–400. https://doi.org/10.1016/j.tem.2022.03.001
- Garvin J, Semenikhina M, Liu Q, Rarick K, Isaeva E, Levchenko V, Staruschenko A, Palygin O, Harder D, Cohen S (2022) Astrocytic responses to high glucose impair barrier formation in cerebral microvessel endothelial cells. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 322(6): R571–R580. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00315.2020
- Almeida A, Jimenez-Blasco D, Bolaños JP (2023) Cross-talk between energy and redox metabolism in astrocyte-neuron functional cooperation. Essays Biochem 67(1): 17–26. https://doi.org/10.1042/EBC20220075
- Verkhratsky A, Nedergaard M (2018) Physiology of Astroglia. Physiol Rev 98(1): 239–389. https://doi.org/10.1152/physrev.00042.2016
- Staricha K, Meyers N, Garvin J, Liu Q, Rarick K, Harder D, Cohen S (2020) Effect of high glucose condition on glucose metabolism in primary astrocytes. Brain Res 1732: 146702. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2020.146702
- Bastian C, Quinn J, Doherty C, Franke C, Faris A, Brunet S, Baltan S (2019) Role of Brain Glycogen During Ischemia, Aging and Cell-to-Cell Interactions. Adv Neurobiol 23: 347–361. https://doi.org/10.1007/978–3–030–27480–1_12
- Takahashi S (2021) Neuroprotective Function of High Glycolytic Activity in Astrocytes: Common Roles in Stroke and Neurodegenerative Diseases. Int J Mol Sci 22(12): 6568. https://doi.org/10.3390/ijms22126568
- Min LJ, Mogi M, Shudou M, Jing F, Tsukuda K, Ohshima K, Iwanami J, Horiuchi M (2012) Peroxisome proliferator-activated receptor-γ activation with angiotensin II type 1 receptor blockade is pivotal for the prevention of blood-brain barrier impairment and cognitive decline in type 2 diabetic mice. Hypertension 59(5): 1079–1088. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.192401
- Gandhi GK, Ball KK, Cruz NF, Dienel GA (2010) Hyperglycaemia and diabetes impair gap junctional communication among astrocytes. ASN Neuro 2(2): e00030. https://doi.org/10.1042/AN20090048
- Wang J, Li G, Wang Z, Zhang X, Yao L, Wang F, Liu S, Yin J, Ling EA, Wang L, Hao A (2012) High glucose-induced expression of inflammatory cytokines and reactive oxygen species in cultured astrocytes. Neuroscience 202: 58–68. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.11.062
- McConnell HL, Li Z, Woltjer RL, Mishra A (2019) Astrocyte dysfunction and neurovascular impairment in neurological disorders: correlation or causation? Neurochem Int 128: 70–84. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2019.04.005
- Chistyakov DV, Goriainov SV, Astakhova AA, Sergeeva MG (2021) High Glucose Shifts the Oxylipin Profiles in the Astrocytes towards Pro-Inflammatory States. Metabolites 11(5): 311. https://doi.org/10.3390/metabo11050311
- Abdyeva A, Kurtova E, Savinkova I, Galkov M, Gorbacheva L (2024) Long-Term Exposure of Cultured Astrocytes to High Glucose Impact on Their LPS-Induced Activation. Int J Mol Sci 25(2): 1122. https://doi.org/10.3390/ijms25021122
- Li W, Roy Choudhury G, Winters A, Prah J, Lin W, Liu R, Yang SH (2018) Hyperglycemia Alters Astrocyte Metabolism and Inhibits Astrocyte Proliferation. Aging Dis 9(4): 674–684. https://doi.org/10.14336/AD.2017.1208
- Nikolic L, Nobili P, Shen W, Audinat E (2020) Role of astrocyte purinergic signaling in epilepsy. Glia 68(9): 1677–1691. https://doi.org/ 10.1002/glia.23747
- Klug NR, Chechneva OV, Hung BY, O'Donnell ME (2021) High glucose-induced effects on Na+-K+-2Cl– cotransport and Na+/H+ exchange of blood-brain barrier endothelial cells: involvement of SGK1, PKCβII, and SPAK/OSR1. Am J Physiol Cell Physiol 320(4): C619–C634. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00177.2019
- Liu W, Zhou Y, Liang R, Zhang Y (2019) Inhibition of cyclin-dependent kinase 5 activity alleviates diabetes-related cognitive deficits. FASEB J 33(12): 14506–14515. https://doi.org/10.1096/fj.201901292R
- Vicente-Gutierrez C, Bonora N, Bobo-Jimenez V, Jimenez-Blasco D, Lopez-Fabuel I, Fernandez E, Josephine C, Bonvento G, Enriquez JA, Almeida A, Bolaños JP (2019) Astrocytic mitochondrial ROS modulate brain metabolism and mouse behaviour. Nat Metab 1(2): 201–211. https://doi.org/10.1038/s42255–018–0031–6
- Rivera-Aponte DE, Melnik-Martínez KV, Malpica-Nieves CJ, Tejeda-Bayron F, Méndez-González MP, Skatchkov SN, Eaton MJ (2020) Kir4.1 potassium channel regulation via microRNA-205 in astrocytes exposed to hyperglycemic conditions. Neuroreport 31(6): 450–455. https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000001427
- Nardin P, Tramontina F, Leite MC, Tramontina AC, Quincozes-Santos A, de Almeida LM, Battastini AM, Gottfried C, Gonçalves CA (2007) S100B content and secretion decrease in astrocytes cultured in high-glucose medium. Neurochem Int 50(5): 774–782. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2007.01.013
- Kelleher JA, Chan PH, Chan TY, Gregory GA (1993) Modification of hypoxia-induced injury in cultured rat astrocytes by high levels of glucose. Stroke 24(6): 855–863. https://doi.org/10.1161/01.str.24.6.855
Дополнительные файлы