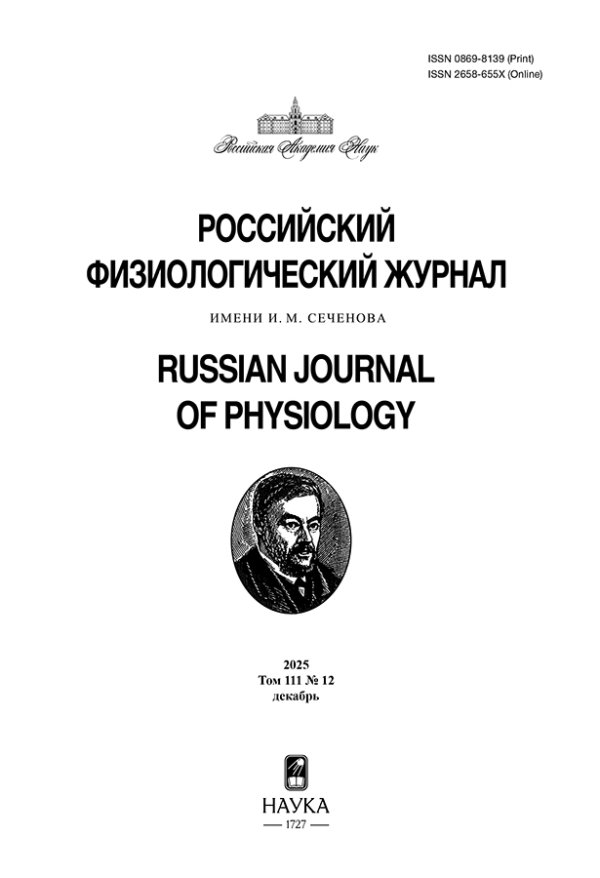Changes in the expression of apoptosis-associated proteins in the temporal cortex and hippocampus of rats during long-term kindling and their correction with minolexin
- Authors: Bazhanova E.D.1,2, Kozlov A.A.2, Sokolova Y.O.2, Suponin A.A.3, Demidova E.O.2
-
Affiliations:
- Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences
- The Federal State-Financed Institution Golikov Research Clinical Center of Toxicology under the Federal Medical Biological Agency
- Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of Russian Federation
- Issue: Vol 110, No 9 (2024)
- Pages: 1455-1474
- Section: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://medbiosci.ru/0869-8139/article/view/272718
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924090134
- EDN: https://elibrary.ru/AJDIYL
- ID: 272718
Cite item
Full Text
Abstract
Epilepsy is one of the most common and serious diseases of the brain, affecting more than 70 million people worldwide. Available anticonvulsants are able to suppress seizures in two thirds of patients, and in the remaining third of patients, epilepsy is considered drug-resistant and other types of treatment are required, such as surgery, which also does not always lead to positive results. Overcoming resistance is a complex task that requires an understanding of the biochemical pathways and general pathological processes underlying epilepsy, primarily apoptosis. The purpose of this work was to study the effect of the antibiotic minolexin on the levels of apoptosis and the expression of apoptosis-associated molecules (p53, Bcl-2, caspase-3 and caspase-8) in the temporal cortex, underlying white matter and hippocampus of Krushinsky-Molodkina rats with hereditary audiogenic epilepsy with long-term kindling. Materials and methods. We used Krushinsky-Molodkina rats at the age of 11 months, which were subjected to audiogenic stimulation and administered intraperitoneally with 1 ml of saline solution or the second-generation tetracycline series minolexin at a dose of 45 mg/kg, dissolved in saline solution for 14 days. The temporal lobe cortex and underlying white matter, the hippocampus, were examined. Apoptosis levels (TUNEL) and expression of apoptosis-associated proteins (p53, Bcl-2, caspase-3 and -8) were assessed (immunohistochemistry, Western blotting). Results. In Krushinsky-Molodkina rats with hereditary audiogenic epilepsy, an increase in the apoptosis level was shown during long-term kindling. A p53-mediated, but caspase-independent mechanism of apoptosis activation has been identified. When minolexin was administered, an anti-apoptotic and neuroprotective effect was observed in the temporal lobe and hippocampus of rats.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Эпилепсия – одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний, которым поражено более 70 миллионов человек по всему миру. Основу терапии составляют пероральные препараты. Их механизмы действия не отличаются большим разнообразием и основаны на блокировании каналов Na+ и/или Ca2+, стимулировании ГАМК или ингибировании передачи сигналов глутамата. Они могут подавлять судороги у двух третей больных, но даже в этом случае не изменяют долгосрочный прогноз, а у оставшейся трети пациентов эпилепсия признается фармакорезистентной и требует иных методов лечения, включая хирургическое вмешательство, также не дающих гарантий излечения. Поиск лекарств от эпилепсии не прекращается, что обусловлено сохраняющейся лекарственной устойчивостью. В настоящее время разработка методов лечения сосредоточена на исследовании механизмов действия новых препаратов, терапии, специфичной для синдромов, и поиске общих патологических механизмов [1].
К таким общим патологическим механизмам, лежащим в основе не только эпилепсии, но и других заболеваний ЦНС, относится дегенерация нейронов. Выделяют более 12 типов клеточной гибели, среди которых в патогенезе эпилепсии, особенно фармакорезистентной, наибольшее значение имеет апоптоз нейронов и глиальных клеток головного мозга [2].
Апоптоз – это физиологический процесс запрограммированной гибели клеток, который играет важную роль как при развитии и нормальном функционировании нервной системы, так и при ее патологиях. Основные особенности апоптоза включают агрегацию хроматина в большие массы, примыкающие к ядерной мембране, сохранение целостности внутриклеточных органелл и рассеивание клеточного содержимого в окруженных мембраной «апоптозных тельцах» [3]. Эксперименты выявили закономерности фрагментации ДНК в поврежденном судорожным припадком мозге, говорящие об активации апоптоза [3]. Апоптоз, особенно выраженный в гиппокампе, может быть одной из причин формирования лекарственной устойчивости из-за усиливающегося с каждым следующим судорожным припадком повреждения структур мозга [4]. Клеточная гибель может осуществляться двумя путями: внешнерецепторным и внутренним митохондриальным. В отличие от некроза, апоптоз осуществляется высокоупорядоченным молекулярным механизмом, который требует энергии и может включать транскрипцию специфичных генов – проапоптотического фактора транскрипции р53, выполняющих различные функции белков семейства Bcl-2 и каспаз [5].
Фактор транскрипции и супрессор опухолей р53 – тетрамерный фосфопротеин, который управляет рядом основных клеточных функций, включая транскрипцию генов, синтез и репарацию ДНК, регуляцию клеточного цикла, старение и гибель клеток. Этот белок является одним из ключевых модуляторов реакции клеток на стресс, активация которого запускает апоптоз в различных типах клеток, в число которых входят и нейроны. В нервной системе р53 активен при ее формировании в норме и при различных неврологических расстройствах, таких как инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона, синдром Ангельмана, черепно-мозговые травмы, боковой амиотрофический склероз, аутизм, спиноцеребеллярная атаксия и эпилепсия [6].
Белок Bcl-2 (B Cell Lymphoma/Leukaemia 2) массой 26 кДа способствует развитию злокачественных опухолей, не давая их клеткам погибнуть, но при этом не усиливая пролиферацию [7]. Bcl-2 – член обширного и консервативного семейства белков, обладающих как про-, так и антиапоптотическими свойствами. Он помогает нейронам пережить неблагоприятные воздействия, такие как окислительный стресс [8]. Изучение ткани головного мозга пациентов с эпилепсией показало значительное увеличение уровней белка Bcl-2 у людей с ее лекарственно-устойчивыми формами. Также Bcl-2 положительно связан с продолжительностью, частотой и тяжестью эпилептических припадков [9].
Каспазы представляют собой эволюционно консервативные аспартат-специфические цистеиновые протеазы, присутствующие в клетках в качестве зимогенов, которые образуют активный фермент после протеолитического расщепления. Запускается каскад каспаз, который завершается активацией эффекторных каспаз, таких как каспаза-3, которые расщепляют ключевые внутриклеточные структурные белки и белки выживания и активируют фермент, ответственный за характерную фрагментацию ДНК. В настоящее время идентифицировано 18 каспаз млекопитающих, которые можно разделить на провоспалительные, противовоспалительные, исполнительные и обладающие еще неизвестными функциями [10].
Во время апоптоза активированная каспаза-3 расщепляет широкий спектр субстратов, что приводит к характерным морфологическим изменениям в клетках. Она играет ключевую роль в регуляции роста и поддержании гомеостатического состояния как нормальных, так и злокачественных клеток и тканей в многоклеточных организмах. Участие каспазы-3 в патогенезе как острых, вызванных инсультом или травмой, так и вялотекущих нейродегенеративных заболеваний сводится к апоптозу определенных популяций клеток [11].
Каспаза-8 опосредует гибель клеток в ответ на внешние сигналы, но ее роль также не сводится лишь к этому. Сложность биохимических путей и сходящихся на ней взаимодействий таковы, что ее новые функции продолжают открывать спустя более чем 20 лет. Большую их часть можно описать собирательным термином «паноптоз», который в основном включает в себя три вида запрограммированной гибели клеток, а именно пироптоз, апоптоз и некроптоз [12].
Первичный эпилептической фокус при аудиогенной эпилепсии находится в слуховом стволе. Гиппокамп и кора рекрутируются вторично в ходе киндлинга. Ранее уже проводились исследования молекулярно-клеточных изменений в гиппокампе при аудиогенном киндлинге, было показано усиление пролиферативной активности гиппокампа при отсутствии дегенеративных процессов в этой структуре [13]. Таким образом, аудиогенный киндлинг является адекватной моделью для исследования изменений мозга, вызванных судорожной активностью.
Повреждение тканей височной доли чаще всего вызывает эпилептические припадки, что стало относительно ясно к концу 1880-х годов [14]. Примерно у 60% пациентов наблюдается фокальная форма эпилепсии, и в трети этих случаев, когда эпилептический очаг локализуется преимущественно в височной доле, имеющиеся лекарственные препараты бессильны. Височные доли являются наиболее эпилептогенной областью головного мозга прежде всего потому, что в наибольшей степени страдают от гипоксии, на их долю приходится множество травм. Судороги, возникающие в височных долях, весьма разнообразны по своему характеру, и некоторые из них могут быть столь непохожими на классическую эпилепсию, что с трудом поддаются диагностике. Подлежащее белое вещество, особенно его глубокие слои, участвует в генерализации приступов и их распространении далеко за пределы эпилептогенных зон при мезиальной височной эпилепсии. Эпилепсия приводит к общему снижению функциональной связанности в глубоких слоях. Показано, что при эпилепсии также наблюдаются значительные изменения морфофункциональных характеристик различных отделов гиппокампа [15].
Используемый нами антибиотик минолексин (миноциклин (4S,4aS,5aR,12aR)-4,7-бис(диметиламино)-1,10,11,12a-тетрагидрокси-3,12-диоксо-4a,5,5a,6-тетрагидро-4H-тетрацен-2-карбоксамид, C23H27N3O7), выпускаемый под торговой маркой «Минолексин», относится к тетрациклинам. Минолексин является полусинтетическим антибиотиком второго поколения тетрациклинового ряда [16]. Отмечается его превосходная пероральная абсорбция, биодоступность, приближающаяся к 100%, и способность проникать во все органы, в том числе в головной мозг. Обладая высокой липофильностью, он способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, а благодаря широкому спектру действия – справляться не только с инфекциями. [17]. Показано, что препарат оказывает защитное действие при множестве неврологических расстройств, включая травму спинного мозга, инсульт, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона и эпилепсию, в том числе не поддающуюся лечению другими препаратами [18]. Минолексин обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими и антиапоптотическими свойствами, что позволяет использовать его при лечении неврологических расстройств [19]. Миноциклин показал выраженный нейропротективный эффект в модели эпилептического статуса у крыс при введении пилокарпина. Эпилептический статус вызывает острую и постоянную активацию микроглии и астроцитов в поле CA1 гиппокампа и прилегающей коре. Введение миноциклина один раз в день в дозе 45 мг/кг в течение 14 дней после эпилептического статуса с последующим шестинедельным мониторингом показало снижение активации микроглии, повышение уровней интерлейкина-1β и фактора некроза опухоли-α в исследуемых зонах мозга, снижение потери нейронов, а также снижение частоты, продолжительности и тяжести судорог [20]. В экспериментах по лечению нейроинфекций были обнаружены нейропротективные, противовоспалительные и антиапоптотические свойства миноциклина. Препарат ингибировал апоптоз в нейронах головного мозга человека, на что указывало ингибирование активации каспазы-3 и поли-АДФ-рибозополимеразы [21]. Препарат уже показал многообещающие результаты в экспериментальной неврологии, что было связано с его высокой липофильностью, став безопасным и эффективным дополнением к антипсихотическим препаратам [22].
На основании данных литературы мы предположили, что минолексин, оказывающий положительный эффект в животных моделях эпилепсии, может делать это за счет уменьшения апоптоза и нейровоспаления в головном мозге. В связи с этим целью данной работы стало изучения влияния антибиотика минолексина на уровни апоптоза и экспрессию апоптоз-ассоциированных молекул (p53, Bcl-2, каспаза-3 и каспаза-8) в височной коре, подлежащем белом веществе и гиппокампе крыс линии Крушинского – Молодкиной (КМ) с наследственной аудиогенной эпилепсией при длительном киндлинге.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Генетическая предрасположенность к аудиогенной эпилепсии у крыс была выявлена еще в 1906 г., когда в Вистаровском институте (США) вывели аутбредную линию крыс Вистар (Wistar). Некоторые из крыс реагировали на громкие звуки эпилептоморфными припадками. С тех пор на их основе в разных странах было создано несколько линий крыс с аудиогенной эпилепсией. Одной из них стала линия крыс КМ, выведенная на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Л.В. Крушинским, Л.Н. Молодкиной и Д.А. Флессом. В настоящее время у этих животных хорошо изучены поведенческие, морфологические и генетические особенности, которые частично пересекаются с таковыми у больных эпилепсией людей и другими линиями грызунов с аудиогенной эпилепсией. Таким образом, они подходят для экспериментального моделирования эпилепсии [23].
В качестве экспериментальной модели эпилепсии нами были использованы самцы и самки крыс линии КМ в возрасте 11 месяцев, реагирующие на звук частотой 9 кГц и мощностью 50 дБ полным и стабильным клонико-тоническим судорожным припадком. В соответствии с целью и задачами эксперимента они были случайным образом разделены на следующие группы: киндлинг с введением физраствора (5 самцов и 5 самок), киндлинг с введением минолексина (5 самцов и 5 самок), контроль с введением физраствора (6 самок и 4 самца) (рис. 1). Животных содержали в стандартных условиях в соответствии с правилами, утвержденными санитарным врачом РФ от 29.08.2014 г. № 51, в поликарбонатных клетках по одной группе одного пола с круглосуточным доступом к воде и пище. Содержание животных осуществлялось в контролируемых условиях окружающей среды (при температуре 22 ± 3 °C и относительной влажности воздуха 30–70%), с 12-часовым циклом освещения.
Рис. 1. План эксперимента.
В настоящее время в более чем 99% случаев крысы линии КМ в трехмесячном возрасте в ответ на звуковое воздействие демонстрируют развернутый судорожный припадок, который характеризуется стадией дикого бега и клонико-тоническими судорогами [24]. Распределение животных по группам было случайным. Внутрибрюшинные инъекции физраствора или минолексина в дозе 45 мг/кг, растворенного в физрастворе, проводились внутрибрюшинно по окончании каждой звуковой стимуляции (9 кГц, 50 дБ) в течение 14 дней. В качестве контрольной была взята группа крыс КМ, не подвергавшихся киндлингу и получавших инъекции физраствора. Эксперимент продолжался 14 дней, после чего был сделан перерыв длительностью 7 дней, во время которого животные не повергались киндлингу и не получали препарат (рис. 1). Контроль эпилептических припадков у крыс производился визуально. Во время эксперимента у животных, подвергнутых киндлингу, фиксировался латентный период – время начала приступа (в пределах 60 с) от момента подачи звукового сигнала, а также особенности припадка, производилась видеорегистрация. С началом приступа воспроизведение звука останавливали.
После завершения эксперимента была проведена некропсия с использованием препарата «Золетил», перфузия физраствором, декапитация и извлечение головного мозга. Мозг каждой крысы разделяли на две половины в сагиттальной плоскости. Правую половину мозга для иммуногистохимического (ИГХ) и TUNEL анализа фиксировали в 4%-ном параформальдегиде на фосфатном буфере и оставляли на 2 дня при 4 °С, а затем переносили в раствор 20%-ной сахарозы на 5 дней. Далее помещали в емкость с изопентаном, находящуюся в сухом льду, на 1 мин при –50 ºС, затем хранили при –80 ºС. Чередующиеся срезы толщиной 5–6 мкм изготовляли на криостате (Leica, Германия) и фиксировали на предметных стеклах для проведения ИГХ. Согласно атласу мозга крысы [25], интерес представляла амигдало-пириформная область (височная кора) и гиппокамп (рис. 2).
Рис. 2. Расположение исследуемых структур головного мозга крысы.
Из левой половины иссекали дорсальный гиппокамп, кору и белое вещество височной доли для вестерн-блотта.
На срезах замороженных препаратов головного мозга (10 мкм, криотом Leica CM 1520) определяли уровень апоптоза методом TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) (набор для TUNEL In Situ, Elabscience E-CK-A320, Green, FITC). Также определяли экспрессию проапоптотического белка р53, антиапоптотического белка Bcl-2 и каспазы-3, -8 иммуногистохимическим методом с использованием поликлональных антител к р53 и Bcl-2 (1: 100, SANTA CRUZ), выявление с помощью диаминобензидина.
Изображения срезов головного мозга были получены с помощью микроскопа PFM (WPI) с цветной камерой Leica DFC300 FX для анализа в разрешении 1280 × 960 пикселей и на сканирующем микроскопе для лабораторных исследований Pannoramic MIDI (3DHISTECH Ltd.) при увеличении х200. Подсчет оптической плотности проводился с использованием программы PhotoM версии 1.31 на 4–5 срезах исследуемой области головного мозга (височная кора, белое вещество, зубчатая извилина гиппокампа, область СА4 и хилус) каждого животного, далее рассчитывали среднюю оптическую плотность.
Для оценки изменений уровней белков каспаза-3 и -8 биоптаты височной коры, подлежащего белого вещества и гиппокампа гомогенизировали в лизирующем буфере с ингибиторами фосфатазы (Roche, #04 906 837 001) и протеазы (Sigma-Aldrich, #P8340). Общее количество белка оценивали по методу Лоури, используя бычий сывороточный альбумин в качестве стандарта. Белки разделяли в 12%-ном полиакриламидном геле, затем переносили на нитроцеллюлозную мембрану (Santa Cruz Biotechnology). Мембраны инкубировали в течение ночи при 4 °C с первичными поликлональными антителами к каспазе-3 (1: 1000; Abclonal), моноклональными антителами к каспазе-8 (1: 1000; Cloud-Clone Corp) и β-тубулину (1: 1000; Cloud-Clone Corp). Анализ блотов проводили методом денситометрии с учетом нормализации относительно окрашивания на весь белок с помощью Ponso с использованием гель-документирующей системы (ChemiDoc, BioRad, США). Также определяли экспрессию белка гена домашнего хозяйства тубулина, коррелирующего с общим количеством белка в пробе. Относительную плотность каждой белковой полосы определяли количественно с использованием программного обеспечения ImageJ 6.0.
Статистическую обработку данных проводили в программе GraphPad Prism 8.0.1. Нормальность распределения проверяли с помощью критерия Шапиро – Уилка (Shapiro-Wilk test). Для сравнения равенства дисперсий использовался t-критерий Фишера. В случае нормального распределения сравнение проводилось параметрическим методом – дисперсионным анализом ANOVA, в остальных случаях сравнение производилось непараметрическим методом – критерием Краскела – Уоллиса. Апостериорные сравнения (пост-хок тесты) в случае использования ANOVA проводили с помощью критерия Тьюки. В случае ненормального распределения и применения критерия Краскела – Уоллиса апостериорные сравнения проводились критерием Данна. Значений, выходящих за пределы трех сигм, зарегистрировано не было.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе исследованы височная кора и подлежащее белое вещество, а также три области гиппокампа (гранулярный слой зубчатой извилины, хилус и подполе СА4). Выбор обусловлен тем, что данные зоны мозга наиболее часто повреждаются при эпилепсии, и очаги эпилептической активности часто локализуются в них. Показано, что при эпилепсии наблюдаются значительные изменения морфофункциональных характеристик различных отделов гиппокампа. Еще в 1825 г. результаты вскрытий показали, что гиппокамп сморщен и кальцинирован у людей с эпилепсией. Многие пациенты, особенно со склерозом гиппокампа, помимо судорог испытывают когнитивные трудности [15]. При эпилепсии в нем отмечается появление аномальных возбуждающих цепей, изменения рецепторов и мембран, аберрантный нейрогенез в хилусе и синаптогенез с прорастанием мшистых волокон, появление мутантных форм ГАМК- и каинатных рецепторов, реактивный астроцитарный глиоз [26].
В височной коре крыс линии КМ с наследственной аудиогенной эпилепсией (рис. 3a) в контроле наблюдается низкий уровень апоптоза (количество TUNEL-позитивных клеток), он повышается при киндлинге в группе крыс, получавших физраствор, и снижается у крыс, подвергшихся киндлингу при одновременном введении минолексина. Различия между всеми тремя группами статистически значимы при F(2, 21) = 15.39; р = 0.0001.
Рис. 3. Изменения числа TUNEL-позитивных клеток в исследуемых отделах головного мозга крыс Крушинского – Молодкиной. (a) – кора височной доли, (b) – белое вещество, (c) – поле СА4 гиппокампа, (d) – гранулярный слой зубчатой извилины гиппокампа, (e) – хилус гиппокампа. TUNEL-позитивные клетки в гиппокампе крыс линии Крушинского – Молодкиной, х200. (f) – Контроль физраствор, DAPI, (g) – Киндлинг физраствор, DAPI, (h) – Киндлинг антибиотик, DAPI, (i) – Контроль физраствор, TUNEL, (j) – Киндлинг физраствор, TUNEL, (k) – Киндлинг антибиотик, TUNEL. p < 0.05 по сравнению: * с группой Контроль физраствор, # с группой Киндлинг физраствор.
В белом веществе наблюдаются сходные изменения (рис. 3b). В контрольной группе уровень апоптоза низкий, увеличивается в группе Киндлинг физраствор и уменьшается в случае введения минолексина на фоне киндлинга. Данные изменения носят статистически достоверный характер при F(2, 21) = 12.86; р = 0.01.
Для всех исследуемых областей гиппокампа (поле СА4, гранулярный слой зубчатой извилины и хилус) различия между всеми тремя группами (рис. 3c – e и 4a – e, f – k) аналогичны и носят статистически значимый характер при F(2, 20) = 4.17; р = 0.03, F(2, 20) = 24.10; р = 0.0001 и F(2, 20) = 14.86; р = 0.0001 соответственно.
Таким образом, длительный аудиогенный киндлинг приводит к индукции гибели клеток всех исследованных областей мозга – коры, подлежащего белого вещества и различных зон гиппокампа. Введение минолексина крысам предупреждает активацию апоптоза при киндлинге в этих участках мозга. У получавших минолексин крыс при киндлинге уровни апоптоза остались выше по сравнению с животными контрольной группы, не подвергавшимися киндлингу, за исключением хилуса и поля СА4 гиппокампа, где количество TUNEL-позитивных клеток соответствует таковому в контроле.
Мы исследовали экспрессию одного из основных активаторов апоптоза, онкосупрессора р53, при длительном киндлинге и введении минолексина. В височной коре у крыс линии КМ, подвергшихся киндлингу и не получивших лечение (рис. 4a), наблюдается статистически значимый рост экспрессии р53, F(2, 23) = 3.71; р = 0.04 по сравнению с контролем, что говорит об активации р53-зависимого каскада апоптоза при эпилептических припадках. Введение минолексина оказывает положительный эффект, снижая экспрессию р53 до значений, близких к контрольным.
Рис. 4. Уровень экспрессии р53 в исследуемых отделах головного мозга крыс линии Крушинского – Молодкиной. (a) – кора височной доли, (b) – белое вещество, (c) – поле СА4 гиппокампа, (d) – гранулярный слой зубчатой извилины гиппокампа, (e) – хилус гиппокампа. р53-иммунопозитивные клетки в гиппокампе крыс линии Крушинского – Молодкиной, Иммуногистохимия, х200. (f) – Контроль физраствор, (g) – Киндлинг физраствор, (h) – Киндлинг антибиотик. p < 0.05 по сравнению: * с группой Контроль физраствор, # с группой Киндлинг физраствор.
В подлежащем белом веществе (рис. 4b) имеет место аналогичная картина со статистически значимым (F(2, 23) = 13.38; р = 0.0001) усилением экспрессии р53 после киндлинга и его снижением до близких к контрольным значениям у животных, дополнительно получавших инъекции минолексина.
В поле СА4 гиппокампа достоверных изменений не выявлено (F(2, 24) = 0.59; р = 0.62), и экспрессия р53 не менялась при киндлинге и введении минолексина (рис. 4с).
В гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа введение минолексина не показало положительного эффекта, и экспрессия р53 в экспериментальных группах статистически достоверно отличалась от контроля в большую сторону при F(2, 21) = 3.14; р = 0.01 (рис. 4d). Однако это говорит не о бесполезности минолексина, а о не связанных с р53 механизмах апоптоза, так как при лечении его уровень снижался (рис 3b).
В хилусе гиппокампа после киндлинга наблюдался рост экспрессии р53 по сравнению с контрольной группой (F(2, 22) = 9.04; р = 0.006) и его снижение при введении антибиотика по сравнению с крысами, проходившими киндлинг и не получавшими лечения (рис. 4е, f – h).
Таким образом, в височной коре и белом веществе динамика экспрессии р53 примерно соответствует изменениям количества TUNEL-позитивных клеток. В гиппокампе изменения экспрессии р53 зависели от зоны гиппокампа – отсутствие изменений в зоне СА4, активация р53-каскада при киндлинге в гранулярном слое и хилусе, при этом в гранулярном слое при введении минолексина уровень р53 был повышен по сравнению с контролем и группой киндлинг, а в хилусе введение минолексина приводило к снижению синтеза р53 по сравнению с группой киндлинг.
В височной коре крыс линии КМ (рис. 5a) при киндлинге наблюдается достоверное снижение экспрессии Bcl-2 по сравнению с контрольной группой и его повышение при лечении минолексином (F(2, 22) = 3.66; р = 0.04), что соотносится с уровнем апоптоза. В белом веществе картина иная, и экспрессия Bcl-2 постоянна во всех трех группах (F(2, 22) = 1.86; р = 0.26).
Рис. 5. Уровень экспрессии Bcl-2 в исследуемых отделах головного мозга крыс линии Крушинского – Молодкиной. (a) – кора височной доли, (b) – белое вещество, (c) – поле СА4 гиппокампа, (d) – гранулярный слой зубчатой извилины гиппокампа, (e) – хилус гиппокампа. Bcl-2-иммунопозитивные клетки в гиппокампе крыс линии Крушинского – Молодкиной, Иммуногистохимия, х200. (f) – Контроль физраствор, (g) – Киндлинг физраствор, (h) – Киндлинг антибиотик. p < 0.05 по сравнению: * с группой Контроль физраствор, # с группой Киндлинг физраствор.
Во всех трех исследуемых областях гиппокампа картина принципиально сходна – киндлинг не изменяет экспрессию Bcl-2, а введение минолексина снижает ее, F(2, 23) = 3.71; p = 0.04 для поля СА4, F(2, 21) = 3.89; p = 0.0058 для гранулярного слоя зубчатой извилины и F(2, 23) = 3.74; p = 0.03 для хилуса соответственно (рис. 5c – e и f – h).
Таким образом, этот антиапоптотический белок играет различную роль в противодействии апоптозу в зависимости от области мозга, мы наблюдали повышение экспрессии Bcl-2 в коре при введении минолексина, и этому соответствует снижение уровня апоптоза, отсутствие изменений в белом веществе и снижение уровня этого белка в гиппокампе, где, вероятно, играют роль другие антиапоптотические белки.
В височной коре крыс линии КМ, предрасположенных к аудиогенным судорогам, статистически значимых изменений экспрессии caspase-3 не зафиксировано, F(2, 9) = 0.33; p = 0.73 (рис. 6а). В подлежащем белом веществе зафиксировано достоверное снижение экспрессии каспазы-3 при киндлинге независимо от того, получали ли крысы минолексин, по сравнению с контрольной группой F(2, 21) = 5.46; p = 0.01 (рис. 6b). В гиппокампе значимых изменений уровня экспрессии каспазы-3 не выявлено, F(2, 21) = 0.76; p = 0.48 (рис. 6c).
Рис. 6. Изменения оптической плотности каспаза-3-иммунореактивного материала в исследуемых отделах головного мозга крыс линии Крушинского – Молодкиной. (а) – кора височной доли, (b) – белое вещество, (c) – гиппокамп. # p < 0.05 по сравнению с группой Киндлинг физраствор.
В височной коре крыс линии КМ (рис. 7а), а также в гиппокампе (рис. 7c) статистически значимых изменений экспрессии каспазы-8 не выявлено при F(2, 21) = 0.78; p = 0.47 и F(2, 21) = 0.75; p = 0.49 соответственно. В подлежащем белом веществе ее экспрессия при введении минолексина достоверно снижалась, и здесь обнаружены различия как с контрольной группой, так и с животными, подвергавшимися киндлингу и не получавшими лечения, F(2, 21) = 8.48; p = 0.003 (рис. 7b).
Рис. 7. Изменения оптической плотности каспазы-8-иммунореактивного материала в исследуемых отделах головного мозга крыс линии Крушинского – Молодкиной. (а) – кора височной доли, (b) – белое вещество, (c) – гиппокамп. p < 0.05 по сравнению: * с группой Контроль физраствор, # с группой Киндлинг физраствор.
Таким образом, в эксперименте не изменялась экспрессия каспазы-3 и -8 в височной коре и гиппокампе, и наблюдалось снижение ее экспрессии в белом веществе при киндлинге (только каспазы-3) и при сопутствующем введении минолексина (обе каспазы).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время является актуальным поиск средств для терапевтического лечения фармакорезистентной эпилепсии. Предполагается, что в развитии фармакорезистентности играют роль нейровоспаление и апоптоз. В связи с этим активно проводятся исследования молекулярных механизмов судорожной активности мозга и возможности фармакологической коррекции нарушений. Так, в эксперименте с киндлингом миндалевидного тела (амигдалы) 45 взрослым самцам крыс линии Wistar были имплантированы биполярные стимулирующие и монополярные регистрирующие электроды, заканчивающиеся в базолатеральной миндалине. За 60 мин до электрической стимуляции, проводившейся дважды в день с минимальным интервалом 6 ч, животным внутрибрюшинно вводился раствор миноциклина в дозах 50, 25 и 12.5 мг/кг. Миноциклин оказывал противосудорожное действие на прошедших киндлинг крыс, а его введение в дозе 25 мг/кг в течение 10 дней оказывало также противоэпилептогенное действие во время киндлинга и отодвигало начало судорожных припадков [27]. Миноциклин и другие тетрациклины, такие как доксициклин, нашли применение в экспериментальной неврологии, став дополнением к классическим лекарственным средствам [22]. В литературе имеются сведения о положительном опыте применения миноциклина у людей. У 53-летнего пациента после операции по удалению астроцитомы начались эпилептические припадки. Обследование выявило лекарственно-устойчивую симптоматическую фокальную эпилепсию с частыми припадками. Различные противосудорожные препараты не оказали положительного эффекта. В этой ситуации по показаниям, не предусмотренным инструкцией, в схему лечения был добавлен миноциклин в дозировке 50 мг два раза в день из-за его противовоспалительных эффектов, что оказало выраженный противосудорожный эффект [28].
Морфофункциональные изменения при эпилепсии затрагивают в первую очередь височную долю и гиппокамп. Согласно классификации эпилептических синдромов, височная эпилепсия делится на два основных типа. Первый – медиальная, при которой приступ возникает преимущественно в височных медиальных структурах, таких как гиппокамп, энторинальная кора, миндалевидное тело и парагиппокампальная извилина. Вторым является латеральная или неокортексная эпилепсия, при которой патологический процесс затрагивает височный неокортекс, который включает верхнюю, медиальную и нижнюю височные извилины, височно-затылочные и височно-теменные области, а также ассоциативные сенсорные области слухового и зрительного анализаторов, речевые центры [29].
Аномалии височной коры часто встречаются у пациентов с эпилепсией. Измененная морфология поверхности, в том числе значительная структурная атрофия, была выявлена у пациентов в переднемедиальных областях ипсилатерально. Эта локализованная регионарная атрофия тесно коррелирует со структурными изменениями, обнаруженными в гиппокампе. Причиной прогрессирующей атрофии коры, в том числе за пределами эпилептогенных зон, является нагрузка из-за повторяющихся судорожных припадков [30]. Эти данные подтверждают актуальность нашего исследования.
В проведенном эксперименте мы наблюдали повышение уровня апоптоза при длительном киндлинге в височной доле (кора и белое вещество) и гиппокампе у крыс КМ, при активации р53-зависимого пути в височной доле и хилусе. По данным других авторов, у пациентов со склерозом гиппокампа обнаружена атрофия зубчатой извилины и СА4, что показали автоматизированная волюметрия и гистологическое исследование подполей [31]. Снижение количества олигодендроцитов в CA4 и гранулярных нейронов в зубчатой извилине отмечается не только при эпилепсии, но и при шизофрении [32], нарушениях сна и депрессии [33]. Значительные микроструктурные изменения в поле СА4, а также в зубчатой извилине проявляются на ранних стадиях болезни Альцгеймера, тогда как CA1–3 вовлекаются в патологический процесс позже [34]. Выявлено антиапоптотическое действие минолексина при киндлинге во всех исследованных областях мозга. Полученные результаты согласуются с другими исследованиями, согласно которым антибиотик оказывает нейропротекторное действие на животных моделях травм ЦНС и некоторых нейродегенеративных заболеваний [35]. Минолексин обладает нейропротекторным действием при ишемии головного мозга. Его введение ингибирует активацию микроглии, что вызывает снижение продукции воспалительных цитокинов, включая TNF-α и IL-1β, активности и пролиферации Т-клеток, ингибирование индуцибельной синтазы оксида азота, снижение концентрации свободных радикалов, включая супероксид-анион, гидроксильный радикал и перекись водорода в условиях окислительного стресса. Снижение перекисного окисления липидов связано с повышением активности антиоксидантных ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза и др.) [36]. Возможно, именно противовоспалительное действие минолексина определило нейропротекторный эффект в нашем эксперименте. Определение количества TUNEL-позитивных клеток подтвердило нейропротекторные и антиапоптотические эффекты минолексина in vivo посредством ингибирования апоптоза в модели контролируемой кортикальной травмы мозга у крыс, выявлено снижение дефицита двигательной функции в тесте с ходьбой по сужающейся дорожке [37].
Введение минолексина крысам КМ, подвергнутым аудиогенному киндлингу, приводило к супрессии р53-зависимого пути апоптоза в височной доле (кора и подлежащее белое вещество) и в хилусе гиппокампа, в зоне СА4 и гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа этого эффекта не выявлено. Другими авторами также показано, что введение миноциклина через 1 ч после черепно-мозговой травмы и субарахноидального кровоизлияния у крыс Sprague-Dawley уменьшало отек головного мозга и защищало его от p53-ассоциированного апоптоза и воспаления, индуцированного NLRP3-инфламмасомой, которая контролирует созревание и высвобождение провоспалительных цитокинов, в основном интерлейкина-1β (IL-1β) [38]. В другом эксперименте крысам Sprague-Dawley проводили двусторонний зажим почечной артерии в течение 30 мин с последующей реперфузией и вводили миноциклин либо физиологический раствор в течение 36 ч перед ишемией. Уже через 24 ч после ишемии подтвердился антиапоптотический эффект миноциклина (снижение количества TUNEL-позитивных клеток). Он также уменьшал высвобождение цитохрома с в цитоплазму и снижал активацию р53 и Bax [39]. В эксперименте по изучению токсичности билирубина на рыбках данио была выявлена опасность билирубина для нервной системы и описаны вызванные им двигательные нарушения. Гены врожденного иммунитета и гены, связанные с апоптозом, такие как гены белков TLR4, NF-κB p65, STAT3 и p53, усиленно экспрессировались при концентрации билирубина 10 мкг/мл. Введение миноциклина рыбкам уменьшало нейроповеденческие расстройства, вызванные билирубином, при этом экспрессия р53 снижалась [40]. Однако есть и противоположные данные. Лечение миноциклином мышей с ксенотрансплантатами рака яичников OVCAR-3 приводило к ингибированию белка (HIF)-1α (индуцируемый гипоксией фактор) и повышению уровня p53 с инактивацией пути AKT/mTOR/p70S6K/4E-BP1 [41].
Полученные результаты показали, что снижение уровня Bcl-2 при длительном киндлинге наблюдается только в височной коре, при этом введение минолексина возвращает его уровень к контрольным значениям, что, очевидно, играет роль в снижении апоптоза. Мы не выявили ключевой роли антиапоптотического белка Bcl-2 в поддержании выживаемости клеток при длительном аудиогенном киндлинге в белом веществе и гиппокампе крыс линии КМ. Возможно, за это отвечают другие белки из его семейства, такие как Mcl-1. Данные других авторов об участии минолексина в регуляции экспрессии Bcl-2 в мозге при различных патологиях также различны. Введение минолексина усиливает экспрессию Bcl-2, снижает экспрессию Bax и каспазы-3 у крыс Sprague-Dawley в эксперименте с черепно-мозговой травмой и субарахноидальным кровоизлиянием [38], повышает экспрессию Bcl-2 в опыте с перекручиванием яичников для изучения ишемии и апоптоза у крыс Wistar [42], при моделировании глаукомы с перерезанием зрительного нерва у крыс Wistar [43]. При имитации варикоцеле у крыс Wistar миноциклин снижал Bax и усиливал экспрессию гена и белка Bcl-2 по сравнению с контрольной группой. Кроме того, введение миноциклина значительно снижало скорость апоптоза половых клеток, что подтверждено методом TUNEL [44]. В других условиях миноциклин может действовать как противоопухолевый препарат. Экспозиция миноциклина на линии MCF-7 опухолевых клеток из инвазивной аденокарциномы протоков молочной железы человека вызвала усиление апоптоза, повышение экспрессии Bax и каспазы-3 и снижение уровней Bcl-2 и прокаспазы-3 [45].
В нашем эксперименте не выявлено повышения уровней инициаторной каспазы-8 и эффекторной каспазы-3 при длительном киндлинге во всех изученных отделах мозга, можно предположить, что период отдыха после киндлинга (7 дней) не дает возможности обнаружить повышение каспаз в период киндлинга или сразу после его окончания в головном мозге крыс КМ. Влияние минолексина в этом случае на экспрессию каспаз носило ограниченный характер, отмечено снижение уровня каспаз только в белом веществе. Возможно, имеют место механизмы апоптоза, не зависящие от каспаз, и нейропротекторный эффект минолексина обусловлен в основном его супрессирующим действием на р53, либо здесь могут присутствовать иные механизмы. Так, эпилептический припадок связан с окислительным стрессом и митохондриальной дисфункцией. Основным триггером апоптоза в этом случае может выступать консервативный митохондриальный трансмембранный белок, индуцирующий апоптоз (AIF), способный без каспаз индуцировать конденсацию хроматина и фрагментацию ДНК. В поле зрения исследователей он попал в 1994 г., когда было замечено, что на ранних стадиях апоптоза падает митохондриальный трансмембранный потенциал из-за повреждения митохондрий. AIF высвобождался в цитозоль, далее он проникал в ядра. Помимо апоптогенной активности AIF проявляет NADH-оксидазную активность и участвует в регуляции проницаемости мембран митохондрий. Его блокирование антителами или нокаут гена показали, что AIF нужен для запуска апоптоза в ответ на некоторые стимулы. Он важен для гибели клеток во время кавитации эмбриоидных тел, самой первой волны каспазо-независимой гибели клеток, необходимой для морфогенеза мышей [46]. В то же время AIF играет защитную роль благодаря NADH-оксидоредуктазной активности, пока находится на своем месте. Функция белка меняется в процессе деубиквитинирования деубиквитиназой 1 OTU (OTUD1). Деубиквитинирование AIF по K244 изменяет нормальную структуру митохондрий, нарушая процесс окислительного фосфорилирования, а деубиквитинирование AIF по K255 усиливает ДНК-связывающую способность, из-за чего клетка гибнет [47].
Данные других авторов говорят о том, что миноциклин способен подавлять экспрессию каспазы-3 и -8. В эксперименте с повреждением сетчатки глаз крыс, вызванным действием света, активность каспазы-3 возрастала, но введение миноциклина до или после светового повреждения в дозах 30 и 45 мг/кг соответственно приводило к уменьшению количества TUNEL-позитивных фоторецепторов и ослабляло экспрессию каспазы-3 [48]. При экспериментальном диабете, вызванном введением стрептозотоцина, развивается диабетическая ретинопатия. Введение миноциклина подавляет выработку воспалительных цитокинов, уменьшает их высвобождение из активированной микроглии и снижает активность каспазы-3 в сетчатке крыс Sprague-Dawley. Такой же результат достигнут на культуре нейронов сетчатки R28 и микроглии [49]. В мышиной модели болезни Гентингтона R6/2 – аутосомно-доминантного нейродегенеративного заболевания, которое в настоящее время не поддается лечению, после ишемии миноциклин ингибировал активацию мРНК каспазы-3 и -1, сдерживая прогрессирование симптомов [50]. Миноциклин защищал волосковые клетки внутреннего уха крыс Sprague-Dawley от повреждений при введении ототоксичного антибиотика (аминогликозида гентамицина), ингибируя сразу три пути: фосфорилирование p38 MAPK, высвобождение цитохрома с и активацию каспазы-3 [52]. Таким образом, миноциклин обладает защитной активностью при различных моделях апоптоза, очевидно, в зависимости от условий, кроме того, действие его может быть тканеспецифичным. Нейропротективное действие миноциклина, обусловленное ингибированием активации микроглии и каспазы-3, может помочь при японском энцефалите – вирусном природно-очаговом заболевании, которое переносится комарами. Специфического лечения японского энцефалита не существует, а у больных выявляется обширная потеря нейронов и вторичное воспаление. В эксперименте мыши, получавшие миноциклин, выживали после заражения штаммом JEV GP78, в отличие от не получавших лечения животных [52].
В основе патогенеза болезни Паркинсона лежит гибель дофаминергических нейронов черной субстанции, связанная с массивным астроглиозом и активацией микроглии. Апоптоз в данном случае опосредуется каспазой-3 и -8. В настоящее время эффективных методов лечения болезни Паркинсона нет, но ингибирование каспаз может замедлить ее прогрессирование и улучшить качество жизни пациентов. На модели болезни Паркинсона показано, что миноциклин снижает активацию глии и оказывает нейропротекторное действие в черной субстанции мозга подопытных животных [53].
Таким образом, длительный аудиогенный киндлинг приводит к повышению уровня апоптоза клеток височной доли и гиппокампа у крыс КМ. Механизмы этого апоптоза носят тканеспецифический характер – в инициации гибели клеток играет роль р53-зависимый каскад (внутренний путь активации апоптоза) в височной доле и в хилусе гиппокампа, но не в зоне СА4 и гранулярном слое зубчатой извилины, где, очевидно, инициаторами апоптоза являются другие белки. По результатам исследования можно предположить, что в височной коре снижение уровня антиапоптотического белка Bcl-2 может быть одной из причин апоптоза, вызванного судорожными припадками, в то время как в подлежащем белом веществе и гиппокампе он, вероятно, не играет заметной роли. Показаны антиапоптотические и нейропротективные свойства антибиотика минолексина на модели крыс линии КМ с наследственной аудиогенной эпилепсией. Введение его приводит к снижению уровня вызванного повторяющимися судорожными припадками апоптоза нейронов во всех изученных областях головного мозга: височной коре и подлежащем белом веществе, гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа, хилусе, поле СА4. Для выяснения механизмов, лежащих в основе его действия, нами был проведен анализ экспрессии апоптоз-ассоциированных белков (р53, Bcl-2, каспаза-3, -8). Можно заключить, что в основном терапевтический эффект минолексина при длительном аудиогенном киндлинге у крыс КМ обусловлен ингибированием проапоптотического белка р53. Меньшую роль в патогенезе эпилепсии у этих крыс играет Bcl-2, о чем говорит разная реакция отделов мозга крыс на введение минолексина. Не была показана активная роль каспаз в данном эксперименте, при введении минолексина показано только снижение экспрессии каспазы-8 в белом веществе и в некоторой степени каспазы-3 в височной коре при киндлинге. Можно предположить, что при введении минолексина при длительном аудиогенном киндлинге происходит подавление как внутреннего, р53-зависимого пути апоптоза, так и внешнерецепторного.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы и планирование эксперимента (Е. Д. Б., А. А. К.), сбор данных (Е. Д. Б., А. А. К., Ю. О. С., С. А. А., Е. О. Д.), обработка данных (Е. Д. Б., А. А. К., Ю. О. С., С. А. А., Е. О. Д.), написание и редактирование манускрипта (Е. Д. Б., А. А. К., Ю. О. С., Е. О. Д.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета прикладных научно-исследовательских работ по Гос. заданию Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства» и при поддержке Гос. задания Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 075–00264–24–00. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с лабораторными животными и были одобрены Комиссией по этике Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, протокол № 11-/2023 от 24.11.2023 г.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
E. D. Bazhanova
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of Sciences; The Federal State-Financed Institution Golikov Research Clinical Center of Toxicology under the Federal Medical Biological Agency
Author for correspondence.
Email: bazhanovae@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg; St. Petersburg
A. A. Kozlov
The Federal State-Financed Institution Golikov Research Clinical Center of Toxicology under the Federal Medical Biological Agency
Email: bazhanovae@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg
Yu. O. Sokolova
The Federal State-Financed Institution Golikov Research Clinical Center of Toxicology under the Federal Medical Biological Agency
Email: bazhanovae@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg
A. A. Suponin
Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of Healthcare of Russian Federation
Email: bazhanovae@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg
E. O. Demidova
The Federal State-Financed Institution Golikov Research Clinical Center of Toxicology under the Federal Medical Biological Agency
Email: bazhanovae@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg
References
- Pong A, Xu K, Klein P (2023) Recent advances in pharmacotherapy for epilepsy. Curr Opin Neurol 36: 77–85. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000001144
- Bazhanova E, Kozlov A (2022) Mechanisms of apoptosis in drug-resistant epilepsy. Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova 122: 43–50. https://doi.org/10.17116/jnevro202212205143
- Henshall D (2007) Apoptosis signalling pathways in seizure-induced neuronal death and epilepsy. Biochem Soc Trans 35: 421–423. https://doi.org/10.1042/BST0350421
- Sokolova T, Zabrodskaya Y, Litovchenko A, Paramonova N, Kasumov V, Kravtsova S, Skiteva E, Sitovskaya D, Bazhanova E (2022) Relationship between Neuroglial Apoptosis and Neuroinflammation in the Epileptic Focus of the Brain and in the Blood of Patients with Drug-Resistant Epilepsy. Int J Mol Sci 23: 12561. https://doi.org/10.3390/ijms232012561
- Henshall D, Simon R (2005) Epilepsy and apoptosis pathways. J Cereb Blood Flow Metab 25: 1557–1572. https://doi.org/10.1038/sj.jcbfm.9600149
- Li H, Zhang Z, Li H, Pan X, Wang Y (2023) New Insights into the Roles of p53 in Central Nervous System Diseases. Int J Neuropsychopharmacol 26: 465–473. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyad030
- Tsujimoto Y, Finger L, Yunis J, Nowell P, Croce C (1984) Cloning of the chromosome breakpoint of neoplastic B cells with the t(14;18) chromosome translocation. Science 226: 1097–1099. https://doi.org/10.1126/science.6093263
- Hollville E, Romero S, Deshmukh M (2019) Apoptotic cell death regulation in neurons. FEBS J 286: 3276–3298. https://doi.org/10.1111/febs.14970
- Vega-García A, Orozco-Suárez S, Villa A, Rocha L, Feria-Romero I, Alonso Vanegas M, Guevara-Guzmán R (2021) Cortical expression of IL1-β, Bcl-2, Caspase-3 and 9, SEMA-3a, NT-3 and P-glycoprotein as biological markers of intrinsic severity in drug-resistant temporal lobe epilepsy. Brain Res 1758: 147303. https://doi.org/10.1016/10.1016/j.brainres.2021.147303
- Eskandari E, Eaves C (2022) Paradoxical roles of caspase-3 in regulating cell survival, proliferation, and tumorigenesis. J Cell Biol 221: e202201159. https://doi.org/10.1083/jcb.202201159
- D'Amelio M, Cavallucci V, Cecconi F (2010) Neuronal caspase-3 signaling: not only cell death. Cell Death Differ 17: 1104–1114. https://doi.org/10.1007/s12264-012-1057-5
- Fritsch M, Günther S, Schwarzer R, Albert M-C, Schorn F, Werthenbach J, Schiffmann L, Stair N, Stocks H, Seeger J, Lamkanfi M, Krönke M, Pasparakis M, Kashkar H (2019) Caspase-8 is the molecular switch for apoptosis, necroptosis and pyroptosis. Nature 575: 683–687. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1770-6
- Galvis-Alonso O, Cortes De Oliveira J, Garcia-Cairasco N (2004) Limbic epileptogenicity, cell loss and axonal reorganization induced by audiogenic and amygdala kindling in wistar audiogenic rats (WAR strain). Neuroscience 125: 787–802. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2004.01.042
- Abarrategui B, Mai R, Sartori I, Francione S, Pelliccia V, Cossu M, Tassi L (2021) Temporal lobe epilepsy: A never-ending story. Epilepsy Behav 122: 108122. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108122
- Henning O, Heuser K, Larsen V, Kyte E, Kostov H, Marthinsen P, Egge A, Alfstad K, Nakken K (2023) Temporal lobe epilepsy. Tidsskr Nor Laegeforen 143. https://doi.org/10.4045/tidsskr.22.0369
- Jonas M, Cunha B (1982) Minocycline. Ther Drug Monit 4: 137–145.
- Singh T, Thapliyal S, Bhatia S, Singh V, Singh M, Singh H, Kumar A, Mishra A (2022) Reconnoitering the transformative journey of minocycline from an antibiotic to an antiepileptic drug. Life Sci 15: 120346. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2022.120346
- Костюкова АБ, Мосолов СН (2013) Нейровоспалительная гипотеза шизофрении и некоторые новые терапевтические подходы. Московский НИИ психиатрии Минздрава РФ 4: 8–17. [Kostyukova AB, Mosolov CH (2013) Neuroinflammatory hypothesis of schizophrenia and new therapeutical approaches. Moscow Res Institute of Psychiatry Minzdrava Rossii 4: 8–17. (In Russ)].
- Singh T, Thapliyal S, Bhatia S, Singh V, Singh M, Singh H, Kumar A, Mishra A (2022) Reconnoitering the transformative journey of minocycline from an antibiotic to an antiepileptic drug. Life Sci 15: 120346. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2022.120346
- Wang N, Mi X, Gao B, Gu J, Wang W, Zhang Y, Wang X (2015) Minocycline inhibits brain inflammation and attenuates spontaneous recurrent seizures following pilocarpine-induced status epilepticus. Neuroscience 287: 144–156. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2014.12.021
- Nagarakanti S, Bishburg E (2016) Is Minocycline an Antiviral Agent? A Review of Current Literature. Basic Clin Pharmacol Toxicol 118: 4–8. https://doi.org/10.1111/bcpt.12444
- Singh S, Khanna D, Kalra S (2021) Minocycline and Doxycycline: More Than Antibiotics. Curr Mol Pharmacol 14: 1046–1065. https://doi.org/10.2174/1874467214666210210122628.
- Бажанова Е, Козлов А, Соколова Ю (2023) Этиопатологические механизмы эпилепсии и сравнительная характеристика экспериментальных моделей аудиогенной эпилепсии. Эпилепсия и пароксизмальн состояния 15: 372–383. [Bazhanova E, Kozlov A, Sokolova J (2023) Etiopathological mechanisms of epilepsy and comparative characteristics of experimental models of audiogenic epilepsy. Epilepsiya i paroksizmal'nye sostoyaniya 15: 372–383. (In Russ)]. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.161
- Горбачева ЕЛ, Куликов АА, Черниговская ЕВ, Глазова МВ, Никитина ЛС (2019) Особенности функционального состояния гипоталама-гипофизарно-адренокортикальной системы у крыс линии Крушинского – Молодкиной. Рос физиол журн им ИМ Сеченова 105: 150–164. [Gorbacheva EL, Kulikova АА, Chernigovskayaa EV, Glazovaa MV, Nikitina LS (2019) Functional State of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis in Krushinsky–Molodkina Rats. Russ J Physiol 105: 150–164. (In Russ)]. https://doi.org/10.1134/S0869813919020043
- Paxinos G, Watson C (1998). The rat brain in stereotaxic coordinates. Academic Press 273.
- Dengler C, Coulter D (2016) Normal and epilepsy-associated pathologic function of the dentate gyrus. Prog Brain Res 226: 155–178. https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2016.04.005
- Nasr S, Moghimi A, Mohammad-Zadeh M, Shamsizadeh A, Noorbakhsh S (2013) The effect of minocycline on seizures induced by amygdala kindling in rats. Seizure 22: 670–674. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2013.05.005
- Nowak M, Strzelczyk A, Reif P, Schorlemmer K, Bauer S, Norwood B, Oertel W, Rosenow F, Strik H, Hamer H (2012). Minocycline as potent anticonvulsant in a patient with astrocytoma and drug resistant epilepsy. Seizure 21: 227–228. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2011.12.009
- Querol Pascual M (2007) Temporal lobe epilepsy: clinical semiology and neurophysiological studies.b Semin Ultrasound CT MR28: 416–423. https://doi.org/10.1053/j.sult.2007.09.004
- Alhusaini S, Whelan C, Doherty C, Delanty N, Fitzsimons M, Cavalleri G (2016) Temporal Cortex Morphology in Mesial Temporal Lobe Epilepsy Patients and Their Asymptomatic Siblings. Cereb Cortex 26: 1234–1241. https://doi.org/10.1093/cercor/bhu315
- Mizutani M, Sone D, Sano T, Kimura Y, Maikusa N, Shigemoto Y, Goto Y, Takao M, Iwasaki M, Matsuda H, Sato N, Saito Y (2021) Histopathological validation and clinical correlates of hippocampal subfield volumetry based on T2-weighted MRI in temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy Res 177: 106759. https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2021.106759
- Schmitt A, Tatsch L, Vollhardt A, Schneider-Axmann T, Raabe F, Roell L, Heinsen H, Hof P, Falkai P, Schmitz C (2022) Decreased Oligodendrocyte Number in Hippocampal Subfield CA4 in Schizophrenia: A Replication Study. Cells 11: 3242. https://doi.org/10.3390/cells11203242
- Wang Y, Tian Y, Long Z, Dong D, He Q, Qiu J, Feng T, Chen H, Tahmasian M, Lei X (2024) Volume of the Dentate Gyrus/CA4 Hippocampal subfield mediates the interplay between sleep quality and depressive symptoms. Int J Clin Health Psychol 24: 100432. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2023.100432
- Shahid S, Wen Q, Risacher S, Farlow M, Unverzagt F, Apostolova L, Foroud T, Zetterberg H, Blennow K, Saykin A, Wu Y (2022) Hippocampal-subfield microstructures and their relation to plasma biomarkers in Alzheimer's disease. Brain 145: 2149–2160. https://doi.org/10.1093/brain/awac138
- Stirling D, Koochesfahani K, Steeves J, Tetzlaff W (2005) Minocycline as a neuroprotective agent. Neuroscientist 11: 308–322. https://doi.org/10.1177/1073858405275175.
- Naderi Y, Panahi Y, Barreto G, Sahebkar A (2020) Neuroprotective effects of minocycline on focal cerebral ischemia injury: a systematic review. Neural Regen Res 15: 773–782. https://doi.org/10.4103/1673-5374.268898
- He J, Mao J, Hou L, Jin S, Wang X, Ding Z, Jin Z, Guo H, Dai R (2021) Minocycline attenuates neuronal apoptosis and improves motor function after traumatic brain injury in rats. Exp Anim 70: 563–569. https://doi.org/10.1538/expanim.21-0028
- Li J, Chen J, Mo H, Chen J, Qian C, Yan F, Chi G, Hu Q, Wang L, Chen G (2016) Minocycline Protects Against NLRP3 Inflammasome-Induced Inflammation and P53-Associated Apoptosis in Early Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage. Mol Neurobiol 53: 2668–2678. https://doi.org/10.1007/s12035-015-9318-8
- Kelly K, Sutton T, Weathered N, Ray N, Caldwell E, Plotkin Z, Dagher P (2004) Minocycline inhibits apoptosis and inflammation in a rat model of ischemic renal injury. Am J Physiol Renal Physiol 287: F760–F766. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00050.2004
- Xiong G, Hu T, Yang Y, Zhang H, Han M, Wang J, Jing Y, Liu H, Liao X, Liu Y (2024) Minocycline attenuates the bilirubin-induced developmental neurotoxicity through the regulation of innate immunity and oxidative stress in zebrafish embryos. Toxicol Appl Pharmacol 484: 116859. https://doi.org/10.1016/j.taap.2024.116859
- Ataie-Kachoie P, Pourgholami M, Bahrami-B F, Badar S, Morris D (2015) Minocycline attenuates hypoxia-inducible factor-1α expression correlated with modulation of p53 and AKT/mTOR/p70S6K/4E-BP1 pathway in ovarian cancer: in vitro and in vivo studies. Am J Cancer Res 5: 575–588.
- Roshanaee M, Abtahi-Eivary S, Shokoohi M, Fani M, Mahmoudian A, Moghimian M (2022) Protective Effect of Minocycline on Bax and Bcl-2 Gene Expression, Histological Damages and Oxidative Stress Induced by Ovarian Torsion in Adult Rats. Int J Fertil Steril 16: 30–35. https://doi.org/10.22074/IJFS.2021.522550.1069
- Levkovitch-Verbin H, Waserzoog Y, Vander S, Makarovsky D, Ilia P (2014) Minocycline mechanism of neuroprotection involves the Bcl-2 gene family in optic nerve transection. Int J Neurosci 124: 755–761. https://doi.org/10.3109/00207454.2013.878340
- Shokoohi M, Khaki A, Abadi A, Boukani L, Khodaie S, Kalarestaghi H, Khaki A, Moghimian M, Niazkar H, Shoorei H (2022) Minocycline can reduce testicular apoptosis related to varicocele in male rats. Andrologia 54: e14375. https://doi.org/10.1111/and.14375
- Rezaei A, Moqadami A, Khalaj-Kondori M, Feizi M (2024) Minocycline induced apoptosis and suppressed expression of matrix metalloproteinases 2 and 9 in the breast cancer MCF-7 cells. Mol Biol Rep 51: 463. https://doi.org/10.1007/s11033-024-09380-1
- Candé C, Cohen I, Daugas E, Ravagnan L, Larochette N, Zamzami N, Kroemer G (2002) Apoptosis-inducing factor (AIF): a novel caspase-independent death effector released from mitochondria. Biochimie 84: 215–222. https://doi.org/10.1016/s0300-9084(02)01374-3
- Luo Q, Wu X, Zhao P, Nan Y, Chang W, Zhu X, Su D, Liu Z (2021) OTUD1 Activates Caspase-Independent and Caspase-Dependent Apoptosis by Promoting AIF Nuclear Translocation and MCL1 Degradation. Adv Sci (Weinh) 8: 2002874. https://doi.org/10.1002/advs.202002874
- Chang C-J, Cherng C-H, Liou W-S, Liao C-L (2005) Minocycline partially inhibits caspase-3 activation and photoreceptor degeneration after photic injury. Ophthalmic 37: 202–213. https://doi.org/10.1159/000086610
- Krady J, Basu A, Allen C, Xu Y, LaNoue K, Gardner T, Levison S (2005) Minocycline reduces proinflammatory cytokine expression, microglial activation, and caspase-3 activation in a rodent model of diabetic retinopathy. Diabetes 54: 1559–1565. https://doi.org/10.2337/diabetes.54.5.1559
- Chen M, Ona V, Li M, Ferrante R, Fink K, Zhu S, Bian J, Guo L, Farrell L, Hersch S, Hobbs W, Vonsattel J, Cha J, Friedlander R (2000) Minocycline inhibits caspase-1 and caspase-3 expression and delays mortality in a transgenic mouse model of Huntington disease. Nat Med 6: 797–801. https://doi.org/10.1038/77528
- Wei X, Zhao L, Liu J, Dodel R, Farlow M, Du Y (2005) Minocycline prevents gentamicin-induced ototoxicity by inhibiting p38 MAP kinase phosphorylation and caspase 3 activation. Neuroscience 131: 513–521. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2004.11.014
- Mishra M, Basu A (2008) Minocycline neuroprotects, reduces microglial activation, inhibits caspase 3 induction, and viral replication following Japanese encephalitis. J Neurochem 105: 1582–1595. https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2008.05238.x
- Hirsch E, Breidert T, Rousselet E, Hunot S, Hartmann A, Michel P (2003) The role of glial reaction and inflammation in Parkinson's disease. Ann NY Acad Sci 991: 214–228. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2003.tb07478.x
Supplementary files