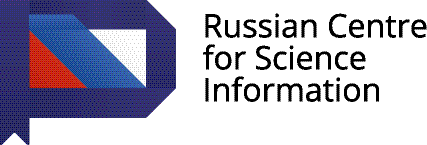Glibenclamide Prevents Inflammation by Targeting NLRP3 Inflammasome Activation In Vitro
- 作者: Khilazheva E.D.1,2, Panina Y.A.1,2, Mosiagina A.I.1,2, Belozor O.S.1,2, Komleva Y.K.3
-
隶属关系:
- Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
- Research Institute of Molecular Medicine and Pathobiochemistry, Educational Institution of Higher Education «Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
- Brain Institute, Scientific Center of Neurology
- 期: 卷 110, 编号 5 (2024)
- 页面: 736-752
- 栏目: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://medbiosci.ru/0869-8139/article/view/266892
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813924050067
- EDN: https://elibrary.ru/BLEFSY
- ID: 266892
如何引用文章
全文:
详细
The NLRP3 inflammasome is known to play a significant role in the development of neurodegeneration and physiological aging, as well as the development of metabolic inflammation, which has generated significant interest in the scientific community in finding effective inhibitors of the NLRP3 inflammasome and assessing their effects. The purpose of this study was to evaluate the effect of pharmacological modulation of NLRP3 activity using an indirect NLRP3 inflammasome inhibitor, glibenclamide, on the expression of metaflammasome components in in vitro brain cells obtained from middle-aged mice. The study revealed that glibenclamide reduces the expression of pro-inflammatory markers NLRP3 and IL18 in cell culture, which in turn leads to the prevention of phosphorylation of protein kinases of the metaflammasome complex – PKR and IKKβ. However, we did not observe changes in the expression of pathologically phosphorylated IRS, as well as in the number of senescent cells in cultures after the exposure to glibenclamide.
全文:
ВВЕДЕНИЕ
В связи с демографическими изменениями в обществе растет число людей средней возрастной группы и пожилого возраста, страдающих метаболическим синдромом, нейродегенеративными и другими возраст-ассоциированными заболеваниями. Воспаление играет решающую роль в развитии метаболических нарушений и когнитивных дефицитов при старении [1]. В соответствии с этой точкой зрения клинические исследования свидетельствуют о возможной ранней патогенетической роли системного воспаления как фактора когнитивного снижения в течение десятилетий, предшествующих пожилому возрасту. При анализе когнитивных областей повышенный уровень маркеров воспаления в середине жизни наиболее устойчиво ассоциировался со снижением памяти [2].
Инфламмасомы, ключевые белковые комплексы, играют важнейшую роль в присущем организму воспалительном процессе в ответ на молекулярные паттерны, ассоциированные с опасностью (DAMP), высвобождающиеся при повреждении тканей [3]. Среди них каноническая инфламмасома – цитозольный белок, Nod-подобный рецептор семейства NALP, основной компонент одноименного типа инфламмасом (NLRP3 инфламмасом) – запускает активацию предшественника каспазы-1 (прокаспазы-1) с последующим активным протеолитическим расщеплением провоспалительного интерлейкина-1β (IL-1β) [4].
Ранее нами была показана роль NLRP3 в нейродегенерации и физиологическом старении, а именно влияние на память и нейрогенез. Мы подтвердили, что базальный уровень экспрессии NLRP3 необходим для процессов нейрогенеза, регулируя в основном ранние стадии – пролиферацию и дифференцировку клеток. Наши данные свидетельствуют о том, что экспрессия инфламмасом NLRP3 в нейрональных стволовых клетках и нейробластах может способствовать стимуляции нейрогенеза у взрослых в физиологических условиях [5]. В этой связи логичным является изучение влияния коррекции NLRP3 с помощью фармакологических модуляторов на процессы нейрогенеза.
Существует связь между воспалением и метаболическими нарушениями, которую описали термином «метавоспаление» [6, 7]. Данный термин был предложен для описания воспаления низкой степени, оркеструемого адипоцитами и гепатоцитами и индуцируемого стрессом эндоплазматического ретикулума, липидным стрессом (например, ожирение, диабет 2-го типа, дислипидемия) или инфекционным стрессом. В качестве основных игроков, связывающих питательный стресс, воспаление и регуляцию метаболизма, была выделена группа белков, получившая название метафламмасомы [8]. Согласно результатам предыдущих исследований, белок PKR (дцРНК-зависимая протеинкиназа) является ключевым и играет важную роль в регуляции других компонентов метафламмасомы, включая JNK (c-Jun N-terminal kinase, c-Jun N-терминальные киназы), IRS1 (Insulin receptor substrate 1, субстрат инсулинового рецептора 1) и IKKbeta (IκB kinase beta, киназа ингибитора ядерного фактора NF-kB, субъединица бета) [9].
Связь инфламмасомы NLRP3 с множеством заболеваний, в том числе и нарушениями в метаболизме, вызывает значительный интерес научного сообщества к поиску эффективных ингибиторов инфламмасомы NLRP3. Используя преимущества сложного сигнального каскада инфламмасомы NLRP3, для ее ингибирования можно использовать разнообразные мишени. Например, ингибирование активации инфламмасомы NLRP3, подавление восходящих сигналов, блокада сборки инфламмасомы, ингибирование активации каспазы-1, блокада расщепления порообразующего белка гасдермина D (GSDMD), нейтрализация воспалительных цитокинов, продуцируемых инфламмасомой NLRP3, могут быть направлены на потенциальное ингибирование инфламмасомы NLRP3 [10].
Глибенкламид – наиболее широко используемый препарат сульфонилмочевины для лечения сахарного диабета 2-го типа. Недавние исследования показали, что глибенкламид снижает негативное нейровоспаление и улучшает поведенческие показатели после травмы центральной нервной системы (ЦНС). Глибенкламид может блокировать KATP-канал, канал Sur1-Trpm4, активацию NLRP3, снижать продукцию провоспалительных медиаторов (TNF-α, IL-1β и реактивных форм кислорода) и подавлять накопление воспалительных клеток. Однако противовоспалительное действие глибенкламида требует дальнейшего изучения [11]. Кроме того, глибенкламид проявлял ингибирующую активность in vitro и in vivo в отношении активации NLRP3 инфламмасомы. Однако in vivo дозы глибенкламида для оказания ингибирующего действия достаточно высоки, что вызывает гипогликемию, поэтому его применение ограничено только сахарным диабетом. Остается неясным, способствуют ли противовоспалительные эффекты глибенкламида изменению экспрессии компонентов метафламмасом [10].
Также следует отметить, что очень важно изучать долгосрочные последствия системного воспаления в середине жизни, поскольку считается, что именно в середине жизни начинаются многие патологические процессы, лежащие в основе возрастных когнитивных нарушений и деменции, и, возможно, именно этот период наиболее чувствителен к вмешательствам и потенциальной коррекции [2]. Целью настоящего исследования стало изучение влияния фармакологической модуляции активности NLRP3 с использованием непрямого блокатора NLRP3 инфламмасом – глибенкламида – на экспрессию компонентов метафламмасом в клетках головного мозга in vitro.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовались мыши линии C57BL/6 – самцы в возрасте 14–15 месяцев для включения в среднюю возрастную группу (соотносится с возрастом человека от 38 до 47 лет), поскольку, согласно данным литературы, мышам должно быть не менее 10 месяцев, а верхний возрастной предел составляет около 14–15 месяцев [12]. Масса животных составляла 25–30 г (n = 6). Грызунов содержали в индивидуально-вентилируемых клетках по 5–6 особей с соблюдением температуры в виварии 21–22 ºC со свободным доступом к воде и гранулированному корму и с регулярным световым циклом 12 ч день/12 ч ночь. Все манипуляции выполнялись во время светлой фазы дня. В ходе эксперимента были предприняты все усилия для сведения к минимуму страданий животных и сокращения их числа согласно принципам работы с животными (Принцип 3 «R»).
Выделение и культивирование нейросфер
Животных декапитировали и производили забор головного мозга. Извлеченный мозг помещали в ледяной раствор 2%-ной глюкозы в PBS (ПанЭко, Россия), после чего выделяли гиппокамп и измельчали его скальпелем на кусочки размером около 1 мм3. Полученные кусочки ткани переносили пастеровской пипеткой в центрифужную пробирку, содержащую свежий раствор 2%-ной глюкозы в PBS, и оставляли на 1 мин. После осаждения кусочков ткани удаляли супернатант. В пробирку вносили 3 мл среды NeuroCult NS-A Proliferation (StemCell, США) и проводили механическую диссоциацию ткани стерильной серологической пипеткой до получения однородной суспензии клеток, после чего центрифугировали при 150 g в течение 5 мин. После центрифугирования удаляли супернатант и добавляли 3 мл свежей среды NeuroCult NS-A Proliferation. Полученную клеточную суспензию переносили в культуральные флаконы T-75 см2 с 25 мл среды NeuroCult NS-A Proliferation. Культивирование осуществлялось в условиях инкубатора при 5% CO2 и 37 °C. Через 48 ч после выделения наблюдали образование нейросфер. Пассаж и смену среды осуществляли каждые 4–5 дней.
Дифференцировка нейросфер
На 3-м пассаже собирали из флакона среду, нейросферы осаждали центрифугированием при 300 g в течение 5 мин. Супернатант сливали, нейросферы ресуспендировали в культуральной среде DMEM (ПанЭко, Россия) с добавлением 20% FBS (HyClone, США), 0.58 мг/мл глутамина (ПанЭко, Россия), 100 ЕД/мл пенициллина и 100 мг/мл стрептомицина (ПанЭко, Россия). Клетки засеивали в культуральные флаконы T-75 см2. Через 5–7 дней наблюдали дифференцировку нейросфер в сокультуру астроцитов и нейронов. Через 10 дней дифференцированную культуру клеток пересаживали в 24-луночные или 96-луночные культуральные планшеты для дальнейшего изучения.
Фармакологическая модуляция инфламмасом
Фармакологическая модуляция инфламмасом осуществлялась путем добавления блокатора NLRP инфламмасом, глибенкламида, в конечной концентрации в среде 200 мкМ, инкубация продолжалась 1 ч в стандартных условиях. Эффективность дозы и длительность инкубации были показаны в исследованиях ранее [11].
Исследование сенесценции
Репликативное старение клеток или сенесценция – это необратимая остановка клеточного цикла и потеря способности к пролиферации соматических клеток вследствие накопления повреждений ДНК и истощения репаративных механизмов. Общепринятым и наиболее широко используемым биомаркером для определения старения клеток является β-галактозидаза, ассоциированная с клеточной сенесценцией (SA-β-gal), а точнее ее активность при pH 6.0 в стареющих клетках [13, 14]. SA-β-gal присутствует только в сенесцентных и не обнаруживается в предсенесцентных, покоящихся и иммортализованных клетках, а активность SA-β-gal обычно определяется путем иммуногистохимического окрашивания клеток и тканей с хромогенным субстратом X-gal. Для обнаружения клеточной сенесценции использовали набор Senescence Detection Kit (K320, BioVision, США) и работали согласно протоколу фирмы-изготовителя. Клетки фиксировали с помощью Fixative Solution в течение 15 мин, однократно промывали PBS, после чего добавляли к клеткам Staining Solution Mix и инкубировали при 37 °C в течение ночи. По завершении инкубации наблюдали появление голубой окраски клеток. Интенсивность окраски определяли спектрофотометрически, оценивали оптическую плотность при длине волны 620 нм с помощью планшетного спектрофотометра Anthos (Biochrom, Великобритания). Предварительно в лунки 96-луночного планшета засевали клетки с одинаковой плотностью в количестве 3000 клеток на лунку. Репрезентативные микрофотографии клеток получали c помощью флуоресцентного микроскопа ZOE (Bio-Rad, США).
Иммуноцитохимическое окрашивание
Для регистрации целевых молекул-маркеров использовали метод двойного непрямого иммуноцитохимического окрашивания согласно протоколу фирмы-изготовителя антител. Были использованы первичные антитела к GFAP (ab4648, Abcam, Великобритания), NeuN (ABN78, Merck Millipore, Германия), NLRP3 (ab2307396, Abcam, Великобритания), IL18 (Santa Cruz Biotechnology, США), pIKKβ (Abcam, Великобритания), PKR (ab32506, Abcam, Великобритания), IR (ab137747, Abcam, Великобритания); IRS1 (phospho S312) (ab66154, Abcam, Великобритания), HMGB1 (ab77302, Abcam, Великобритания).
Первичные антитела использовали в рабочем разведении 1:300. Время инкубации с первичными антителами составляло 18 ч при 4 ºС. Вторичные антитела, меченые Alexa 555 (ab150078, Abcam, Великобритания) и Alexa 488 (ab150117, Abcam, Великобритания) использовали в разведении 1:500, время инкубации составляло 2 ч при 37 ºС. Перед началом микроскопии ядра клеток окрашивали DAPI (D9542, Sigma Aldrich, США).
Микроскопию клеток осуществляли на флуоресцентном микроскопе ZOE (Bio-Rad, США). Выполняли подсчет относительного количества клеток, экспрессирующих антиген, а также интенсивность флуоресценции исследуемых маркеров с помощью программного обеспечения ImageJ. Относительное количество клеток определяли по соотношению количества иммунопозитивных клеток к общему количеству клеток в поле зрения. Интенсивность флуоресценции определяли с помощью функции «Measure», предварительно выделив область интереса, после чего из полученных значений вычитали интенсивность флуоресценции фона. Для обсчета использовали минимум 5 случайно выбранных полей зрения на лунку и по 2 лунки на экспериментальную группу.
Электрофизиологические исследования
В электрофизиологических экспериментах использовались коронарные живые срезы головного мозга. Для приготовления живых срезов мыши были глубоко анестезированы внутрибрюшинной инъекцией хлоралгидрата (400 мг/кг массы тела), декапитированы, вскрыта черепная коробка и забран головной мозг с последующим охлаждением в ледяном модифицированном растворе Рингера, содержащем (мМ) 234 сахарозы, 2.5 KC1, 1.25 NaH2PO4, 10 MgSO4, 0.5 CaCl2, 26 NaHCO3, 11 D-глюкозы), в течение 1 мин, с аэрацией смесью газов 95% O2 и 5% CO2. Затем были выделены полушария мозга и использованы для приготовления срезов с помощью вибротома. Срезы толщиной 250 мкм инкубировались не менее 1 ч при комнатной температуре в иСМЖ, содержащей (мМ) 125 NaCl, 2.5 KC1, 1.25 NaH2PO4, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 26 NaHCO3, 10 D-глюкозы, раствор перфузировался 95% О2 и 5% СО2.
Регистрация пВПСП производилась с помощью Cl-Ag электрода в стеклянной боросиликатной пипетке, заполненного иСМЖ. Стимуляция пресинаптических волокон производилась с помощью платино-иридиумового электрода. Запись потенциалов и стимуляция производилась с СА1 зоны гиппокампа. Данные образования визуально определялись по характерным формам при увеличении объектива х10. Стимуляцию и регистрацию осуществляли с помощью программного обеспечения «Pachmaster» («HEKA») и усилителя «pClamp10» («Molecular Devices»). Полученные записи анализировали в программе Clampfit 10.5 (Axon Instruments).
Полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП) вызывали импульсами с частотой стимуляции 0.33 Гц и с интенсивностью, которая могла вызвать 50% максимального ответа пВПСП. Наклон пВПСП рассчитывался как абсолютное значение максимального наклона нисходящей фазы между 5 и 95% отрицательного пика.
Для контроля записывали пВПСП в течение 10 мин. LTP индуцировали в области CA1 с помощью стимуляции тета-всплеска (TBS) из 5 серий, разделенных 10 с [15]. Каждая последовательность состояла из 25 повторов по 5 импульсов с частотой 100 Гц с интервалом 200 мс (5 Гц). После стимуляции продолжали запись 30 мин. Усредненные амплитуды последующих пВПСП за 5 мин нормализовали к среднему значению контрольных ответов, вызванных до индукции.
Для оценки влияния глибенкламида на синаптическую передачу добавляли глибенкламид в ванночку до начала записи в конечной концентрации в среде 200 мкМ. Записи с контрольной группы проводили без добавления глибенкламида.
Статистический анализ
Статистический анализ полученных результатов включал методы описательной статистики с использованием программы GraphPad Prism7 (GraphPad Software, La Jolla, CA, США). Критерий Колмогорова – Смирнова использовали для оценки нормальности распределения. При несоблюдении условий нормальности распределения сравнение двух групп осуществляли с помощью непараметрического U критерия Манна – Уитни. Уровень значимости при проверке гипотез принимали при р ≤ 0.05. Все результаты представлены в виде Me (Q1; Q3), где Me – медиана, Q1, Q3 – нижний и верхний квартили, p – уровень значимости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глибенкламид функционально изменяет экспрессию провоспалительных маркеров, но не сенесценцию
Данные по свойству глибенкламида действовать до сборки инфламмасомы NLRP3 и блокировать нижестоящие пути активации инфламмасомы и образование провоспалительных маркеров в микроглии побудило нас продолжить изучение функционального влияния глибенкламида в сокультуре астроцитов и нейронов (рис. 1). Во-первых, мы изучили эффекты глибенкламида на экспрессию NLRP3 инфламмасом, IL18 и HMGB1, а также развитие SASP фенотипа в клетках, полученных от животных средней возрастной группы. Экзогенно апплицируемый на клетки глибенкламид подавлял экспрессию NLRP3 инфламмасом, IL18, но не факторов SASP (включая HMGB1 и активность сенесценция-ассоциированной β-галактозидазы (SA-β-gal).
Рис. 1. Сокультура астроцитов и нейронов, полученных от мышей в возрасте 14 месяцев: ядра клеток окрашены DAPI (голубой), показана экспрессия маркера астроцитов GFAP (зеленый) и маркера нейронов NeuN (красный). Шкала – 50 мкм.
Иммуноцитохимический анализ показал, что инкубация сокультуры астроцитов и нейронов в присутствии глибенкламида приводит к статистически значимому снижению интенсивности флуоресценции NLRP3 с 15.15 (14.28; 16.63) у. е. в группе контроля до 8.65 (7.35; 9.58) у. е. в опытной группе (р = 0.01, критерий Манна – Уитни) (рис. 2).
Рис. 2. (а) – количественный анализ экспрессии NLRP3 в сокультуре клеток в экспериментальных группах. (b) – репрезентативные снимки экспрессии NLRP3 (зеленый) клетками. Ядра клеток окрашены DAPI (голубой). Шкала 50 – мкм. ** – уровень статистической значимости, р < 0.01.
Аналогичные данные получены при анализе экспрессии IL18 в экспериментальных группах – инкубация сокультуры астроцитов и нейронов приводила к снижению интенсивности флуоресценции IL18 с 9.65 (9.20; 10.40) у. е. в контрольной группе до 5.25 (4.20; 5.80) у. е. в группе клеток, инкубируемых с глибенкламидом (р = 0.01, критерий Манна – Уитни) (рис. 3). Таким образом, глибенкламид подавляет экспрессию маркеров воспаления у животных средней возрастной группы.
Рис. 3. (а) – количественный анализ экспрессии IL18 в сокультуре клеток в экспериментальных группах. (b) – репрезентативные снимки экспрессии IL18 (зеленый) клетками. Ядра клеток окрашены DAPI (голубой). Шкала – 30 мкм. ** – уровень статистической значимости, р < 0.01.
Анализ активности β-галактозидазы в сокультуре нейронов и астроцитов (рис. 1), полученных от животных средней возрастной группы, проводили с использованием набора SA-β-gal. Полученные данные демонстрируют отсутствие статистически значимых различий между β-галактозидазной активностью клеток контрольной группы (0.084 (0.067; 0.089) у. е.) и клеток, инкубируемых в присутствии глибенкламида (0.065 (0.059; 0.079) у. е.) (р = 0.1580, критерий Манна – Уитни) (рис. 4).
Рис. 4. (а) – количественный анализ SA-β-gal + клеток, представленный в виде оптической плотности в у.е. в сокультуре клеток. (b) – репрезентативные снимки окраски SA-β-gal in vitro. Шкала – 100 мкм.
Также нами была исследована экспрессия белка HMGB1 (high mobility group box 1), который преимущественно содержится в ядре клеток, где выполняет функции шаперона ДНК, однако наряду с этим является одним из наиболее изученных DAMPs [16]. Анализ полученных данных показал, что присутствие в среде культивирования глибенкламида не оказывает статистически значимого влияния на уровень экспрессии HMGB1. Так, в клетках контрольной группы средняя интенсивность флуоресценции HMGB1 была равна 6.25 (5.22; 7.40) у. е., а в клетках опытной группы 5.45 (4.48; 7.31) у. е. (р = 0.4206, критерий Манна – Уитни) (рис. 5).
Рис. 5. (а) – количественный анализ экспрессии HMGB1 в сокультуре клеток в экспериментальных группах. (b) – репрезентативные снимки экспрессии HMGB1 (красный) клетками. Ядра клеток окрашены DAPI (голубой). Шкала – 50 мкм.
Снижение экспрессии NLRP3 за счет действия глибенкламида может предотвращать фосфорилирование протеинкиназ метафламмасомного комплекса
В результате изучения экспрессии фосфорилированных форм протеинкиназ метафламмасомного комплекса было выявлено статистически значимое снижение экспрессии PKR и p-IKKbeta. Так, уровень флуоресценции PKR в сокультуре астроцитов и нейронов в контрольной группе составил 6.25 (6.03; 8.82) у. е., а в сокультуре клеток, инкубированных в присутствии глибенкламида, 5.30 (5.02; 5.85) у. е. (р = 0.016, критерий Манна – Уитни) (рис. 6).
Рис. 6. (а) – количественный анализ экспрессии PKR в сокультуре клеток в экспериментальных группах. (b) – репрезентативные снимки экспрессии PKR (красный) клетками. Ядра клеток окрашены DAPI (голубой). Шкала – 30 мкм. * – уровень статистической значимости, р < 0.05.
Интенсивность флуоресценции p-IKKbeta в клетках контрольной группы статистически значимо снизилась с 12.10 (11.00; 13,71) у. е. в контрольной группе до 9.41 (8.65; 10.30) у. е. в группе клеток, инкубируемых с глибенкламидом (р = 0.008, критерий Манна – Уитни) (рис. 7).
Рис. 7. (а) – количественный анализ экспрессии p-IKKbeta в сокультуре клеток в экспериментальных группах. (b) – репрезентативные снимки экспрессии p-IKKbeta (красный) клетками. Ядра клеток окрашены DAPI (голубой). Шкала – 50 мкм. ** – уровень статистической значимости, р < 0.01.
Статистически значимых различий в экспрессии pIRS-Ser выявлено не было: (10.86 (8.50; 12.79) у. е. в группе контроля и 10.25 (9.47; 11.38) у. е. в опытной группе) (р = 0.84, критерий Манна – Уитни) (рис. 8).
Рис. 8. (а) – количественный анализ экспрессии pIRS-Ser в сокультуре клеток в экспериментальных группах. (b) – репрезентативные снимки экспрессии pIRS-Ser (красный) клетками. Ядра клеток окрашены DAPI (голубой). Шкала – 50 мкм.
Воздействие глибенкламида изменяет значение времени нарастания полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов
В электрофизиологических исследованиях не было выявлено значимых различий в амплитуде и наклоне пВПСП в группах с добавлением и без добавления глибенкламида, однако время нарастания пВПСП в группе с добавлением глибенкламида оказалось статистически значимо ниже (1.05 ± 0.14 мс в группе без добавления глибенкламида и 0.74 ± 0.05 мс в группе с глибенкламидом, р = 0.042, критерий Манна – Уитни) (рис. 9), что может говорить о влиянии глибенкламида на синаптическую передачу у мышей.
Рис. 9. (а) – сводная диаграмма амплитуд; (b) – сводная диаграмма значений времени нарастания; (с) – сводная диаграмма значений наклона пВПСП зоны СА1 гиппокампа; (d) – сводная диаграмма изменений наклона пВПСП после тетанус-стимуляции зоны СА1 гиппокампа. * – уровень статистической значимости, р < 0.05.
Результаты LTP, индуцированной TBS, не показали значимых различий в контрольной группе и группе с добавлением глибенкламида, так как, вероятно, длительная стимуляция не может эффективно активировать синапсы у мышей средней возрастной группы (рис. 9).
Синаптическая передача включает высвобождение нейротрансмиттеров из пресинаптических нейронов, которые затем связываются со специфическими постсинаптическими рецепторами. Амплитуда, наклон и время нарастания пВПСП указывают на силу возбуждающей синаптической передачи: насколько много пирамидных нейронов, вырабатывающих потенциалы действия, настолько быстро нейромедиатор высвобождается пресинапсом и связывается с рецептором на постсинапсе [17, 18].
Количество AMPA-рецепторов глутамата в синапсах является основным фактором, определяющим силу синапса, и варьируется от синапса к синапсу [19]. Также сила ответа пВПСП зависит от активации других глутаматных или ГАМК-ергических рецепторов. Кроме того, глутамат может высвобождаться не только нейронами, но также и астроцитами, и клетками микроглии, что наблюдается при воспалении [20, 21].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее нами было показано, что старение сопровождается увеличением числа сенесцентных клеток и повышением экспрессии маркеров воспаления, увеличением экспрессии фосфорилированных протеиназ метафламмасом PKR и IKKbeta. При этом старение у мышей не приводило к изменению в экспрессии субстрата инсулиновых рецепторов 1 (IRS1phospho-S312) и инсулиновых рецепторов (IR), это позволяет предположить, что при физиологическом старении, без признаков нейродегенерации и реактивного астроглиоза, еще не наблюдается нарушений инсулиновой сигнализации, но уже наблюдаются проявления метаболического воспаления. Также нами было показано, что делеция гена Nlrp3 предотвращала возрастные метаболические изменения у NLRP3–/– нокаутных мышей, улучшая поведенческие и биохимические характеристики, связанные со старением, такие как сигнальная память (также известная как сенсорная память), относящаяся к способности мозга кратковременно сохранять поступающую из окружающей среды сенсорную информацию, тревожность, социальные функции, активность гликолиза, нейровоспаление, метавоспаление [22].
Имеются литературные данные, что глибенкламид оказывает нейропротекторное действие. Так, например, предполагается, что глибенкламид эффективно подавляет миграцию воспалительных клеток путем ингибирования сборки NLRP3 инфламмасомы, тем самым уменьшая инфильтрацию воспалительных клеток и предотвращая дальнейшее повреждение органов в ишемизированной ткани [23]. В одном из исследований было показано, что глибенкламид защищает целостность гематоэнцефалического барьера, что снижает индуцированную экстравазированным белком продукцию провоспалительных медиаторов и улучшает неврологические исходы после экспериментальной ишемии головного мозга [24, 25]. Поэтому мы проверили гипотезу о том, что глибенкламид ослабляет экспрессию PKR и последующую активацию фосфорилированных протеинкиназ путем ингибирования активации NLRP3 инфламмасомы.
Кроме того, было показано, что при обработке переживающих срезов глибенкламидом наблюдается уменьшение времени нарастания полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов. Такое уменьшение времени нарастания пВПСП говорит о более быстром выделении глутамата в синаптическую щель или о более быстром взаимодействии с рецепторами, что также может быть связано с изменением распределения рецепторов на постсинапсе. Глибенкламид блокирует АТФ-зависимые калиевые каналы (К+-АТФ-каналы). Прекращение выхода из клетки калия приводит к деполяризации мембраны и притоку ионов Ca2+ через потенциалзависимые кальциевые каналы. Повышение концентрации ионов Ca2+ в клетке способствует выделению нейромедиаторов в синаптическую щель, что могло вызвать изменение времени нарастания пВПСП у зрелых мышей. Ранее было продемонстрировано, что глибенкламид менее специфичен к TRPM4-каналам и широко известен своей способностью антагонизировать SUR1-Kir6.2- (т. е. К+-АТФ) каналы. Было показано, что каналы SUR1-TRPM4 также объединяются в единые ансамбли и что эффективность глибенкламида в отношении каналов SUR1-TRPM4 в 100 раз выше, чем в отношении гомомерных каналов TRPM4. Интересно, что в условиях гипогликемии глибенкламид через К+-АТФ-каналы снижает возбуждающие постсинаптические потенциалы в нейроглиальных клетках коры головного мозга, но не в пирамидных нейронах. Поскольку TRPM4 активируется внутриклеточным кальцием и проводит моновалентные катионы, TRPM4 может способствовать и усиливать возбуждающую синаптическую передачу в пирамидальных нейронах СА1 гиппокампа [26].
Более того, ранее было продемонстрировано, что глибенкламид снижает АТФиндуцированное повышение внутриклеточного кальциевого перехода через ингибирование реактивных форм кислорода и активности митохондрий в макрофагах [27]. Однако для выявления влияния глибенкламида на другие физиологические функции клеток гиппокампа через регуляцию гомеостаза [Ca2+]i необходимо проведение дальнейших исследований.
В ходе текущего исследования было выявлено, что глибенкламид функционально изменяет экспрессию провоспалительных маркеров, но не сенесценцию в сокультуре астроцитов и нейронов. Также снижение экспрессии NLRP3 за счет действия глибенкламида приводит к предотвращению фосфорилирования протеинкиназ метафламмасомного комплекса.
Кроме того, было показано, что расположение PKR и IRS1 было ядерным, что согласуется с результатами предыдущих исследований, проведенных в мозге больных с болезнью Альцгеймера [28]. IKKβ был обнаружен в цитоплазме нейронов, что также согласуется с результатами предыдущих исследований, показавших его цитоплазматическое расположение [29].
Мы предположили, что фармакологическая модуляция инфламмасом глибенкламидом приводит к снижению экспрессии PKR. Известно, что PKR – это проапоптотическая серин/треониновая киназа, активация которой путем фосфорилирования инициирует каскад нейродегенеративных клеточных событий, приводящих к апоптозу [8]. Было показано, что анализ PKR в цереброспинальной жидкости позволяет прогнозировать снижение когнитивных способностей [30], что подтверждает идею использования PKR в качестве биомаркера болезни Альцгеймера [29]. Интересно, что для других белков, участвующих в работе предполагаемой метафламмасомы, ранее было показано, что высокая экспрессия IRS1 и PKR связана с ухудшением познавательной деятельности, но не с наличием деменции [29]. Это, возможно, предполагает участие этих компонентов на ранних стадиях болезни Альцгеймера или при легких когнитивных расстройствах, которые могут развиваться в более раннем возрасте.
Наши результаты показали, что снижение PKR in vitro, индуцированное в мозге под действием глибенкламида, может предотвратить фосфорилирование IKKbeta. Воспаление запускается путем активации IKKbeta, который катализирует диссоциацию IkB от ядерного фактора NF-κB, что приводит к увеличению транслокации NF-kB в ядро для запуска транскрипции генов, кодирующих воспалительные цитокины, такие как интерлейкин 1β (IL-1β) и IL-6 [31]. Таким образом, снижение IKKbeta снижает транслокацию NF-kβ в ядро. Кроме того, имеются исследования, демонстрирующие, что снижение воспалительной способности нейронов путем делеции или ингибирования промежуточных звеньев пути NF-κB (например, IKKβ) восстанавливает гипоталамический контроль энергетического баланса, что приводит к снижению восприимчивости к ожирению и толерантности глюкозы [32].
При этом мы не наблюдали изменения экспрессии патологически фосфорилированного IRS, а также числа сенесцентных клеток в культурах, полученных от животных средней возрастной группы, после воздействия глибенкламидом. Биологические эффекты передачи сигналов инсулина регулируются фосфорилированием субстрата инсулинового рецептора 1 (IRS1) по остаткам серина. В головном мозге фосфорилирование IRS1 в специфических участках серина увеличивается при болезни Альцгеймера у пациентов и у животных с моделью болезни Альцгеймера. Также показано, что фосфорилирование IRS1 в специфических сайтах серина является потенциальным маркером несвязанных с Aβ дефицитов памяти, вызванных сахарным диабетом 2-го типа и старением; однако при ухудшении памяти, связанном с Aβ, модификации IRS1 могут быть маркером раннего выявления повышения Aβ42 до начала ухудшения памяти при болезни Альцгеймера [33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, глибенкламид снижает экспрессию провоспалительных маркеров NLRP3 и IL18 в культуре клеток головного мозга in vitro, что, в свою очередь, приводит к предотвращению фосфорилирования протеинкиназ метафламмасомного комплекса – PKR и IKKβ. Блокирование NLRP3 инфламмасом глибенкламидом сопровождается снижением времени нарастания пВПСП у зрелых мышей. При этом не наблюдается изменения экспрессии патологически фосфорилированного IRS, а также числа сенесцентных клеток в культурах после воздействия глибенкламидом при используемых в работе условиях инкубации.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Работа выполнена на приборной базе Центра коллективного пользования «Молекулярные и клеточные технологии», Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, г. Красноярск, Россия.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея и планирование эксперимента (Ю.К.К., Е.Д.Х.), проведение эксперимента (Ю.К.К., Е.Д.Х., О.С.Б., Ю.А.П., А.И.М.), обработка данных, подготовка графических материалов (Ю.К.К., Е.Д.Х., О.С.Б.), написание и редактирование манускрипта (Ю.К.К., Е.Д.Х.).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа финансировалась за счет средств гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук, МД-2368.2022.3, 2022–2023 гг. финансирования. Анализ данных выполнен при поддержке государственного задания «Фундаментальные аспекты нейропластичности в рамках модели трансляционной неврологии», фрагмент «Клеточно-молекулярные механизмы повреждения нейроваскулярной единицы головного мозга и гематоэнцефалического барьера при церебральной патологии» № 122041800164–3. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Эксперименты с животными проводились в соответствии с международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с лабораторными животными и были одобрены Комиссией по этике при Красноярском медицинском университете им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, протокол № 2 от 01.11.2022 г.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
作者简介
E. Khilazheva
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; Research Institute of Molecular Medicine and Pathobiochemistry, Educational Institution of Higher Education «Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Email: yuliakomleva@mail.ru
俄罗斯联邦, Krasnoyarsk; Krasnoyarsk
Yu. Panina
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; Research Institute of Molecular Medicine and Pathobiochemistry, Educational Institution of Higher Education «Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Email: yuliakomleva@mail.ru
俄罗斯联邦, Krasnoyarsk; Krasnoyarsk
A. Mosiagina
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; Research Institute of Molecular Medicine and Pathobiochemistry, Educational Institution of Higher Education «Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Email: yuliakomleva@mail.ru
俄罗斯联邦, Krasnoyarsk; Krasnoyarsk
O. Belozor
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; Research Institute of Molecular Medicine and Pathobiochemistry, Educational Institution of Higher Education «Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Email: yuliakomleva@mail.ru
俄罗斯联邦, Krasnoyarsk; Krasnoyarsk
Yu. Komleva
Brain Institute, Scientific Center of Neurology
编辑信件的主要联系方式.
Email: yuliakomleva@mail.ru
俄罗斯联邦, Moscow
参考
- Zhao Q, Tan X, Su Z, Manzi HP, Su L, Tang Z, Zhang Y (2023) The Relationship between the Dietary Inflammatory Index (DII) and Metabolic Syndrome (MetS) in Middle-Aged and Elderly Individuals in the United States. Nutrients 15: 1857. https://doi.org/10.3390/nu15081857
- Walker KA, Gottesman RF, Wu A, Knopman DS, Gross AL, Mosley TH, Selvin E, Windham BG (2019) Systemic inflammation during midlife and cognitive change over 20 years: The ARIC Study. Neurology 92: e1256–e1267. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007094
- Latz E, Xiao TS, Stutz A (2013) Activation and regulation of the inflammasomes. Nat Rev Immunol 13: 397–411. https://doi.org/10.1038/nri3452
- Sharma BR, Kanneganti T-D (2021) NLRP3 inflammasome in cancer and metabolic diseases. Nat Immunol 22: 550–559. https://doi.org/10.1038/s41590–021–00886–5
- Komleva YK, Lopatina OL, Gorina YV, Chernykh AI, Trufanova LV, Vais EF, Kharitonova EV, Zhukov EL, Vahtina LY, Medvedeva NN, Salmina AB (2022) Expression of NLRP3 Inflammasomes in Neurogenic Niche Contributes to the Effect of Spatial Learning in Physiological Conditions but Not in Alzheimer’s Type Neurodegeneration. Cell Mol Neurobiol 42: 1355–1371. https://doi.org/10.1007/s10571–020–01021-y
- Hotamisligil GS (2006) Inflammation and metabolic disorders. Nature 444: 860–867. https://doi.org/10.1038/nature05485
- Романцова ТР, Сыч ЮР (2019) Иммунометаболизм и метавоспаление при ожирении. Ожирение и метаболизм 16(4): 3–17. [Romantsova TR, Sych YuP (2019) Immunometabolism and metainflammation in obesity. Obesity and metabolism 16(4): 3–17. (In Russ)]. https://doi.org/10.14341/omet12218
- Nakamura T, Furuhashi M, Li P, Cao H, Tuncman G, Sonenberg N, Gorgun CZ, Hotamisligil GS (2010) Double-Stranded RNA-Dependent Protein Kinase Links Pathogen Sensing with Stress and Metabolic Homeostasis. Cell 140: 338–348. https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.01.001
- Taga M, Minett T, Classey J, Matthews FE, Brayne C, Ince PG, Nicoll JA, Hugon J, Boche D, MRC CFAS (2017) Metaflammasome components in the human brain: a role in dementia with Alzheimer’s pathology? Brain Pathol 27: 266–275. https://doi.org/10.1111/bpa.12388
- Zahid A, Li B, Kombe AJK, Jin T, Tao J (2019) Pharmacological Inhibitors of the NLRP3 Inflammasome. Front Immunol 10: 2538. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02538
- Lamkanfi M, Mueller JL, Vitari AC, Misaghi S, Fedorova A, Deshayes K, Lee WP, Hoffman HM, Dixit VM (2009) Glyburide inhibits the Cryopyrin/Nalp3 inflammasome. J Cell Biol 187: 61–70. https://doi.org/10.1083/jcb.200903124
- Fox JG (2007) The mouse in biomedical research. 2nd ed. Elsevier. AP. Amsterdam. Boston.
- Lee BY, Han JA, Im JS, Morrone A, Johung K, Goodwin EC, Kleijer WJ, DiMaio D, Hwang ES (2006) Senescence-associated β-galactosidase is lysosomal β-galactosidase. Aging Cell 5(2): 187–195. https://doi.org/10.1111/j.1474–9726.2006.00199.x
- Dimri GP, Lee X, Basile G, Acosta M, Scott G, Roskelley C, Medrano EE, Linskens M, Rubelj I, Pereira-Smith O (1995) A biomarker that identifies senescent human cells in culture and in aging skin in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A 92(20): 9363–9367. https://doi.org/10.1073/pnas.92.20.936
- Larson J, Munkácsy E (2015) Theta-burst LTP. Brain Res. 1621: 38–50. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.10.034
- Klune JR, Dhupar R, Cardinal J, Billiar TR, Tsung A (2008) HMGB1: Endogenous Danger Signaling. Mol Med 14: 476–484. https://doi.org/10.2119/2008–00034.Klune
- Muellerleile J, Blistein A, Rohlmann A, Scheiwe F, Missler M, Schwarzacher SW, Jedlicka P (2020) Enhanced LTP of population spikes in the dentate gyrus of mice haploinsufficient for neurobeachin. Sci Rep 10: 16058. https://doi.org/10.1038/s41598–020–72925–4
- Heim LR, Shoob S, De Marcas L, Zarhin D, Slutsky I (2022) Measuring synaptic transmission and plasticity with fEPSP recordings in behaving mice. STAR Protocols 3: 101115. https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.101115
- Yamasaki M, Fukaya M, Yamazaki M, Azechi H, Natsume R, Abe M, Sakimura K, Watanabe M (2016) TARP γ-2 and γ-8 Differentially Control AMPAR Density Across Schaffer Collateral/Commissural Synapses in the Hippocampal CA1 Area. J Neurosci 36: 4296–4312. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4178–15.2016
- Lewerenz J, Maher P (2015) Chronic Glutamate Toxicity in Neurodegenerative Diseases – What is the Evidence? Front Neurosci 9: 469. https://doi.org/10.3389/fnins.2015.00469
- Haroon E, Miller AH, Sanacora G (2017) Inflammation, Glutamate, and Glia: A Trio of Trouble in Mood Disorders. Neuropsychopharmacology 42: 193–215. https://doi.org/10.1038/npp.2016.199
- Khilazheva ED, Belozor OS, Panina YuA, Gorina YaV, Mosyagina AI, Vasiliev AV, Malinovskaya NA, Komleva YuK (2022) The Role of Metaflammation in the Development of Senescence-Associated Secretory Phenotype and Cognitive Dysfunction in Aging Mice. J Evol Biochem Phys 58: 1523–1539. https://doi.org/10.1134/S0022093022050222
- Gao L, Dong Q, Song Z, Shen F, Shi J, Li Y (2017) NLRP3 inflammasome: a promising target in ischemic stroke. Inflamm Res 66: 17–24. https://doi.org/10.1007/s00011–016–0981–7
- Xu F, Shen G, Su Z, He Z, Yuan L (2019) Glibenclamide ameliorates the disrupted blood–brain barrier in experimental intracerebral hemorrhage by inhibiting the activation of NLRP3 inflammasome. Brain and Behav 9: e01254. https://doi.org/10.1002/brb3.1254
- Jiang B, Li L, Chen Q, Tao Y, Yang L, Zhang B, Zhang JH, Feng H, Chen Z, Tang J, Zhu G (2017) Role of Glibenclamide in Brain Injury After Intracerebral Hemorrhage. Transl Stroke Res 8: 183–193. https://doi.org/10.1007/s12975–016–0506–2
- Fearey BC, Binkle L, Mensching D, Schulze C, Lohr C, Friese MA, Oertner TG, Gee CE (2022) A glibenclamide-sensitive TRPM4-mediated component of CA1 excitatory postsynaptic potentials appears in experimental autoimmune encephalomyelitis. Sci Rep 12: 6000. https://doi.org/10.1038/s41598–022–09875–6
- Li D, Ma Z, Fu Z, Ling M, Yan C, Zhang Y (2014) Glibenclamide Decreases ATP-Induced Intracellular Calcium Transient Elevation via Inhibiting Reactive Oxygen Species and Mitochondrial Activity in Macrophages. PLoS One 9: e89083. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089083
- Talbot K, Wang H-Y, Kazi H, Han L-Y, Bakshi KP, Stucky A, Fuino RL, Kawaguchi KR, Samoyedny AJ, Wilson RS, Arvanitakis Z, Schneider JA, Wolf BA, Bennett DA, Trojanowski JQ, Arnold SE (2012) Demonstrated brain insulin resistance in Alzheimer’s disease patients is associated with IGF-1 resistance, IRS-1 dysregulation, and cognitive decline. J Clin Invest 122: 1316–1338. https://doi.org/10.1172/JCI59903
- Taga M, Mouton-Liger F, Sadoune M, Gourmaud S, Norman J, Tible M, Thomasseau S, Paquet C, Nicoll JAR, Boche D, Hugon J (2018) PKR modulates abnormal brain signaling in experimental obesity. PLoS One 13: e0196983. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196983
- Mouton-Liger F, Paquet C, Dumurgier J, Lapalus P, Gray F, Laplanche J-L, Hugon J (2012) Increased Cerebrospinal Fluid Levels of Double-Stranded RNA-Dependant Protein Kinase in Alzheimer’s Disease. Biol Psychiatry 71: 829–835. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2011.11.031
- Giribabu N, Karim K, Kilari EK, Salleh N (2017) Phyllanthus niruri leaves aqueous extract improves kidney functions, ameliorates kidney oxidative stress, inflammation, fibrosis and apoptosis and enhances kidney cell proliferation in adult male rats with diabetes mellitus. J Ethnopharmacol 205: 123–137. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.05.002
- Douglass JD, Dorfman MD, Fasnacht R, Shaffer LD, Thaler JP (2017) Astrocyte IKKβ/NF-κB signaling is required for diet-induced obesity and hypothalamic inflammation. Mol Metabol 6: 366–373. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2017.01.010
- Wang W, Tanokashira D, Fukui Y, Maruyama M, Kuroiwa C, Saito T, Saido TC, Taguchi A (2019) Serine Phosphorylation of IRS1 Correlates with Aβ-Unrelated Memory Deficits and Elevation in Aβ Level Prior to the Onset of Memory Decline in AD. Nutrients 11: 1942. https://doi.org/10.3390/nu11081942
补充文件