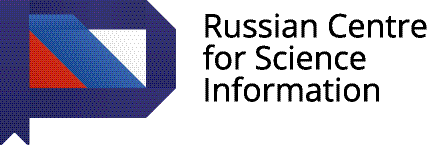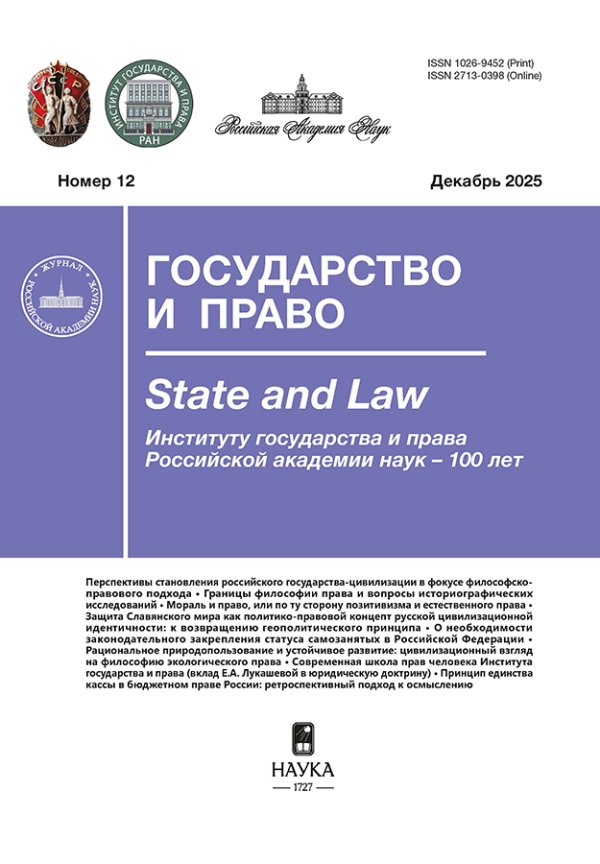On the Eurasian paradigm of political and legal knowledge
- Authors: Gorban V.S.1, Korolev S.V.1
-
Affiliations:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 12 (2024)
- Pages: 36-45
- Section: Legal, political, philosophical and religious thought
- URL: https://medbiosci.ru/1026-9452/article/view/281566
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224120034
- ID: 281566
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the problems of the formation of a modern historiographical model of political and legal knowledge, the possibility of its development as a Eurasian paradigm, for the positioning of which there are various past and modern ideological prerequisites. In the context of the spread of various distortions, arbitrary modifications and ideological restrictions in relation to other cultural and civilizational types of development in world history, traditional Western European patterns of legal historiography often turn out to be not only ineffective, but also harmful to ensure sovereign conditions for unlocking the potential and preserving the stability of the civilizational space of Russia. The best elements of historiographical approaches to law and the state accumulated in foreign thought must certainly be preserved, but above all serve to clarify the total capital of Russian and foreign political and legal thought, strengthen the positions of Russian science and literature in solving various kinds of reconstructive historical and philosophical problems.
Full Text
В одном примечательном комментарии к состоянию обществоведения, данном, по свидетельству Е. В. Спекторского, Г. Еллинеком, емко и метко говорится о том, что оно в исполнении знатоков общественной мысли XIX – начала XX в. находится в «убежище научного полусвета» 1. Действительно, когда речь идет о характере, содержании, композиционном портрете и прочих значимых характеристиках истории политико-правовой мысли, то даже в своих удачных образцах и вариантах она зачастую выглядит как определенный ракурс, ряд специально отобранных материалов. Например, в работах по философии истории популярного английского ученого ХХ в. Р. Коллингвуда 2 большая часть отобранных материалов для обоснования его «идеи истории», по свидетельству самого же автора, не имеют отношения к философии истории или не содержат никаких ценных для этой области знаний, идей, но, поскольку приводимые им мыслители прошлого традиционно являются скрепами истории мысли и науки от Античности до Новейшей истории, то они беззаботно воспроизводятся, как неувядаемая классика на все времена и темы. В тех случаях, когда в общей исторической панораме становилась заметной английская литература, Р. Коллингвуд ссылался на нее, но если таковой не имелось, то роль исторического посредника для целей ее реконструкции выполняли другие европейские мыслители. В итоге у читателя создается однозначное, чуть ли не гегелевское по своей логической необходимости впечатление, что работы английских философов истории ХХ в. являются результатом длительного и напряженного, тянущегося почти что непрерывно от самой Античности процесса интеллектуальных поисков, которые резюмировались в англиканском философско-психологическом толковании истории и исторического познания.
Работы Р. Коллингвуда познавательны и могут способствовать прояснению некоторых важных моментов психологии истории и исторической психологии, но они рассчитаны на английского читателя с его английской ментальностью, он не интересуется никакими другими материалами за пределами традиционного набора авторов и познавательных клише. Если английский опыт может быть полезен для других стран, требуется соответствующая оценка. Это важный эпизод английской мысли, но он не является ни общеевропейским, ни тем более каким-то универсальным. С его помощью легче понимается история английской философии истории, правда без учета шотландских, ирландских авторов, которые далеко не всегда совпадают с английскими в своих представлениях по самым разным вопросам общественного развития, в том числе и права. И замечательно, что для понимания и уяснения особенностей взгляда английских авторов и писателей на природу истории и исторического знания мы имеем возможность в лице того же Р. Коллингвуда познакомиться с этой интеллектуальной традицией. Однако она никоим образом не охватывает, да и не стремится к изучению мирового опыта философско-исторического познания и разработке его теоретических основ.
Исторические предпосылки известной ограниченности западноевропейского представления об истории и науке имеют вполне отчетливые очертания. Вообще, сложно себе представить такую модель, которая максимально полно усваивала бы мировой опыт. Объективно происходящие в мировой истории изменения, в том числе те, что совершенно очевидно происходят в наше время, ставят не только задачи познания нового облика мировой и региональной архитектуры, но позволяют по-новому, основательнее, посмотреть на историю и ее пути. Это связано с возможностями работы с большим количеством разнообразных источников, использованием новых вспомогательных технических средств, появлением новых приемов и исследовательских опытов, но в немалой степени также с тем, что появляется возможность изучать науку и ее историю независимо от прежних инертных шаблонов и схем, которыми зачастую ограничивались исследовательские горизонты. Речь, конечно же, не идет о том, чтобы наука писалась произвольно на новый лад. Напротив, она должна избавиться от слепого следования незатейливым идеологическим схемам отбора материала, его обсуждения.
Скажем, немецкая философия рубежа XVIII– XIX вв. – более чем известное и популярное событие и явление в истории мировой общественной мысли, но она есть лишь определенный этап и эпизод в развитии немецкой и отчасти мировой философии, да и сводить все вопросы философии и ответы на них исключительно к мистико-идеалистическим построениям немцев-идеалистов было бы явным упрощением. В их идеях, взглядах, представлениях глубоко отражена немецкая мысль, ментальность, общественно-религиозное сознание. Колоссальное значение имело в данном случае и то, что они писали свои сочинения на родном для них немецком языке, а не на стилистически сложной латыни. Если не превращать их сочинения и идеи в фетиш, не создавать себе из них кумиров, что вообще мало пригодно для науки, и даже поверить, например, тому же Канту, который решительно настаивал на том, чтобы дополнить вольфовскую догматику кантовским критицизмом, что не нужно слепо следовать авторитетам, а нужно учиться думать самостоятельно и подвергать свои способности критике 3, то их изучение должно сопровождаться уяснением по возможности всего культурного состояния немецкого общества соответствующего времени: идеалов, сюжетов, характера литературы, языка и его словаря, социально-экономического состояния общества, нацеленности, связи с религией, культурой и прочими важными аспектами. Только так можно рассказать по-настоящему историю немецкой правовой мысли.
Если же мы прошлое воспринимаем плоско и одномерно, то нас вряд ли будут интересовать такие подробности, тогда мы, следуя призывам ученых, например, XIX в. о необходимости экономить мышление и больше уделять внимания пользованию знаниями (эмпириокритицизм, прагматизм и др.), а не их созданию и накоплению, можем назвать свой подход проблемно-теоретическим или проблемно-прагматическим и, таким образом, сосредоточиться на отборе заботящих нас проблем и вопросов, чтобы подобрать для них решение в материале прошлого. Но и тут вмешивается закон отдельного и частного, диктующий необходимость вести речь о своем: английскому писателю интереснее думать о привычных и традиционных для него сюжетах, равно как китайскому, индийскому, иранскому, венесуэльскому или российскому. В связи с этим большим достижением науки может справедливо рассматриваться ее способность относиться непредвзято и открыто к изучению другого опыта, признанию разнообразия типов культурно-цивилизационного развития. К сожалению, до сих пор даже в отечественной научной среде встречаются какие-то квазимифологические установки о каком-то невероятно прогрессивном «чужом» опыте и туманном «своем». Причем такие версии самобичевания зачастую сопровождаются случайным набором анализируемого материала, произвольными субъективными оценками и аргументами состояния культуры, науки и прочих важных событийных рядов. Такие варианты отношения к своей культуре и истории не более чем анахронизмы и атавизмы.
Если, например, представления Канта об общении народов и международном праве 4 кажутся убедительными, то о равенстве народов значительно раньше мы можем прочитать в проповеди митрополита Илариона в его «Слове о Законе и Благодати» 5. Если нас интересует сквозная для истории политико-правовой мысли и философии в целом проблематика соотношения права и морали, права и нравственности, то, конечно же, мы можем посмотреть их трактовки в протестантской по своим сюжетам, познавательным приемам и объяснениям немецкой философии, но мы можем изучить ее значительно глубже, обратившись, скажем, к исследованию фольклора, в котором в обряде инициации в члены общины и различных связанных с этим суровых испытаниях отчетливо звучит мотив подготовки к социально полезному существованию, к вхождению в ареал нравственности общины. И разве не та же мысль о праве как принудительной силе, необходимой для обуздания эгоизма, и через это ведущем к обретению этически правильного и желаемого состояния звучит у большой армии юристов и философов. Не об этом ли пишет Кант, говоря о том, что добиться этико-гражданского состояния можно только при посредничестве юридико-гражданского, что нужно объявить таким образом сборный пункт добра в борьбе против зла и решительно противостоять произволу в движении к нравственности, а задача всякого – добровольно заставить себя идти по пути добра, соблюдая внешние принудительные законы полностью, сознательно и верно. Изучая фольклор и мифологию, можем обратить взоры на познавательные работы Шеллинга 6, а также на труды российских филологов-фольклористов (В. Я. Проппа 7, В. П. Адриановой-Перетц 8 и др.), и в особенности советских, которые представляют собой богатейшую сокровищницу знаний по предмету.
Современной науке о праве очень недостает глубины и широты взгляда. Ее словарь и понятийный аппарат в последние десятилетия активно «засорялись» и «зарастали сорняками», которые неизбирательно, наплывом, приходили из далеко не самых лучших зарубежных книг в постсоветский период. Например, в трудах юристов и философов часто звучит упоминание о каком-то «лингвистическом повороте». Мало того, что это по своему характеру явно не русское употребление слов, не говорят русские авторы о «поворотах». Это по своей стилистике напоминает экспрессионистские высказывания англо-американских авторов, которые часто свой личный и профессиональный опыт описывают как собственно набор взглядов, и таким образом личные приоритеты или симпатии, сопровождающие изменение взглядов, вполне могут быть названы «поворотом», но при переводе пришлось бы все же подобрать более благозвучный вариант. То, что связывается с влиянием такого отдельного направления в философии, как лингвистическая философия, на некоторые направления анализа в зарубежной философии, политологии и юриспруденции, является лишь небольшим эпизодом в истории мысли, который по существу ничего значимого не рассказывает о ней, но при этом стилизован под некий образ неуловимой «современности» с приставками «пост», «мета», «не». Роль языка в науке и в истории значительно интереснее, сложнее и объемнее. Языковые картины мира, первые грамматики, письменность, книгопечатание, развитие национальных языков и литератур и многое и многое другое. Разве не специализировалась эпоха Возрождения и Гуманизма на историко-филологическом методе, веками отрабатывая свои приемы, разве не происходит расцвет наук и литературы в XIX в., когда на место латыни приходят национальные языки? Почему же вдруг отдельные эпизоды, связанные с лингвистической философией, должны создавать геологические разрывы в философии и юриспруденции? Слишком уж простовато и незатейливо в масштабах истории мысли и науки. Кроме того, при ближайшем изучении лингвистическая философия и основанные на ней некоторые юридические концепции (например, Харта 9) совершенно не учитывают морфологическую природу других языков, а потому очень ограничены в своих объяснительных возможностях. Контекстуальность, принципиальная незавершенность и т. п. – это типичные черты английского, аналитического по своей морфологической природе, языка, но они совсем не соответствуют флективным языкам – греческому, русскому. Если контекстуальность и аналогичные характеристики объявляются чертами так называемого «лингвистического поворота», то это просто призыв думать по-английски. Некритическое восприятие таких подходов влечет за собой закономерно их несостоятельность для науки. Если все же призыв внимательнее рассмотреть природу влияния языка на социальные нормы признается, то тогда следует задуматься о «понятии права» на основе морфологических признаков русского языка. Негативным последствием отказа от смысла слов у сторонников «лингвистического поворота» является также то, что они зачастую произвольно записывают слова, выдают за нечто новое. Например, английское слово, даже его произношение, транскрибируется буквально русскими буквами и к этому добавляются элементы словообразования русского языка, порождая каких-то лингвистических «монстров», не переводимых вовсе.
Словарь истории политической и правовой мысли изобилует неточностями и проблемами. Доходит и до того, что обладателями не только права, но и правосознания объявляются исключительно западные страны. Якобы у других народов это всегда что-то другое. Поэтому соответствующие правовые явления записываются лишь в транскрипции. Это, к сожалению, все тот же идеологический барьер, который позволяет сохранять нечто условно образцовое и правильное, проводя четкое отделение его от иного. За ним теряется и то, что веками создавали в своих лучших образцах сами европейцы. И чем быстрее они осознают опасность девальвации собственной интеллектуальной культуры, тем меньше негативных последствий следует ожидать для будущего европейцев в условиях объективно меняющегося многополярного мира.
И. А. Ильин в своих размышлениях о теоретических основах правосознания заметил, что истинный законодатель есть «художник естественной правоты» 10. Ранее другой юрист Р. Иеринг назвал законодателя, который не обладает «даром наблюдательности» и не владеет «искусством выражения» жизненных потребностей общества, а лишь наугад или вовсе не задумываясь принимает законы, «интеллектуальным хулиганом» 11. Если советы И. А. Ильина искать «естественную правоту» или Р. Иеринга социально-полезное и нравственно-справедливое в жизненных заботах реального общества верны, то не следует ли тогда, аттестуя и типологизируя политические и правовые темы, проблемы и сюжеты, определять правовые знания не по упрощенным лекалам, а в гораздо более богатой содержанием и разнообразными типами развития реальной истории правовой и политической мысли народов?
Хотя упомянутые авторы высказывались по разным темам юридической мысли, вместе с тем их легко можно в данном случае привести к общему знаменателю. Право-писание в смысле изложение науки о праве по существу ведь означает способность узреть и зафиксировать «естественную правоту» народа, его жизненные потребности, прогресс его культуры и практическое воплощение цивилизационных начал – порядка и ценностей. История юридической мысли народа отнюдь не требует подсказок. Русская политико-правовая мысль как собирательное культурное явление воплощена во множестве различных проявлений русской цивилизационной культуры: в древней и современной литературе, фольклоре, искусстве, религии, политических и юридических сочинениях, одним словом – во всем многообразии культурных форм и смыслов. Если мы, например, начнем изучать национальную юридическую мысль тех же немцев, то ее ретроспектива формируется из самых разнообразных источников, причем в значительной степени меньше всего из, так сказать, строго юридических актов и сочинений. Например, один из известных немецких историков права второй половины ХХ в. Ф. Виакер, автор сочинения «История частного права Нового времени», связывал развитие правосознания европейцев с логическими фигурами позднелатинской школы, которые использовались для формирования мышления средневековых клерков и чиновников 12. В XIX в. О. Гирке настаивал на том, что настоящее правосознание и политическое сознание немцев нужно искать в образах древней германской общины, написав внушительные по объему сочинения по этому вопросу 13.
Кроме того, историография политико-правовых знаний часто выполняет идеологическую функцию. Если же это разумная и основанная на верифицируемых данных популяризация знаний, то такая идеологизация вряд ли вызовет возражения, тем более, когда она служит задачам сохранения и воспроизводства культуры. Но она зачастую имеет характер шовинистический, направленный на принципиальное самолюбование, отграничение иного. И. А. Ильин, говоря о правосознании европейцев, вполне убедительно писал о том, что они так и не признали право – сознательно и духовно, а лишь в силу длительной муштры и дрессуры подчинились ему. Но работает это только во внутреннем ареале. Как только европеец обращает свой взор на внешний контур и за его пределы, то тут проявляется, по свидетельству И. А. Ильина, «правосознание озлобленного раба», который в иностранце совершенно не видит субъекта права 14.
В русле задач по обновлению принципиальных подходов в юридической историографии в пользу более полного, широкого и открытого к диалогу с разными типами национальных культур изложения правовых знаний оправданно может быть использован евразийский прототип и образ евразийства как одной из важнейших культурно-цивилизационных единиц современной архитектуры многополярного мира, сопровождаясь существенным уточнением познавательных и объяснительных характеристик евразийской парадигмы политико-правовых знаний.
Причина. С учетом поставленных задач разработки новой историографической российской модели в условиях идеологического противостояния с Западом первая причина является идеологической. Строго говоря, она носит многовекторный характер. Можно назвать целый ряд причин необходимости разработки «средств противодействия идеологическим искажениям цивилизационного развития России». Во-первых, мы говорим о давней западной традиции, которую можно назвать «синдромом геополитического нарциссизма». Конкретнее, речь идет о самоидентификации Европы как «общечеловеческой матрицы» т. н. прогресса. Ядром этой матрицы являются характерные западные идеологии, специфические -измы: политический католицизм (начиная с крестовых походов), колониализм, бонапартистский мондиализм, немецкий нацизм и т. п. Особое место среди западных -измов занимает большевизм. Он в момент своего зарождения открыто провозгласил свою враждебность самой сути российской цивилизации и ее опыту. В большевизме бесспорно присутствует не только марксистская, но и общеевропейская генетика. К ней ближе всего находится троцкизм, дальше всего – сталинизм, а ленинизм, упрощенно говоря, занимает «срединную линию».
Во-вторых, помимо идеологической причины для разработки «средств противодействия идеологическим искажениям цивилизационного развития России» четко просматривается политическая причина антироссийских устремлений и чаяний стран Запада. Политическая функция системной диффамации и попыток дискредитации российской цивилизации содержит два аспекта, или два вектора: внешний и внутренний. Внешний вектор направлен на изоляцию России в международном сообществе: здесь идеологический фактор системной диффамации России используется для того, чтобы отсечь третьи государства от нормального международного взаимодействия с Россией. Внутренний вектор политической функции диффамации России со стороны западных стран по определению направлен на российскую аудиторию, особенно на молодежь. Здесь, к сожалению, западному влиянию во многом способствует прозападная модель школьного и вузовского образования с бесконечными тестами, презентациями и рейтингами. Одни названия подобных форм обучения свидетельствуют о том, что нашим школьникам и студентам до сих пор предлагают «болонскую жвачку» вместо системы обучения, возникшей еще в царской России и отшлифованной в СССР.
В-третьих, существуют экономические причины для разработки «средств противодействия идеологическим искажениям цивилизационного развития России». На высшем уровне политического руководства России они определены как защита экономического суверенитета нашей страны. Можно сказать, что идеологические и политические факторы противодействия российской суверенности (см. выше) в конечном счете должны обеспечить перманентную экономическую блокаду России в расчете на то, что вместе с российской экономикой рухнет и вся российская государственность.
Цель. Причин может быть много, и часто так и есть, но цель должна быть одна. Цель должна быть компактной, четкой, внятной и понятной для всех. В буквальном геополитическом смысле речь идет о создании евразийской парадигмы политико-правовых знаний, способной наводить когнитивные и цивилизационные мосты между разными культурами, народами и цивилизациями. Такая модель не допускает какого-либо редукционизма всей этой мозаики до единственно «верного решения». Таких единственно верных решений не бывает в международных делах. Как бы то ни было, после монгольского нашествия российская цивилизация в лоне православия выстрадала идею соборности. Речь идет о мировоззренческой установке на поддержку ближнего, кем бы он ни был, если это по силам тому, кто подает руку помощи. Отказ от этой идеи в поздней Московии (ср. земщину и опричнину в эпоху Иоанна IV или противостояние Никона и Аввакума и лукавое «посредничество» царя Алексея Михайловича и т. п.) как минимум наметил путь к катастрофе 1917 г. Интересно, что в СССР идея соборности вновь возродилась, но в сильно искаженном виде (ср. привилегированное положение периферии и ленинский тезис о «русском народе как народе-угнетателе»). В рамках разработки указанной парадигмы интересно также рассмотреть вопрос о «советизации» идеи соборности (например, в экзотическом формате «коммунистического интернационала»), а также в рамках внешнеполитических приоритетов СССР (в части поддержки антиколониальной борьбы стран Азии и Африки).
Средства. Речь идет о методах, способных (1) наметить пути создания евразийской парадигмы политико-правовых знаний (см. выше), а также (2) о способах обеспечения ее жизнестойкости и саморазвития. Указанная модель по своей сути не допускает применения одного единственного метода. При этом данная модель, как ни парадоксально, способна примирить «идеалистический» тезис, восходящий к Иммануилу Канту, о том, что «форма определяет содержание» 15, с «материалистическим» тезисом о том, что «реальность» сама определяет подходящий для нее метод познания.
Дело в том, что все понятия, которыми пользуются как «идеалисты», так и «материалисты», являются в конечном счете платоническими, т. е. идеями, включая такие слова, как «реальность», «факт», «метод». Все эти слова являются «конструктами», «формами» познания, т. е. не имеют своих референтных двойников «без кавычек» за пределами наших мозговых операций: «материалист», как и «идеалист», занимается конструированием «фактов», только дает им иную («материалистическую») интерпретацию. Как бы то ни было, в нашем методологическом инструментарии логический метод не может быть главным. Ведь главная функция логики заключается в том, чтобы упорядочить в (своей или чужой) голове наиболее убедительную линию аргументации «за» и «против». При этом нередко аргументирующие контрагенты уже знают «единственно верное решение».
По значимости логический метод опережает исторический метод. Резонно согласиться с тезисом Маркса о том, что логический метод – не что иное, как исторический метод, только очищенный от повторов, случайностей и излишних деталей. Здесь возникает неизбежная трудность в том, как совместить политический аспект евразийской парадигмы политико-правовых знаний с ее юридическим аспектом. Политический аспект, упрощенно говоря, представляет собой «историю фактов», сконструированных в формате господствующей политической идеологии. Юридический же аспект представляет собой либо «эволюцию правил поведения» в рамках того или иного правопорядка (например, в духе Фр.К. фон Савиньи), либо «эволюцию воззрений на эти правила» (например, в духе Г. Кельзена). «Факты» не суть «правила», и наоборот. Более того, «юридические факты» для одного наблюдателя (например, для немца) могут оказаться «нейтральными событиями» для другого (например, для англичанина). Приемлемые правила поведения в одних цивилизациях (например, система трансграничных денежных переводов «хавала» в Иране и Индии) могут оказаться «противоправными деяниями» в других цивилизациях.
Если «факты» и «правила» сталкиваются не только между собой, но и внутри себя самих, то жизнестойкая парадигма политико-правовых знаний не может обойтись без диалектического метода, как бы мы его ни понимали (в духе Платона, Гегеля или Маркса). В принципе, главная проблема любой парадигмы знаний сводится к диалектический апории: «Как динамику жизни ухватить и выразить в статике застывших терминов?». Следует тут же отметить, что «динамика жизни» – это не столько тема политологии, сколько тема целой палитры смежных наук (от богословия, социологии вплоть до искусствоведения).
На первый взгляд как раз политический аспект указанной евразийской парадигмы политико-правовых знаний олицетворяет «динамику жизни», а юридический аспект символизирует лишь статику застывших понятий. Но это слишком упрощенный подход. Как сказано выше, любое понятие есть некий застывший символ чего-то другого и в политике, и в праве. Мы все мыслим, даже когда в итоге получается вздор, лишь теми метафорами, которые предлагает нам национальный язык. Других средств – ни для мышления, ни для аргументации – у нас нет.
Отсюда возникает особая проблема для юристов вообще и для правоведов-историков в частности. Дело в том, что юристы в профессиональном плане одноязычны. Они используют для работы родной язык, правда, в препарированном виде (legal English, Juristendeutsch, le Francais juridique и т. п.). На этом лингвистическом фундаменте держится юридический позитивизм, хотя многие юристы-позитивисты не улавливают всю важность данного обстоятельства: в самом деле, какое в принципе дело адвокату по уголовным делам в России, что по аналогичному делу может думать, скажем, его коллега в Германии?
Принято считать, что юридический позитивизм признает только один метод, а именно формально-юридический, или нормативистский. В принципе это верно, если учесть, что слово «формально-юридический метод» представляет собой “an umbrella term”, т. е. «понятие-зонтик», прикрывающее собой как минимум три специальных метода: систематический и неразрывно связанный с ним контекстуальный, а также неразрывно связанный с двумя предыдущими герменевтический метод.
Здесь не место давать развернутую характеристику этим методам, ограничимся лишь их краткой характеристикой. Систематический формат нормативистского метода заключается в том, что юрист обязан быть систематиком: он должен всегда помнить о том, что всякая норма права имеет свое место в системе (национального) правопорядка и имеет как вертикальные, так и горизонтальные связи с другими юридическими нормами. Отсюда вытекает контекстуальный формат нормативистского метода: каждая норма «расширяет» или, напротив, «сужает» свой юридический смысл в зависимости от норм, которые ее контекстуально «окружают». Наконец, всякая в принципе абстрактная норма права, подлежащая применению в конкретном случае, нуждается в уникальной интерпретации, т. е. в применении герменевтического метода. Из этого следует, что юрист в конечном счете обязан быть герменевтиком.
Как ни странно, именно логическое изящество и методологическая автономия юридического позитивизма замыкает его на себе самом, оставляя юриста-позитивиста в одноязычной парадигме национального правопорядка и, соответственно, иммунизируя его против влияния извне, т. е. со стороны иных правопорядков. При такой подчеркнуто «аристократической нейтральности» к иным правовым традициям и культурам, например, западный юридический позитивизм не в состоянии заметить саму проблематику русофобии как особого политико-правового диагноза стран Запада.
Данное обстоятельство приводит нас к необходимости (при построении указанной парадигмы) применять как минимум сравнительный метод, лучше совместно с юридико-лингвистическим, возникшим на стыке юриспруденции и языкознания. Во взаимодействии эти методы позволяют вникнуть в ментальность иных политико-правовых культур и анализировать их достоинства и недостатки как бы изнутри носителей соответствующего юридического языка (legal English, Juristendeutsch, le Francais juridique и т. п.).
Создание евразийской парадигмы политико-правовых знаний, на наш взгляд, невозможно без специфических методов. Здесь мы признаем относительную правду «материализма» в том, что «материя (предмет исследования) определяет сознание и методологию». Можно выделить ряд таких методов. Поскольку евразийское мировоззрение держится на идее соборности (см. выше), мы будем подобные методы называть «соборными». Далее (в целях экономии места) просто их перечислим:
- фокальный метод, восходящий к Аристотелю;
- диалектический метод, восходящий к Платону и Гегелю;
- институциональный метод, восходящий к Морису Ориу;
- децизионистский метод, восходящий к Карлу Шмитту;
и наконец,
- наш авторский «транспонирующий метод», анализировать и обосновывать который здесь не место. Скажем только, что «транспонирующий метод» позволяет по-новому рассмотреть многие «затертые» шаблоны российской историографии, включая известную проблему под названием «западники – славянофилы».
Обоснование
Аргумент 1. Разработка евразийской парадигмы политико-правовых знаний позволит парировать идеологические атаки на Россию на территории идеологического противника, опираясь на бесспорные достижения его же ученых, как «русофобов», так и «русофилов». Данное обстоятельство, во-первых, вынудит наших западных противников действовать в режиме идеологических контратак, т. е. точечно реагировать, а не наступать «широким идеологическим фронтом». Во-вторых, оно сильно ограничит его возможность аргументировать в принципе, не нарушая при этом общего принципа права, а именно запрета venire contra factum proprium 16, т. е. противоречить самим себе.
Аргумент 2. Разработка евразийской парадигмы политико-правовых знаний освободит нас от дурной бесконечности «доказывания», что «мы – Европа, несмотря ни на что». Мы – «лишь Россия-Евразия». Соответственно, считаем контрпродуктивным «твердить зады» архаичной дискуссии по типу «западники против славянофилов». Историческая заслуга этой дискуссии, на наш взгляд, заключается в отрицательном тезисе о том, что любая укоренившаяся дихотомия в духе «или – или» неспособна интегрировать общенациональную идеологию и в тенденции порождает идеологический раскол среди нас и – что еще хуже – внутри нас. Только дихотомии, допускающие гегелевскую стадию синтеза (например, «социальная институция – норма позитивного права» в духе Мориса Ориу), способны обеспечить интеграционный эффект в рамках диалектической евразийской парадигмы политико-правовых знаний.
Аргумент 3. Социокультурное наследие Запада находится в состоянии глубокого кризиса. Можно говорить даже об опасности идеологических искажений западного культурного кода со стороны современных конъюнктурных западных идеологов (например, они могут муссировать тему, насколько Гете был «русофобом», и можно ли Рильке в принципе считать «русофилом»). В тенденции, т. е. в перспективе будущего возможного примирения с цивилизацией Запада, евразийская парадигма политико-правовых знаний не только сохранит когнитивный мост между Россией и Западом, но и позволит новым поколениям западных исследователей присоединиться к российскому архиву их собственного культурного наследия, а также неизбежно оценивать это наследие предков в контексте евразийской парадигмы политико-правовых знаний.
1 Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии: в 2 т. СПб., 2006. С. 5.
2 См.: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / пер. и коммент. Ю. А. Асеева. М., 1980.
3 См.: Кант И. Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. Критика чистого разума. М., 1994.
4 См.: Кант И. «К вечному миру» И. Канта / подгот. текста, [пер. с небольшими сокр.], вступ. ст., с. 3–22, и заключение А. В. Гулыги. М., 1989.
5 Иларион (митр. Киевский; XI в.). Слово о Законе и Благодати / реконструкция древнерус. текста Л. П. Жуковской; пер., вступ. ст., с. 5–27, В. Я. Дерягина; коммент. В. Я. Дерягина, А. К. Светозарского. М., 1994.
6 См.: Шеллинг Ф. В.Й. Философия мифологии / пер. с нем. В. М. Линейкина. СПб., 2013.
7 См.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. СПб., 2021.
8 См.: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л.,1974.
9 См.: Hart H. The concept of law. 3rd ed. Oxford, 1970.
10 Ильин И. А. Указ. соч.
11 Jhering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Erster Teil. Leipzig, 1852; Jhering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Teil: Th. 2, Abth. 1. Leipzig, 1854.
12 См.: Wieacker F. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung. 3, durchgesehene Auflage. Göttingen, 2016.
13 См.: Gierke O. Das deutsche Genossenschaftsrecht. Bd. 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. Unveränd. photomechan. Nachdr. der 1. AusgDarmstadt: Wiss. Buchgemeinschaft, 1954.
14 См.: Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. М., 2006. С. 223.
15 Иными словами, избранный исследователем метод «конструирует» под себя «реальность», выбирая одни «факты» и игнорируя «прочий хаос».
16 Лат. дословно: «поступать против собственных поступков».
About the authors
Vladimir S. Gorban
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: gorbanv@gmail.com
Doctor of Law, Head of the Philosophy of Law, History and Theory of State and Law Sector, Head of the Interdisciplinary Center for Philosophical and Legal Studies
Russian Federation, 10 Znamenka str., 119019 MoscowSergey V. Korolev
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Email: sko.05@mail.ru
Doctor of Law, Professor, Chief Researcher of the International Law Sector
Russian Federation, 10 Znamenka str., 119019 MoscowReferences
- Adrianova-Peretz V. P. Ancient Russian literature and folklore. L., 1974 (in Russ.).
- Hilarion (Metropolitan of Kiev; XI century). The Word about Law and Grace / reconstruction of ancient Rus. text by L. P. Zhukovskaya; transl., intro., pp. 5–27, by V. Ya. Deryagin; comment. by V. Ya. Deryagin, A. K. Svetozarsky. M., 1994 (in Russ.).
- Ilyin I. A. General doctrine of law and the state. M., 2006 (in Russ.).
- Kant I. To eternal peace / preparation. the text, [transl. with small abbreviations], introductory articles, pp. 3–22, and conclusion by A. V. Gulyga. M., 1989 (in Russ.).
- Kant I. Collected works: in 8 vols. Vol. 3. Criticism of pure reason. M., 1994 (in Russ.).
- Collingwood R. J. The idea of history; Autobiography / transl. and comment. by Yu. A. Aseev. M., 1980 (in Russ.).
- Propp V. Ya. Historical roots of a fairy tale. SPb., 2021 (in Russ.).
- Spektorsky E. V. The problem of social physics in the XVII century: in 2 vols. SPb., 2006 (in Russ.).
- Schelling F. V.Y. Philosophy of Mythology / transl. from German by V. M. Lineikin. Vol. 1: Introduction to the philosophy of mythology. SPb., 2013 (in Russ.).
- Gierke O. Das deutsche Genossenschaftsrecht. Bd. 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. Unveränd. photomechan. Nachdr. der 1. AusgDarmstadt: Wiss. Buchgemeinschaft, 1954.
- Hart H. The concept of law. 3rd ed. Oxford, 2012.
- Jhering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Erster Teil. Leipzig, 1852.
- Jhering R. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Teil: Th. 2, Abth. 1. Leipzig, 1854.
- Wieacker F. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung / Franz Wieacker. 3., durchgesehene Auflage. Göttingen, 2016.
Supplementary files