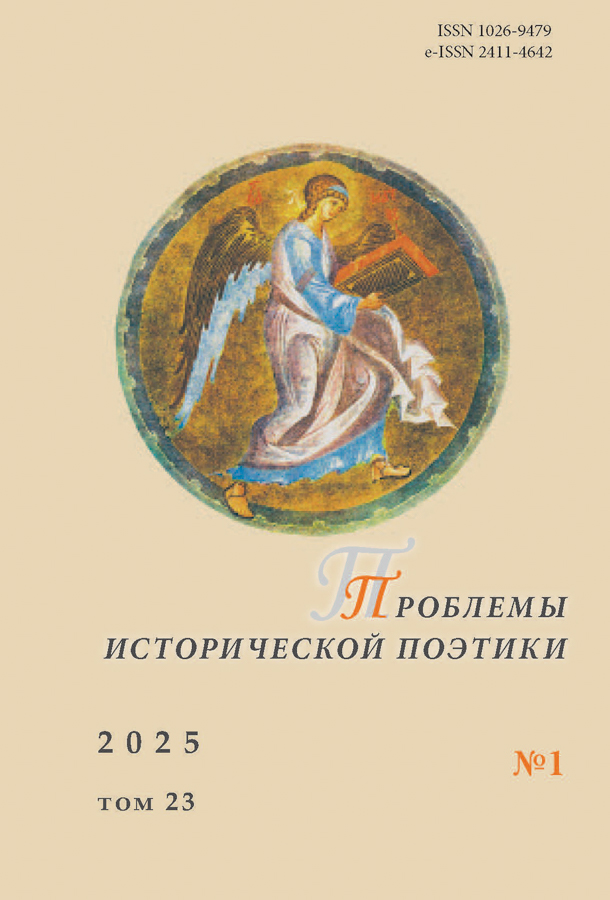Том 22, № 2 (2024)
Статьи
Древнеиндийские сюжеты в ойратском сборнике «Сказание Нектарного Учения»
Аннотация
Вопросы о сходстве сюжетов ойратских письменных памятников с древнеиндийскими все еще остаются недостаточно изученными. Большинство ойратских сочинений не введены в научный оборот, не переведены на русский и другие европейские языки. В статье рассмотрено происхождение сюжетов ойратского религиозно-дидактического сборника XVII–XVIII вв. “Aršān nomiyin tuuǰi” («Сказание Нектарного Учения»), восходящего к литературным памятникам Древней Индии. Сборник состоит из шестидесяти четырех коротких буддийских историй. В качестве обрамления в нем выступает схема тибетского буддийского трактата «Ламрим», излагаемого в тезисной форме. Основные положения трактата раскрываются в сборнике с помощью примеров из различных источников. Сборник отличается строгим функциональным назначением: он вводит мирян в курс буддийского учения и наставляет их на путь добродетели, им пользовались буддийские монахи до начала XX в. в качестве руководства в проповеднической практике. В статье рассмотрены структура и содержание ойратских и древнеиндийских сюжетов в их повествовательном изложении, выявлены сходства и локальные различия. Генетически близкие сюжеты помогают лучше понять содержание коротких рассказов ойратского сборника, утративших свои существенные структурные компоненты. Рассказы «Сказания Нектарного Учения» отличаются от текстов-источников предельной сжатостью сюжетов, в них отсутствуют описания и сравнения, основное внимание сконцентрировано только на поступках героев, действие динамично развертывается. Значительное сходство «Сказаний Нектарного Учения» с древнеиндийскими сочинениями отмечено на сюжетно-композиционном уровне. Выявление локальных различий в ойратском сборнике проясняет судьбу древнеиндийских памятников вне Индии.
 7-24
7-24


Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа
Аннотация
В статье рассмотрены история и поэтика стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840). Материалом исследования стали три рукописи стихотворения: содержащий многочисленную правку черновой автограф из собрания С. А. Рачинского, перебеленный автограф с пометами В. Ф. Одоевского и П. А. Вяземского, а также еще один беловик стихотворения, оказавшийся в 1844 г. в коллекции Карла Августа Фарнхагена фон Энзе. Посредством реконструкции истории текста прослеживаются особенности поэтики Лермонтова. Работая над стихотворением, автор последовательно отказывался от экфрастичного характера изображения, обусловленного обращением к конкретному артефакту — гравюре Пьера Луи Анри Греведона «Портрет женский в рост, сидя, в открытом платье» (1840). Используя череду ассоциаций, сравнений, противопоставлений, поэт создает образ молодой женщины. Внимание к динамической поэтике словесного портрета графини А. К. Воронцовой-Дашковой позволило показать, как Лермонтов усложнял ее образ. Анализ черновых вариантов, конструируемых в беловике многочисленных антиномий, изменения названия позволил преодолеть штампы восприятия стихотворения и дать его трактовку в контексте русской культурной традиции.
 25-49
25-49


Заметки Н. В. Гоголя «К 1-й части» «Мертвых душ»: проблемы поэтики и текстологии
Аннотация
Главной проблемой, решаемой в статье, явился вопрос о датировке черновых набросков Гоголя с авторским «рабочим» названием «К 1-й части». На протяжении почти ста лет принято было считать, что эти наброски, относящиеся к первому тому «Мертвых душ», написаны после выхода в свет этого тома в 1842 г. Произвольная датировка заметок «К 1-й части» 1845–1846 гг. опровергается многочисленными фактами, свидетельствующими, что образы и мотивы заметок были «вкраплены» Гоголем в общую ткань поэмы. Впервые на эти переклички указал в 1987 г. В. А. Воропаев, датировавший наброски 1839–1840 гг. К текстологическим наблюдениям, сделанным исследователем, в статье добавлены новые, позволяющие проследить эволюцию текста. Проанализирован также авторский замысел, каким он предстал в набросках, и то, с помощью каких средств он реализован в поэме. Совокупные данные текстологии и поэтики позволяют уточнить датировку заметок, приурочив их к первым месяцам 1841 г. В заметках содержится план автора выразить в «сплетнях» и «безделье» города N. в первом томе поэмы широкое прообразовательное значение, придав картине выражение общего «безделья» мира. Для воплощения этого замысла Гоголь наметил привести в поэме несколько аналогий к «бездельной» жизни «мертвых душ» — «включить все сходства и внести постепенный ход». В окончательном тексте поэмы такими «сходствами» стали типологически «родственные» сплетням гадательные «ученые рассуждения», предсказания лжепророков и псевдо-духовная литература. Все они, вместе взятые, объясняют, по Гоголю, многочисленные заблуждения человечества в мировой истории — следование «болотным огням», «заносящим далеко в сторону дорогам». Слухи об антихристе, возникающие в «пустоте» города, подсказывают, что в заключительных главах первого тома писатель изображает, как ранее в «Ревизоре», предапокалиптическое состояние общества, приближение последних времен, которое для некоторых в действительности становится «последним часом» (смерть прокурора).
 50-87
50-87


«Загадочный автор» из Спасского: письмо И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 14 октября 1853 года
Аннотация
В статье проанализировано письмо И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 14 октября 1853 г., которое структурно состоит из «физиологического очерка» о «маленьком человеке» и пасхального стихотворения, якобы написанного этим «маленьким человеком», а по факту — «загадочным автором». Письмо рассмотрено как преодолевшее уже при жизни писателя узкие рамки эпистолярного жанра и ставшее обсуждаемым текстом. В тургеневедении, однако, главной проблемой изучения письма остается вопрос о биографическом авторе пасхального стихотворения: на сегодняшний день в читательском пространстве стихотворение де-факто функционирует как произведение и Тургенева, и Лермонтова. «Прозаическая» часть письма о маляре-стихотворце оценивается как подготовительный материал для последующего произведения. Между тем письмо является «криптографическим текстом» и как целостность таит в себе скрытый «пушкинский код», который «считывается» благодаря многочисленным намекам, содержащимся как в самом письме, в его «прозаической» и в стихотворной частях, так и в дружеской переписке Тургенева и Анненкова. Сравнительный анализ двух текстов пасхального стихотворения, подготовленных тургеневской академической группой, один из которых находится в письме от 14 октября 1853 г., а другой — в разделе Dubia, выявил многочисленные разночтения, а также существенное отклонение от текста-оригинала, опубликованного в «Литературной газете» за 1840 г. В академических текстах все сакральные слова — Слава Божия, Сын Бога — графически упраздняются. Такое вытравливание религиозно-эстетического чувства, «спрятанное» в графическое «обезглавливание» имен Христа, снова заставляет актуализировать вопрос о необходимости издания творческого наследия русских классиков в аутентичном виде.
 88-113
88-113


Мотив благословения отца в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные»
Аннотация
В статье представлена интерпретация мотива благословения отца в романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», являющегося ключевым в сюжете этого произведения. Изображая уход из дома и возвращение к отцам Наташи, а также матери Нелли, писатель представил женскую версию библейского мотива «блудного сына». Однако у двух историй разные сюжеты, обусловленные отсутствием или наличием отцовского благословения. Мать Нелли, не получив благословения и прощения, умерла. Наташа Ихменева, дождавшись отцовского раскаяния, прощения и благословения, возвратилась к прежней жизни. В статье отмечено, что благословение родителя — важный мотив русского фольклора. В сказке «Сивко-Бурко», записанной А. Н. Афанасьевым, оно дается в награду за прохождение испытания, и дураку Ивану удается покорить сердце царевны. Состояние Ихменева в момент побега дочери подобно состоянию героя «Станционного смотрителя» Пушкина Самсона Вырина: муки отцов вызваны не столько людским позором, сколько подразумеваемым наказанием Божьим. В «Униженных и оскорбленных» именно Ихменев сделал первый шаг к примирению с дочерью, прощению и отцовскому благословению. Сохраняя значимые фольклорные и библейские коннотации, в произведении Достоевского мотив блудного сына дополняется мотивами христианского прощения и сострадания.
 114-122
114-122


Концепция красоты в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»
Аннотация
В статье в эстетическом и этическом измерениях рассмотрена амбивалентность красоты Настасьи Филипповны Барашковой, героини романа Ф. М. Достоевского «Идиот». По сравнению с предыдущими интерпретациями образа, отмечена бóльшая многозначность представлений писателя о красоте героини. Настасья Филипповна обладает не только физической, но и внутренней красотой, вызывающей разную реакцию героев произведения. При решении вопроса: какая красота может “мир перевернуть”? — предлагается учитывать, что этот переворот может быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Сила красоты Настасьи Филипповны, поляризованной между добром и злом, может «перевернуть»/повернуть мир и человека как к гибельному мраку, так и к свету воскресения. Ее красота не может определяться только в нравственно противопоставленных категориях статуарной физической или духовной красоты. В своих проявлениях она символизирует незавершенность, отказывающуюся от «овеществления». Это красота неопределимая, остающаяся загадкой.
 123-134
123-134


Петр Верховенский в системе героев романа Ф. М. Достоевского «Бесы»
Аннотация
Цель статьи — освоение художественно-философского значения образа Петра Верховенского, являющегося главным в системе персонажей романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Это предполагает расширение и углубление представлений о его личностном становлении. В духовном опыте Верховенского происходит путаница понятий об исконных христианских ориентирах, нарушается иерархия Закона и Благодати. Петр Верховенский наделен способностью воздействовать на окружающих из своих корыстных побуждений во имя самоутверждения, выстраивая мнимую реальность, и повелевать доверившимися ему сподвижниками с помощью угроз и шантажа. Законничество незримо переходит в беззаконие, с одной стороны, наделяя Верховенского силой влияния на окружающих, причем явно от натуры или от извращенной человеческой природы. C другой стороны — обрекает героя, прельщенного соблазнами самоутверждения, на одиночество и духовное оскудение. В статье также показано влияние Петра Верховенского на творческие искания русских писателей, которые выявляют трагические итоги нарушения ценностной иерархии Закона и Благодати, что позволяет рассматривать данный художественный образ в нравственных парадигмах современности.
 135-152
135-152


Евангельская основа темы братства людей в творчестве И. А. Бунина
Аннотация
Статья посвящена исследованию темы братства людей и ее эволюции в творчестве И. А. Бунина. В художественном мире писателя утверждается идея новых — евангельских, братских — отношений между людьми, основанных на христианской любви. В ранних стихотворениях «В костеле», «Надпись на могильной плите» появляются ключевые для понимания развития темы братства людей образы и мотивы: образ Христа, мотив верности «завету любви» и новым, евангельским отношениям между людьми. В произведениях 1914–1916 гг. И. А. Бунин создает образ человечества, забывшего о Боге, о Христе, о своем изначальном братстве. В стихотворениях «Молчание», «Отчаяние», в рассказах «Братья», «Весенний вечер» звучит трагический мотив разрушения братства людей. Особое внимание в статье уделено исследованию христианского текста в рассказе «Братья», результаты которого позволили говорить о евангельском значении слова «братья» в эпиграфе и в названии рассказа, играющих важнейшую роль в выражении ключевой авторской идеи. Произведения И. А. Бунина периода революции 1917 г. и Гражданской войны — дневник «Окаянные дни» и речь «Миссия русской эмиграции» — пронизаны трагическим мотивом братоубийства и образами русского Каина и русского Авеля. В творчестве И. А. Бунина периода эмиграции, в лирико-философской прозе 1920-х гг., вновь звучит идея братства людей, глубочайшей взаимосвязи всего человечества. Тема братства людей в творчестве И. А. Бунина, имеющая евангельскую основу, развивается на протяжении всего творчества писателя, что свидетельствует о ее значимости для мировоззрения писателя и его концепции мира и человека.
 153-171
153-171


Тема детства в романе Б. К. Зайцева «Заря»
Аннотация
Целью статьи явилось рассмотрение специфики изображения темы детства в романе «Заря» Б. К. Зайцева. В современном литературоведении активно разрабатывается, изучается тема детства в творчестве отечественных писателей, оказавшихся в эмиграции после революционных событий. Актуальность работы обусловлена тем, что в ней исследуется одна из важных тем литературы русского зарубежья. Новизна исследования состоит в сопоставлении романа Б. К. Зайцева с русской классической прозой XIX в. о детстве, в уточнении вопроса о традициях и новаторстве в решении темы детства писателем русского зарубежья. В работе рассмотрены теоретические вопросы, связанные с пространственно-временной структурой романа «Заря», раскрытием образно-мотивного ряда, художественных средств и приемов. Все это является необходимым не только для понимания особенностей воплощения образа детства в прозе Б. К. Зайцева, но и для определения национального своеобразия русской литературы о детстве. В центре романа Зайцева находится образ ребенка, живущего в усадьбе, традиции изображения которой восходят к произведениям русской литературы XVIII–XIX вв. Описывая родовое «гнездо» с его вещественным наполнением, особой семантикой, автобиографической основой, воссоздавая мир ребенка, Б. К. Зайцев опирается на повесть Л. Н. Толстого «Детство». Идиллическое время доминирует в структуре романа «Заря». Важными составляющими ее являются мотивы света, ароматов, запахов, звуков природы, синэстезия, характерная для детского мироощущения. Ребенок переживает полноту радости бытия, родственного пребыванию в Эдеме. Мир детства, пронизанный Божественной благодатью, кроме биографического и исторического времени, обращен к категории Вечности. Детство одухотворяется и сакрализируется. Мать и отец органично включаются в мир романа, ассоциируются с представлением об упорядоченности и устойчивости бытия. Совместные семейные трапезы, ритуальность становятся событиями, создающими атмосферу счастья. Детское мировосприятие показано через систему оппозиций «свое»/«чужое» пространство. Детство сопряжено с танатологическими событиями. Описание круга чтения становится обязательным для раскрытия внутреннего мира героя-ребенка. Роман писателя является примером изображения детства, обусловленного новой эпохой, модернистскими новациями, состоящими в изменении взаимоотношений автора и ребенка.
 172-186
172-186


Звукообразы в поэтике О. Ф. Берггольц
Аннотация
Сенсорная поэтика художественных текстов О. Ф. Берггольц до сих пор специально не изучалась. С детских лет поэтесса была погружена в народно-песенную стихию и обостренно воспринимала аудиальную сферу; «память звука» была для нее важнейшей ассоциативной связью при построении художественной картины мира. В образе валдайской дуги в автобиографической повести «Дневные звезды» смыслопорождающей функцией обладает именно звуковая субстанция. Индивидуально-авторский звукообраз православной молитвы, которую читает няня Авдотья в «Дневных звездах», в статье рассматривается в сопоставлении с описанной Берггольц иконой св. прп. Серафима Саровского. Звуковая метаморфоза молитвословия функционирует в тексте повести как проводник сакрального смысла иконописного экфрасиса. Наиболее репрезентативным образом в творчестве Берггольц является Ленинград; акустическое пространство города моделируется автором исходя из исторического контекста. Чуткое восприятие соносферы пореволюционного города способствует созданию в «Дневных звездах» необычных звуковых метафор (говорящие, кричащие стены; вопиющий камень). В киносценарии «Ленинградская симфония» звук-стук метронома, возникший накануне блокадных испытаний, ассоциирован с Седьмой («Ленинградской») симфонией Шостаковича. В блокадной лирике зрительные (цветовые) характеристики образов вытесняются слуховыми; звуки войны — свист, визг, лязг, скрежет, хруст — несут негативную коннотацию разрушения и гибели, а скрип полозьев блокадных саночек является знаком-маркером смерти. Семантика тишины амбивалентна; при этом тишина и беззвучие семантизированы по-разному: беззвучие в экзистенциальном смысле противопоставлено звуку как смерть жизни: начало «всеобщей гибели» происходит тогда, когда в пространстве «умер звук»; возвращенный миру звук/звон/шум изоморфен жизни.
 187-206
187-206


Жанр газели в поэтике Нима Юшиджа
Аннотация
Статья вводит в научный оборот не рассмотренные ранее в отечественной и зарубежной иранистике газели Нима Юшиджа, которые дали старт развитию этого традиционного жанра на современном этапе. Анализ канонического языка средневековой лирики в интерпретации «отца новой поэзии Ирана» способствует пониманию трансформации авторского самосознания в русле индивидуальной художественной манеры. Образные конвенции и устойчивые мотивы любовной лирики, впитавшие традиционные мистико-аллегорические коннотации, своеобразно преломляются в газелях Нима Юшиджа. Структурно-семиотический взгляд, сопряженный с подходом сравнительно-исторической поэтики, раскрывает природу полисемантизма классических мотивов газели, которые сохранены в стихотворениях Нима Юшиджа. Смысловая многослойность текстовой структуры оказывается для поэта средством, позволяющим иносказательно изложить творческое кредо. В реализации поэтического замысла наряду с нормативными компонентами формального плана (прием хусн ат-тахаллус) используются также и нетипичные для классического канона приемы оформления произведения (рамочный текст). Таким образом, налицо смысловое и формальное единство в корпусе газелей Нима Юшиджа.
 207-228
207-228


Нарратив в книге Т. Кескисарьи «Война "шляп"»
Аннотация
Исследование проведено в рамках нарратологического анализа, материалом для которого послужила военно-историческая книга Т. Кескисарьи «Война "шляп"». Она рассказывает о русско-шведской войне 1741–1743 гг. (известной как война «шляп»), которую Швеция начала в надежде вернуть себе утраченные в ходе Северной войны (1700–1721) территории. Картины прошлого представлены главным образом через протоколы военных и гражданских судов, дневниковые записи священнослужителей, разного рода документы (письма, приказы, прошения), исторические карты. Отправной точкой исследования явилось противопоставление исторического и литературного нарратива, научного и художественного стилей. Кескисарья использует в качестве основного инструмента анализа архивных материалов интерпретацию, позволяющую рассуждать о человеческом опыте. Применяемый автором способ представления архивных данных читателю XXI в. через призму романа с чертами психологического анализа вполне отвечает потребностям нынешнего времени. Увлекательная манера повествования в совокупности с профессионализмом историка дают читателю вполне адекватное представление о политической ситуации в Европе и трагических событиях XVIII в. Кескисарья задействует выразительные средства художественной литературы, внедряет в текст повествования вымышленного, независимого, стороннего наблюдателя («существо разумное»), который дает оценку событиям, ведет диалог с читателем. Отмечены такие особенности исследуемого текста, как диалогичность, антропоцентричность, эмоциональность, гибридность. Рассматриваются нарративные стратегии, реализуемые в тексте. Подробности судеб реальных людей придают повествованию объемность и выразительность. Автор монографии не «придумывает», не «вымышляет» те или иные события описываемой действительности — он домысливает и интерпретирует их, пытаясь понять их смысл и связи с прошедшим и грядущим.
 229-250
229-250