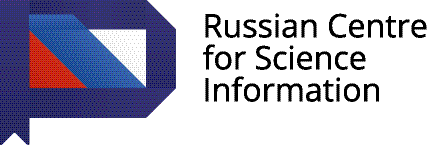Franz Kafka and the Problem of Literary Reputation (On the 100th Anniversary of the Writer’s Death)
- Autores: Zherebin A.I.1
-
Afiliações:
- A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
- Edição: Volume 83, Nº 1 (2024)
- Páginas: 5-12
- Seção: Articles
- URL: https://medbiosci.ru/1605-7880/article/view/258400
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024010012
- ID: 258400
Texto integral
Resumo
The article is structured in the form of the author’s reflections on E.G. Etkind’s essay “The Image of Kafka in the Soviet Union” (1980). The theoretical objective of the article is to substantiate the concept of “literary reputation” as applied to a foreign writer. It is proved that the literary and aesthetic discussion of the 1960s about realism and modernism was ideologically colored, and the Soviet reception of Kafka’s modernist work provides an expressive example of the formation of the writer’s reputation under the influence of the socio-political context of the receiving culture. Literary criticism, as well as reader reception, was dominated by the social theme of exposing totalitarian power and the destruction of the individual as its victim, while the metaphysical meaning of Kafka’s mythology of alienation was at best relegated to the background. Kafka’s reputation in the USSR should be seen as a function of one of the competing sociocultural discourses. It was created by the forces of the opposition intelligentsia on the basis of the elimination of metaphysical discourse and its replacement with the liberal-democratic discourse of freedoms, which asserted its dominance in conditions of degradation and decay of Soviet ideology. Today, 100 years after the death of the writer, a new phase of our dialogue with his work begins.
Texto integral
Произведения Франца Кафки вошли в советскую культуру с середины 1960-х годов. Поводя итог первому периоду их рецепции, Е.Г. Эткинд писал: «Кафка в Советском Союзе — явление исключительное. История литературы Нового времени едва ли знает нечто подобное. Неизвестный иностранный писатель воспринимается как замаскированный соратник, его произведения перепечатываются и распространяются тайно, под угрозой жизни, он удостаивается высшей чести — цензурного запрета. <…> Его параболические романы предсказали будущее России» [1, p. 237]. Источник приведенной цитаты — небольшая десятистраничная статья Е.Г. Эткинда «Образ Кафки в Советском Союзе» (оригинальное название: “Franz Kafka in sowjetischer Sicht”). На русский язык, насколько мне известно, она не переводилась (несколько фрагментов из нее Эткинд воспроизвел по-русски в выступлении на радио «Свобода» в 1983 году по случаю столетия со дня рождения писателя); по-немецки же статья вышла в 1980 году в сборнике материалов одной из многочисленных конференций, посвященных Францу Кафке в Европе [Там же]. За минувшие с тех пор десятилетия тема «Кафка в России» не раз привлекала к себе внимание и у нас, и за рубежом [2]. Тем не менее позиция Эткинда представляет, на наш взгляд, интерес и сегодня — не только как репрезентативный документ своего времени, но и как повод для дальнейшего изучения не до конца выясненного вопроса о соотношении понятий «литературная репутация» и «литературная рецепция» [3]; [4].
Не исключено, что они соотносятся приблизительно так же, как вода и лед. Представим себе пространство, заполненное какой-то аморфной, подвижной, неоднородной и неупорядоченной субстанцией, и процесс ее кристаллизации. Из этого текучего материала выпадает осадок, образуется твердое вещество, кристалл, кристаллическая структура. Но она вбирает в себя не все, не весь материал рецепции поглощается кристаллом репутации. Кристалл в нем плавает и может снова раствориться. Иначе говоря, механизм создания литературной репутации работает по принципу смысловой редукции, а в редукции, как учил Гуссерль, самое интересное и важное то, что выносится за скобки.
Согласно Пьеру Бурдье, работа этого механизма обеспечивается взаимодействием инстанций и актеров, образующих социальное «поле литературы». К ним относятся: литературная критика, журнальные рецензии и торговая реклама, разнородная читательская аудитория, авторы литературных произведений, начинающие и уже занявшие определенное место в системе поля, переводчики, издательства, библиотеки, министерства культуры и цензурные комитеты, формальные и неформальные литературные объединения и салоны, университетские кафедры и т.п. [5, c. 22–87]. В литературном поле, утверждал Бурдье, идет непрерывная конкурентная борьба за власть и влияние. Успешное продвижение того или иного автора и его произведений, их успех и слава, иногда их канонизация утверждают господство определенного понимания литературы, определенных идеологических позиций и картины мира в целом.
По существу, литературное поле, для характеристики которого Бурдье создал особый терминологическим аппарат («габитус», «символический капитал», «оркестровка» и др.), представляет собой не что иное, как детальное и дифференцированное описание социокультурного контекста как фактора рецепции творчества писателя, а следовательно, и обусловленной ею писательской репутации. Но принципа редукции у Бурдье, кажется, нет, а статья Эткинда его, как нам представляется, позволяет выявить.
* * *
Русская рецепция Кафки дает выразительный пример формирования репутации писателя под влиянием общественно-политического контекста воспринимающей культуры. Всплеску интереса к творчеству вновь открытого пражского пророка способствовала посвященная ему международная конференция в чехословацком городе Либлице, где западные марксисты провозгласили Кафку символом борьбы за «социализм с человеческим лицом» и требовали для него «въездной визы в социалистическую культуру» [6, p. 366–377]. Теоретическим фоном этого требования служила бурная дискуссия о реализме и модернизме, в которой участвовали и советские ученые.
Знаковым событием явилась публикация романа «Процесс» (в сопровождении малой прозы), который был выпущен издательством «Прогресс» в переводе Р. Райт-Ковалевой в 1965 году [7]. Это было первое легальное издание; до него текст «Процесса» ходил по рукам в машинописной форме, и многие думали, что под псевдонимом Франц Кафка скрывается кто-либо из инакомыслящих русских авторов. Об идеологической «борьбе за Кафку», предшествовавшей официальной публикации его романа, свидетельствуют многочисленные мемуары эпохи перестройки и последующих лет [8, с. 210–226]; [9, с. 399–410].
В литературной критике, как и в читательской рецепции, метафизический смысл изображенного Кафкой процесса изначально не привлекал к себе внимания, доминировала социальная тема бесправия личности и насилия над нею со стороны неправедной и жестокой тоталитарной власти. Большинством читателей и рядом критиков роман Кафки был воспринят в контексте сталинского «большого террора». Илья Эренбург писал, что, когда он вспоминает о процессе 1938 года по делу Бухарина, «“Процесс” Кафки кажется ему реалистическим, вполне трезвым произведением» [10, с. 202].
В 1960-е годы преобладала интонация, заданная Анной Ахматовой в стихотворении «Подражание Кафке»: «Неужто я всех виноватей / На этой планете была?» [11, c. 94–95]. Строчка Ахматовой как будто бы перекликается с вопросом Йозефа К., обращенным к священнику: «Ведь я невиновен… И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой» [7, c. 291]. Смысл ахматовской строки по существу тот же самый: если я виновна, то не более, чем любой другой человек. За что же судят именно меня? Но если у Кафки ответом на этот вопрос становится притча о человеке у врат Закона, которая переводит тему вины в метафизический план, то стихотворение Ахматовой было написано и читалось как обвинение неправого человеческого суда, с явной аллюзией на события ее собственной жизни. «Он писал для меня и обо мне», — говорила она, по воспоминаниям И. Берлина, в 1965 году [12, c. 209]. В статье Эткинда о стихотворении Ахматовой ничего не сказано, но в том, что он его знал, нет никаких сомнений. Среди первых слушателей стихотворения, прочитанного Ахматовой 3 марта 1961 года в ее квартире на улице Красной Конницы, были поэты и писатели, c которыми Эткинд был хорошо знаком, — Евгений Рейн, Александр Кушнер, Лидия Яковлевна Гинзбург [2, c. 395].
* * *
Вопрос о соотношении рецепции и репутации писателя тесно связан с проблемой метапозиции исследователя. Статья Эткинда свидетельствует о том, что точка зрения автора коррелирует, а частично и совпадает, с точкой зрения тех советских читателей и критиков 1960-х годов, о которых он писал. Когда Эткинд пишет о том, как восприняли творчество Кафки они, он пишет одновременно и о себе самом. Он сам — часть того интерпретационного сообщества, которое он описывает не только как исследователь, но и как мемуарист. Лучше всего это подтверждают ссылки на Кафку и цитаты из «Процесса» в его мемуарах «Записки незаговорщика» (1977). Вспоминая о деле Бродского и своем собственном деле, Эткинд, например, писал: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Об этом я думал, ожидая начала процесса. Франц Кафка обладал несравненным воображением, он сочинил “Процесс” — страшный судебный процесс возникает из ничего. Дело К. в “Процессе” приобрело кошмарные черты, оно могло приобрести любые черты и размеры, потому что строилось на пустоте, на нуле» [13, с. 219–220]. Другой главе, описывающей допрос в КГБ, предпослана цитата из «Процесса»: «Кто все эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище?» [Там же, с. 366]. К Кафке отсылают, конечно, и саркастические предложения, которыми Эткинд эту главу заканчивает: «При свете нас душить не любят. В темноте действует один закон, при свете дня — другой. Апофеоз законности!» [Там же, с. 373]. Именно так думает о процессе и Йозеф К., правда, лишь до тех пор, пока его не начинают мучить сомнения в своей правоте: действительно ли все его дело — ложь, построенная «на нуле»?
Иностранный текст становится у Эткинда ключом к критическому осмыслению советской действительности, а изучение его рецепции — актом создания репутации. Когда читаешь его статью, появляется желание отыскать хотя бы намек на авторскую метапозицию. Возможно, ее содержит предпосланный статье эпиграф из «Фауста»: «Дрянь песня, политический куплет!» (Ein garstig Lied, pfui! Ein politisch Lied! Ein leidig Lied!) [1, p. 229]. Возглас относится к сатирическим куплетам, которые пьяные студенты-вольнодумцы распевают в сцене «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге», написанной Гёте еще в период литературной революции «Бури и натиска». «Всей Римскою империей Священной / Недолго простоим мы во Вселенной», — запевает гуляка по имени Фрош [14, с. 74]. Тема куплетов — близящееся падение Священной Римской империи Германской нации, которая вскоре действительно была разгромлена революционной армией Наполеона. Не исключено, что Эткинд вкладывал в эпиграф двоякий смысл: с одной стороны, он подчеркивал, что советский образ Кафки был политизирован, обслуживал актуальный политический запрос оппозиционной интеллигенции с ее надеждами на крушение дряхлеющей советской империи, с другой — намекал на ограниченность и упрощенность политизированного понимания произведений Кафки: «дрянная песнь». Но был ли в эпиграфе этот критический обертон — теперь не спросишь. Если и был, то в содержании статьи он отражения не получил.
Особенно выразителен у Эткинда фрагмент, где он сравнивает «Процесс» Кафки с романом Булгакова «Мастер и Маргарита», который был написан на десять лет позже «Процесса», но опубликован был и вошел у нас в моду почти одновременно с ним. По воспоминаниям Эткинда, эти романы воспринимались во взаимном освещении. Общий признак, по которому Эткинд их сравнивает, — удвоение действительности. Художественная ткань обоих романов отчетливо распадается на два идейных пласта, подчиненных изображению двух миров: реального, насыщенного приметами повседневного быта, и фантастического, иррационального и таинственного. Есть реальная Прага эпохи распада Австро-Венгерской империи, есть красная Москва двадцатых годов – и есть в обоих случаях демоническая, инфернальная власть, вторгающаяся в повседневную благополучную жизнь и ее безжалостно разрушающая. Но о том, что жизнь эта неправедна и разрушения заслуживает, в статье Эткинда ничего не говорится. Из нее следует, что всесильный и вездесущий суд в «Процессе», который проводит свои заседания на душном чердаке одного из домов на окраине Праги, и Воланд с компанией в «Мастере и Маргарите», расположившиеся в квартире на Чистых прудах, воспринимались советскими читателями как коррелирующие варианты мифологизации социального зла, воплощенного в репрессивной советской системе.
Антисоветский дискурс просвечивал, по Эткинду, и в научной дискуссии. Среди актеров литературного поля, создавших русскую славу Кафки, наряду с читателями значительную роль играли профессиональные знатоки и исследователи литературы. Для большинства из них обращение к творчеству Кафки включало личную мотивировку. Дмитрий Затонский, Борис Сучков, Владимир Днепров, Лев Копелев – все они в той или иной степени пережили преследования со стороны советского государства и, как говорит Эткинд, могли бы сами быть персонажами «Процесса». За научной проблемой оправдания модернизма, которую они решали в своих работах, скрывалась тайна их личных биографий.
Примечательно, что статья Эткинда была опубликована под одной обложкой с работой известного немецкого исследователя Ульриха Фюллеборна, который доказывал нечто прямо противоположное: суд и процесс, разрушающие жизнь Йозефа К., вторгаются в эмпирическую действительность как символические образы высшего «духовного мира», пусть и гротескно искаженного [15, с. 81–100]. Словосочетание «духовный мир» (geistige Welt) действительно встречается у Кафки довольно часто, особенно в «Дневниках». В переводе на язык русской культуры это realiora, то, что реальнее реального, абсолютная и спасительная истина. Как известно, таков общий признак модернизма: вера в истинную реальность, затаившуюся под наслоения обманчивой видимости в ожидании того часа, когда грешные, земные люди ее расшифруют и расколдуют.
Не знать этого Эткинд, разумеется, не мог. Задолго до Фюллеборна и целого ряда других толкователей на религиозный символизм Кафки указывал Макс Брод, первый издатель и пропагандист его произведений. Вина Йозефа К., подчеркивал Брод, не в нарушении юридической нормы, а в конформизме, в том, что он слишком благополучно устроился в мире социального отчуждения, глух к высшим нравственным требованиям и утратил способность любить [16, с. 443]. И точно так же, в свете религиозного мировоззрения Кафки, интерпретировал Брод образ суда. Гротеск в его изображении, утверждал он, не сатира или не только сатира, а прежде всего знак непостижимой инородности божественного совершенства, его абсолютной противоположности человеческому миру [Там же, с. 211].
Солидаризуясь с описанной им советской рецепцией, Эткинд упрощал, вероятно, сознательно — так же, как упрощал в свое время Белинский, восхваляя Шиллера как благородного защитника униженных и оскорбленных, как упрощал Чернышевский, объявляя Лессинга союзником революционно-демократического движения. Идеологическая инструментализация иностранной литературы, взгляд на нее как на источник энергии социального протеста, понимание литературного творчества как деятельности общественной и нравственной — старая русская традиция. Но традиция эта отнюдь не только русская. Достаточно напомнить о французской репутации Канта, которого мадам де Сталь противопоставляла Империи Наполеона.
* * *
Еще один вопрос, подсказанный статьей Эткинда, — это вопрос о редукции как принципе создания писательской репутации. Увлечение творчеством Кафки в СССР шло с Запада, где его объявили визионером и пророком уже с конца 1940-х годов. В 1953 году Адорно отмечал: «Кафка в моде. Его бесприютность создает уют, из него сделали универсальное бюро справок по всем вопросам человеческой жизни… Авторитетные толкования гасят тот скандал, на который были рассчитаны его произведения» [17, p. 248]. Скандал, о котором говорит Адорно, — это вызов, брошенный Кафкой секуляризированной культуре. Именно этот скандал и гасили его интерпретации — не только на Западе, но и в России. Расшатывая доктрину соцреализма, наши пропагандисты Кафки проходили, как правило, мимо того факта, что в его произведениях, как и в литературе модернизма в целом, критика социального отчуждения не бесперспективна, она ведется в перспективе метафизической реинтеграции отчужденной личности. Парадокс заключался в том, что мода на Кафку утверждалась у нас параллельно с происходившей в те же годы реабилитацией русского символизма и авангардизма, но при этом без опоры на столь характерную для них религиозно-философскую мифопоэтику.
Репутация Кафки как адвоката безвинных и бесправных жертв репрессивной власти была настолько прочной, что мы чувствуем ее влияние даже в лучших из работ советского периода. Так, с точки зрения В.Г. Адмони, мотив примирения Йозефа К. с приговором суда лишь усиливает «пророчески-разоблачающую» тему порабощения и уничтожения человека [18, c. 167]. Так же и Е.М. Мелетинский, исследуя неомифологический роман ХХ века, хотя и подчеркивал значение для Кафки метафизической проблематики, полагал тем не менее, что «Кафка не использует мифологему смерти — воскресения» [19, c. 358], и тема обновления, восходящая к обряду инициации, у него полностью отсутствует. Модернистская мифология Кафки была описана Мелетинским как трагическая мифология отчуждения, кафкианская модель мира — как царство безнадежного абсурда, где человек обречен на деградацию и утрату автономной личности.
Но не противоречат ли этому последние главы романа, где вера Йозефа К. в свою правоту заметно ослабевает? Он не ищет больше помощи у других, ни у бюрократических инстанций, ни у адвокатов, ни у женщин и, пусть только в момент казни, испытывает мучительный стыд из-за того, что не понял и не принял правды процесса: «Как собака — сказал он так, как будто этому стыду суждено было его пережить» [7, c. 310]. По Ницше, чьи произведения входили в круг чтения Кафки, стыд существует там, где есть религиозное таинство, а поскольку одним из таинств в течение многих веков считалась человеческая душа — нечто, что имеет божественное происхождение и делает человека достойным общения с богами, — люди испытывают стыд, когда открывают в себе душу [20, c. 292].
Мотив открытия души явственно звучит в предсмертном признании Йозефа К.: «Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили!» [7, c. 307]. Не намечается ли в этом отрывке и признание героем необходимости приговора, о которой говорил ему в соборе священник, не становится ли страх и страдание приговоренного предвестием трагического катарсиса? В одном из афоризмов Кафки читаем: «Смерть, которая переносит человека в бесконечность духовного мира, в высшей степени желательна — банальная смерть, которая только перемещает нас из одной ненавистной камеры в другую, есть не что иное, как жестокость… Мы хотим, умирая, слушать призыв Бога: этого не запирайте больше. Я беру его к себе» [16, с. 432].
В том же направлении ведут и другие символические мотивы последнего эпизода: свет, внезапно вспыхивающий в далеком окне, коррелирует со светом, струящимся из недр Закона в притче священника, а предсмертный жест Йозефа К. может быть истолкован как предание себя на милость Всевышнего: «К. поднял руки и развел ладони» [7, c. 310].
По мысли М.Л. Гаспарова, Кафка воспроизводит ту модель отношений между властью и личностью, которую издавна знает история, будь то изгнание Овидия, ссылка Сперанского или практика святой инквизиции в эпоху Галилея. Общим было отсутствие ясно сформулированного обвинения: «Сам должен знать, за что. Иди и платись» [21, c. 143]. И в романе Кафки это действительно так. Однако по мере развития процесса тема сопротивления героя чуждому и непостижимому Закону все больше вытесняется темой его раскаяния, его внутренней готовности «платиться». Эрих Фромм и вслед за ним ряд других авторов «гасили скандал», устроенный Кафкой, сводя раскаяние Йозефа К. к формулам «авторитарная совесть» и «бегство от свободы» [22, с. 144, 482–486]; [23, с. 63] — способ, на наш взгляд, малоубедительный, потому что тогда слишком многое в мировой литературе можно свести к «бегству от свободы», в том числе и Достоевского, и позднего Толстого. Как известно, наряду со свободой самоценного автономного «я» мыслима свобода, которая достигается в движении личности к своей границе, где личное самосознание пересекается со сверхличным бытием и зарождается то отношение их «нераздельности-неслиянности» [24, c. 79–88], которое Бахтин называл «автономной причастностью или причастной автономией» [25, с. 25]; см. [26, с. 12–23].
На уровне композиции присутствие метафизического дискурса в литературе нередко реализовалось в структуре «двойного сюжета». Термин «двойной сюжет», введенный Н.Я. Берковским применительно к просветительскому роману, фиксировал альтернативное равновесие двух разнонаправленных сюжетных линий. По одной из них действительность изображалась как абсурдный хаос, а по другой концептуализировалась как разумный миропорядок [27, с. 5–104]. Нечто подобное может быть отмечено и в «Процессе» [28, с. 183]. История сопротивления Йозефа К. суду ведет героя к утрате своего «я» и физической казни, создавая образ беззаконного мира, где царят зло и насилие. Но вторая сюжетная линия — история дешифровки и интериоризации героем требований суда — показывает его на пути к признанию божественной справедливости, через смерть к духовному преображению. Мифология отчуждения имеет у Кафки оборотную сторону — религиозный миф о спасении.
В статье Эткинда идет речь о двойной действительности, но проблема второго сюжета в ней не затронута, как не затронута она и в большинстве откликов, о которых в ней упоминается. И это дает основание думать, что литературная репутация Кафки складывалась у нас преимущественно вне метафизического дискурса, на основе его элиминации или редукции и в конечном счете его подмены либерально-демократическим дискурсом свободы, утверждавшим свое господство в условиях деградации и распада советской идеологии.
В заключение хотелось бы напомнить сегодня уже банальную мысль о том, что никакого «настоящего» Кафки, никакого объективно правильного прочтения его произведений, скорее всего, не существует. Мы замкнуты в круге его двойников, среди которых двойник, созданный его современниками или соотечественниками, не более верен, чем двойники позднейшие или инокультурные. Репутация Кафки в СССР, как и любого писателя, заслуживает анализа не как «искажение» его реального облика, а как функция одного из конкурирующих социокультурных дискурсов.
Sobre autores
Alexey Zherebin
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
Autor responsável pela correspondência
Email: zerebin@mail.ru
Doct. Sci. (Philol.), Professor
Rússia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, 191186Bibliografia
- Etkind, E. Franz Kafka in sowjetischer Sicht. Franz Kafka. Themen und Probleme. Hrsg. von C. David. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht Publ., 1980, S. 229–237. (In Germ.)
- Franz Kafka v russkoy kulture. [Franz Kafka in Russian Culture. Ed. A. Filippov-Chekhov]. Moscow: Rudomino Book Center Publ., 2012, pp. 394–395. (In Russ.)
- Rozanov, I.N. Literaturnyye reputatsii [Literary Reputations]. Moscow: Kooperativnoye izd-vo “Nikitinskiye subbotniki” Publ., 1928. 147 p. (In Russ.)
- Reytblat, A.I. Kak Pushkin vyshel v genii. Istoriko-sotsiologicheskiye ocher-ki o knizhnoy kulture Pushkinskoy epokhi [How Pushkin Came Out as a Genius. Historical and Sociological Essays on the Book Culture of the Pushkin Era]. Moscow: NLO Publ., 2001. 328 p. (In Russ.)
- Bordieu, P. Pole literatury [Field of Literature]. Novoe literaturnoe obozreniye [New Literary Review]. 2000, No. 45, pp. 22–87. (In Russ.)
- Fischer, E. Kafka-Konferenz. Heinz Politzer (Hrsg.). Franz Kafka. Darmstadt: Wisschenschaftliche Buchgesellschaft Publ., 1973. S. 366–377. (In Germ.)
- Kafka, F. Roman. Novelly. Pritchy. [Novel, Short Stories, Parables]. Moskow: Progress Publ., 1965. 614 p. (In Russ.)
- Katseva, Е. Moy lichnyy voennyy trofey. Povest o zhizni [My Personal Military Trophy. Tale of Life]. Мoscow: Raduga Publ., 2002, pp. 210–226. (In Russ.)
- Kopelev, L. Trudnoye putechestvije Kafki v Rossiyu [Kafka’s Difficult Journey to Russia]. Kafka, F. Zamok. Roman. Rasskazy. Pritchi [Castle. Novel. Stories. Proverbs]. Moscow: Rif Publ., 1991, pp. 399–410. (In Russ.)
- Ehrenburg, I.G. Lyudi. Gody. Zhizn [People. Yers. Life]. Vol. I–III. Moscow: Tekst Publ., 2005. Vol. II. Book 4, pp. 7–282. (In Russ.)
- Akhmatova, A.A. Podrazhaniye Kafke, Sobraniye sochineniy v 6 tomakh [Imitation of Kafka, Collected Works in 6 Vols.]. Moscow: Ellis Luck Publ., 1999. Vol. II, pp. 94–95. (In Russ.)
- Berlin, I. Vstrechi s russkimi pisatelyami [Meetings with Russian Writers]. Akhmatova, A. Requiem. Moscow: MPI [Moscow Printing Institute] Publ., 1989, pp. 197–224. (In Russ.)
- Etkind, E. Zapiski nezagovorshika [Notes of a Non-Conspirator]. London: Overseas publications interchange, 1977. 488 p. (In Russ.)
- Goethe, J.-W. Faust, perevod B. Pasternaka, Sobraniye sochineniy v 10 tomakh [Collected Works in 10 Vols.]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1976, Vol. II, 510 p. (In Russ.)
- Fülleborn, U. Der Einzelne und die “geistige Welt”. Franz Kafka. Themen und Probleme. Hrsg. von C. David. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht Publ., 1980, S. 81–100. (In Germ.)
- Brod, M. O Frantse Kafke [About Franz Kafka]. St. Petersburg: Academic project Publ., 2000. 505 p. (In Russ.).
- Adorno, Th.W. Aufzeichnungen zu Kafka. Ders. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1963, S. 248–281. (In Germ.)
- Admoni, V.G. Poetica i deystvitelnost. Iz nablyudeniy nad zarubezhnoy literaturoy XX veka [Poetics and Reality. From Observations of Foreign Literature of the 20th Century]. Leningrad: Sovetskiy pisatel Publ., 1975. 312 p. (In Russ.)
- Meletinskiy, E.M. Poetica mifa [Poetics of Myth]. Moscow: Vostochnaya literature Publ., Yazyki russkoy kultury Publ., 1995. 408 p. (In Russ.)
- Nietzsche, F. Chelovecheskoye, slishkom chelovecheskoye, Sochineniya v 2 tomakh [Human Too Human. Works in 2 Vols.]. Moscow: Mysl Publ., 1990, Vol. 1, pp. 231–490. (In Russ.)
- Gasparov, M. Zapisi i vypiski [Records and Extracts]. Moscow: NLO Publ., 2008. 388 p. (In Russ.)
- Fromm, E. Begstvo ot svobody. Chelovek dlya sebya [Flight from Freedom. A Man for Himself]. Moscow: Ast Publ., 2006. 571 p. (In Russ.)
- Kraus, W. Nihilismus heute, oder Die Geduld der Weltgeschichte. Frankfurt a. Moscow: Fischer Publ., 1985. 156 p. (In Germ.)
- Broytman, S.N. Istochniki formuly “nerasdelnost I nesliyannost” u Bloka [Sources of the Formula “Inseparability and Non-Fusion” in Blok]. Aleksandr Blok. Issledovaniya i materialy [Alexander Blok. Research and Materials]. Leningrad: Nauka Publ., 1987, pp. 79–88. (In Russ.)
- Bakhtin, M.M. Voprosy literatury i estetiki [Questions of Literature and Aesthetics]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1975. 504 p. (In Russ.)
- Makhlin, V. Prichastnaya avtonomiya. K voprosu o dialogizme M.M. Bakhtina [Participatory Autonomy. On the Question of M.M. Bakhnin’s Dialogizm]. Voprosy filosofii [Topics in the Study of Philosophy]. 2022, No. 11, pp. 12–23. (In Russ.)
- Berkovsky, N.Y. Evolutsiya i formy rannego realisma na Zapade [Evolution and Forms of Early Realism in the West]. Ranniy burzhuaznyy realism, pod redaktsiyey N. Berkovskogo. [Ed. Berkovsky N. Early Bourgeois Realism]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1936, pp. 5–104. (In Russ.)
- Pavlova, N.S. Forma rechi kak forma smysla [Form of Parole as a Form of Meaning]. Voprosy literatury [Topics in the Study of Literature]. July-August 2003, pp. 167–183. (In Russ.)