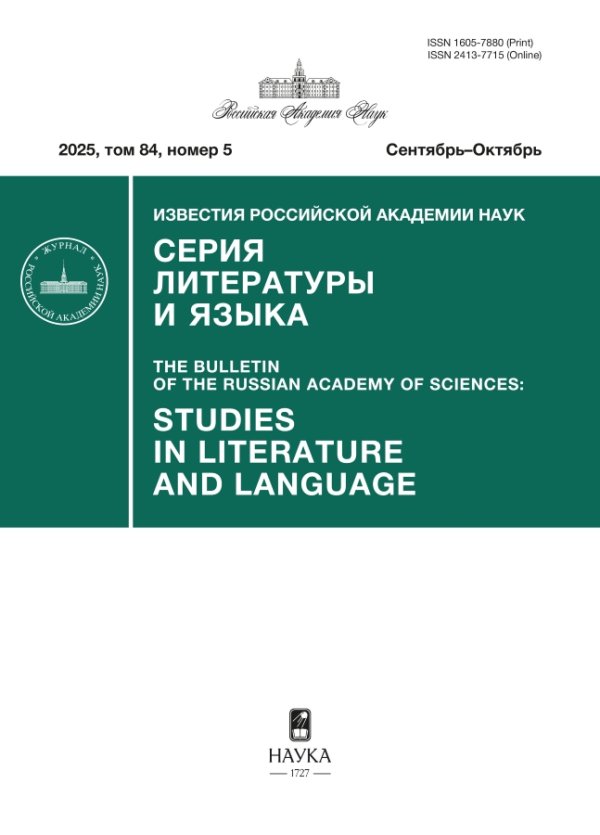The Motive of Childlessness in the Myth of the Ancestors of the Buryats
- Authors: Dampilova L.S.1
-
Affiliations:
- Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 83, No 4 (2024)
- Pages: 40-46
- Section: Articles
- URL: https://medbiosci.ru/1605-7880/article/view/270971
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024040048
- ID: 270971
Full Text
Abstract
On the base of the numerous variants of the myth of the origin of the ancestors of the Buryats, the author analyzes episodes concerning the motive for punishing a childless shaman (two shamanesses), and the rituals associated with receiving a child. The composition of folklore discourse reveals the semantic and semiotic specificity of variable texts. Methods of comparative, semantic-hermeneutic and semiotic analysis to identify the features of the text structure and definition of transformations of text and context at different times and in different ethnic traditions are used. As a result of the study, it was revealed that the original plot outline and characters remain unchanged in the structure of the text: the shaman as a mother, the bull as a father and the children – the first ancestors of the Buryat tribes. The motive of punishment and description of the rite for obtaining a child is present in all versions of the myth, except for the brief Selenga version. In the invariant of the motive of punishment, variants of the motive of exile, mortification, and strangulation are revealed. In different versions of the myth, recoding, transformation and refinement relate to images, motifs and mnemonic symbols. In the composition of the analyzed episodes, the author reveals the transcoding of mnemonic symbols, which are deciphered in the context of traditional stories and legends related to ritual events. From a semiotic point of view, it has been established that sparks from a flame / embers from a fire, a bone and an arrow in this case are the receptacle of the souls of future children.
Keywords
Full Text
Введение
Для выявления истоков мотива наказания бездетных и обрядов, связанных с получением ребенка, уникальным материалом представляются разные варианты генеалогического мифа о происхождении двух больших бурятских племен – булагат и эхирит. Мотив бездетности в структуре произведения является эпизодическим вставным нарративом, поэтому впервые предлагается как объект исследования. В архитектонике, т.е. в построении фольклорного дискурса (композиции сюжета, мотива и образа), рассматривается семантическая и семиотическая специфичность вариативных текстов. Материалами исследования выбраны отличающиеся по семиотическим составляющим западно-бурятские варианты мифа, записанные в разное время в Иркутской области. Для сравнения привлекается миф в традиции хоринских бурят, записанный у шэнэхэнских бурят в автономном округе Внутренняя Монголия КНР. Из многочисленных полных и кратких вариантов мифа под разными названиями о зооморфном происхождении предков бурят в работе анализируются эпизоды, касающиеся мотива наказания бездетной шаманки (или шаманок), и обряды, связанные с получением ребенка. Для сравнительного анализа временных и ареальных изменений в сюжете текста специально приводятся доступные паспортные данные.
В традиции монгольских народов с древних пор бытовало негативное отношение к бездетным женщинам как людям грешным, опасным, которых надо избегать, изгонять и умерщвлять. Современные информанты подтверждают, что раньше строго запрещалось говорить о бездетной женщине или семье, чтобы не притянуть к себе, своим близким несчастье. В связи с запретами обсуждения негативной темы и щепетильности вопроса «активно приступили к сбору материалов по родильной и детской обрядности монгольских народов лишь с середины ХХ в.» [1, с. 48]. В этнографических трудах С.П. Балдаева, Г.Р. Галдановой, К.Д. Басаевой, Т.Д. Скрынниковой, М.М. Содномпиловой, Д.Б. Батоевой и др. с разных точек зрения рассмотрены материалы по обрядам жизненного цикла бурят с включением вопроса бездетности. В статье востребованы методы сравнительного, семантико-герменевтического и семиотического анализа для выявления особенностей структуры текста, определения трансформации текста и контекста в разное время и в разных этнических традициях.
Инвариант мотива наказания бездетных женщин
В фольклоре монгольских народов мотив появления ребенка необычным путем является одной из самых востребованных тем: в эпосе у бездетных стариков рождается ребенок по воле небесных божеств, в сказках немало детей, рожденных/полученных от животных и птиц или воспитанных ими. В мифах используется этот же традиционный мотив, но их особенность в том, что чаще всего дети, полученные бездетными женщинами, как бы находятся у истоков жизни, становясь первопредками определенных племен и родов. В данной статье выявляются варианты мотива к инварианту мотива наказания «с учетом частотности вариантов мотива по отношению к его инварианту» [2, с. 22].
Одним из первых записей мифа является текст «Буха-ноин», предоставленный Г. Матхановым из Алари Г.Н. Потанину в 1864 г.: «Владетельница улуса была шаманка Асуй-хан, которая была бездетна, почему родственники хотели развести ее с мужем и выгнать из улуса, так как бездетная женщина у бурят в презрении. Асуй-хан знала это и молилась Богу о защите» [3, с. 267]. Следует обратить внимание, что в коротком эпизоде констатируется только факт существования традиции о греховности бездетной женщины и появляется вариант мотива изгнания.
Наиболее распространенным является миф «Буха ноён» в записи С.П. Балдаева со слов 83-летнего Мадаса Хантханова I холтубаевского рода из улуса Гуртуйский (бывшего Бильчирского инородческого ведомства) Иркутской области в мае 1911 года: «В атагановом роде была большая шаманка, звали ее Асуйхан, в хотогоновом роде тоже была шаманка, звали ее Хусуйхэн. Обе шаманки были вдовами, мужья их умерли, не оставив себе наследников. Таких вдов по обычаю умерщвляли, а имущество родственники делили между собой. Шаманок давно хотели умертвить, но они предсказывали, что по откровению тэнгэринов у них должно быть по одному сыну, что домашние очаги их мужей (гал гуламта) не развеются и что будут продолжатели рода их» [4, с. 34].
По статусу главные персонажи здесь перекодируются во вдов, поэтому не могут иметь детей. В инварианте мотива наказания вариант мотива изгнания переходит в более суровую форму – умерщвление. Число главных героинь удваивается, но от этого их действия и события почти не меняются. Если Асуй-хан была предводителем племени хотогойд, то в дальнейшем они представляются как сильные шаманки родов атагад и хотогод. Количество дворов (20 и 10) не имеют символического подтекста, поскольку, согласно правилам бурятского стихосложения, формульные выражения подчиняются правилам аллитерации (арбан атагад, хорин хотогод).
В мифе из этой же этнической традиции, записанном почти через сто лет после первого нарратива и через сорок лет после второго варианта, эпизод о бездетности героини значительно трансформируется. В тексте «Родословная эхиритов и булагатов» (Эхирид-булагадай удха узуур) записанном К. Болдохоновым в 1954 г. от М.М. Хилханова в улусе Булаг, Боханского района Иркутской области, «сородичи бездетную шаманку после смерти ее мужа хотят изгнать, залив ее очаг водой и заперев двери. Но когда заливали ее очаг, одна искорка отлетела на правую сторону. И шаманка взмолилась о пощаде, говоря, что ей боги посылают ребенка» [5, с. 39]. Выражение «гасить очаг» обозначает именно вариант мотива умерщвлением, но в импровизации данного информанта или в записи собирателя наблюдается некоторое противоречие. Если гасят очаг и запирают дверь снаружи, то человек умирает от голода, но тут еще глагол «изгнать», поэтому напрашивается вывод, что образное словосочетание употреблено в его прямом значении: хотят изгнать шаманку, просто погасив очаг.
Впервые появляется мотив очага, значимый в семиотическом контексте. Горящий очаг символизирует продолжение рода, самым страшным у бурят считалось проклятие: «Пусть потухнет домашний очаг, развеется отцово пепелище». «Огонь как олицетворение женского начала считался источником плодородия, богатства, а очаг (место обитания огня) представлялся хранящим и дарующим сүлдэ детей и животных» [6, с. 60]. Залив водой очаг, лишают их будущего, памяти о предках. Новый мотив отлетевшей искры является знаком от божества огня, к которому трафаретно обращаются: Гал ехэ гуламта, / Зол ехэ Заяаша ‘Великий очаг огня, / Великая дарительница судьбы’, т.е. божество дарует потомство. В данном случае сүлдэ можно переводить как душу не родившегося еще дитя.
В мифе «Булагат и Эхирит», записанном в этой же этнической традиции И.Е. Тугутовым от Е.К. Харламова, 1901 г.р., в с. Бильчир Осинского района Иркутской области, в 1961 г. сюжет повторяется с изменением некоторых семиотических составляющих. «На западном берегу Байкала жили две бездетные шаманки Асуйхан и Хусыйхан. Асуйхан была из атагатского рода, состоящего из двадцати дворов, Хусыйхан была из хотоготского рода, состоящего из десяти дворов. У атагатов и хотоготов был такой обычай: у престарелых бездетных людей сверху через дымовое отверстие гасили очаг, а имущество делили между родичами» [7, с. 156]. В данном варианте «гасить очаг» означает именно наказание умерщвлением, и традиция умерщвления имеет узколокальное значение, касаясь только их родов.
Повторяется мотив искры от огня, но конкретизируются символы появления детей: «от очага взлетели им на подол тлеющие угольки» [7, с. 157]. Анализируя подобный вариант мифа, Г.Р. Галданова приходит к выводу: «…два уголька отскочило, огонь не потух, потому что Асуйхан день и ночь просила Заяши послать ей счастье стать матерью. Заяши, вняв ее мольбам, послала ей двух детей. Здесь отскочившие угольки олицетворяли сүлдэ – жизненную силу этих детей» [6, с. 64]. В тексте, записанном С.П. Балдаевым, поклоняются отдельному божеству судьбы, в данном варианте стоит обратить внимание, что бог огня имеет функцию божества судьбы, дарителя потомства.
В разных этнических группах бурят в структуре мифа неизменной остается тема получения ребенка шаманкой Асуйхан от мифологического антропоморфного или зооморфного быка. В летописи «История селенгинских монгол-бурят» вставлен миф о появлении их первопредков: «Шаманка Асуйхан, происходившая из ойрат-бурят, подчиненных Чингис-хану, обитала на берегу Байкал-моря. Однажды она встретила ревущего сивого быка. Поскольку не имела мужа, подумала, не совокупиться ли с ним. Подумала про себя и поверила в мысль, что Бурхан-Тэнгри послал ей быка в мужья. Задуманное свершила. Вскоре шаманка забеременела и родила двух сыновей: старшему дала имя Буряадай, младшему – Хоридой» [8, с. 103]. В данном случае сюжет повествования меняется, героиня без всяких посредников сама рожает детей, поэтому здесь полностью снимается проблема бездетности, отсутствуют обрядовые действа по получению детей. Востребован известный мифологический мотив рождения ребенка от совокупления женщины с животными и птицами.
Шэнэхэнские буряты из автономного округа Внутренняя Монголия КНР, состоящие в основном из восточных хоринских родов, намного лучше сохранили древние традиции и обряды. Для сравнительного анализа ареальных особенностей и трансформации фольклорных нарративов значимым представляется следующий устный рассказ «Миф одной шаманки о появлении ребенка у сивого пороза» (Хүхэ бухын хүбүүтэй болоhон нэгэ удганай домог). В данном мифе у истоков рождения мальчика сохраняется мифологическое отцовство быка как зооморфного первопредка.
В нарративе восточных бурят трансформируется основная цель повествования, концентрируя внимание на мотиве наказания бездетных. В развитии сюжета красной нитью проходит идея борьбы шаманки с бесчеловечной традицией, она считает своим долгом навсегда изменить такое положение. В этом варианте устного рассказа меняется имя шаманки согласно буддийским именам восточных бурят (Янжил). Как вводный эпизод в ходе сюжетного развития вставляется красочное описание жестокого наказания: Үри хүүгэдгүй эхнэрнүүдэй гэрэй үрхыен уруун татажа, үүдэ сонхыен бүглэжэ хаагаад, үхэр хонинhоон гаргажа, мяха шанаад, бүхэли-хахаляар эдюулэжэ, хоолой руун хониной шагайтаар түлтижэ, шаажа, хахаажа, бүтѳѳжэ буруу харуулдаг байhан юм гэнэ [9, ПМА, 2018] – ‘С юрты бездетной женщины сдирали кошму, прикрывающую дымоходное отверстие, закрывали снаружи двери и окна, забивали ее овец и коров, варили их мясо и заставляли ее есть большими кусками, толкая в горло костью барана, пока не задохнется и умрет’ [перевод наш. – Л.Д.]. Возможно, здесь включается импровизация рассказчика, и подробное описание мотива убийства женщин является трансформацией известного метода умерщвления стариков.
В мифе дополнительно к известным в западно-бурятской традиции вариантам мотива наказания добавляется древний вариант мотива умерщвления стариков методом удушения (длинную кишку толкали в рот берцовой костью, пока человек не подавится). «Берцовая кость барана наиболее популярный атрибут при исполнении обрядов жизненного цикла – укладывании ребенка в колыбель, сочетании новобрачных, а в далекие времена эта кость использовалась для предания почетной смерти глубоких старцев, затем ее клали в могилу вместе с покойным» [10, с. 74]. В эпилоге сюжета констатируется победа шаманки, именно ей приписывается заслуга в изменении отношения к несчастным женщинам.
Следует подчеркнуть, что роль мужчин в развитии сюжета не имеет оценочной коннотации, или хотят развести их с бездетными женами, или они уже умерли. В проблеме бездетности виновными считаются женщины, и только их преследуют и наказывают родственники. Выявлено, что во всех рассмотренных текстах шаманка является обязательным героем как личность, наделенная особыми способностями. Бык как первопредок племен олицетворяет мифологическое оплодотворяющее начало.
Обряды для получения детей
Главная героиня должна быть именно шаманка, умеющая налаживать связь между разными мирами, ибо доступ к ребенку открывается только при проведении обрядов. В сюжете мифа «Буха-ноин» стоит обратить внимание на то, что весть о ребенке шаманка получает от реальной личности: «Царевна, возвращаясь домой, зашла к шаманке Асуй-хан и рассказала ей обо всем. Асуй-хан, призвав родственников, объявила, что к ней снизошел ребенок, но чтобы достать его, нужно сначала сделать тайлаган небесному порозу Буха-ноину» [3, с. 267].
Шаманка проводит два обряда с кровавым жертвоприношением для усыновления ребенка. Первый обряд (тайлган) посвящается Буха-нойону, чтобы допустил людей к люльке, а второй обязательный обряд, чтобы взять ребенка: «Шаманка снова собрала родственников, заколола двухгодовалого бычка белой шерсти и мозговою костью правозаднего стегна (под названием шата семигын) пилила железные ремни» [3, с. 268].
В бурятской традиции кость, которою распилили ремни люльки, до сих пор остается символическим защищающим предметом для детей, о чем нами записано в экспедиции у западных бурят: «Берцовую кость сүмгэ вешали на зыбку, когда ребенка укладывали в нее, чтобы ребенок был сильным, не болел, чтобы его ада не задавили» [11, ПМА, 2010]. Возможно, это еще связано с концепцией: «мозг бедренной и берцовой костей содержит жизненную силу – сүлдэ» [12, с. 107], что увеличивает символическую функцию сакрального атрибута обряда. Обыкновенная кость в обрядовом событии получает двойной семиотический статус как предмет, связанный с обрядом получения ребенка и как хранилище души (сүлдэ) и судьбы ребенка.
По сведениям Г.Н. Потанина, в дальнейшем обряд поклонения Асуйхан как покровительнице деторождения стал традиционным в западно-бурятском шаманизме. Примечательно, что традиция не прерывается, у западных бурят до сих пор бездетные семьи молятся двум шаманкам, называя их кодовым именем: «Асыхан и Хусыхан капают эхириты в Кудинской долине. Называют их так – арбан атгатан, хорин хушуутан. Когда нет детей или не могут родить, капают Булган Солбон, покровительнице маленьких детей. Она помогает бездетным женщинам, чтобы дети появились. Деторождению способствуют бабушки Хоригтын төөдэй, Хоогой төөдэй, Албани төөдэй, их называют бабушками-повитухами» [13, ПМА, 2010]. По западно-бурятской мифологии Булган Солбон считается дочерью Буха-нойона, первопредка булагатов. В каждой локальной традиции свои покровители детей, которым молятся бездетные супруги.
Если в предыдущем нарративе шаманка о ребенке узнает естественным путем, то в последующих анализируемых текстах две шаманки весть получают от небесных божеств в измененном состоянии сознания (в экстазе), что подчеркивает необходимость именно шаманки: «Обе шаманки постоянно приносили жертвы тэнгэринам, камлали и призывали своих предков, в экстазе предсказывали, что и у них будет по одному сыну» [4, с. 37].
В этом варианте шаманки посвящают обряд определенному божеству: «Принесли жертву Заян саган тэнгэри и узнали от него, что Асуйхан найдет сына в яме пороза (бухайн малтаари), что Хусуйхэн найдет сына в щели берега реки» [4, с. 37]. Бог судьбы входит в пантеон древнемонгольских божеств, в своей женской ипостаси называется Эмэгэльджи-дзаягачи (эмгэн – женщина) – богиней детей, хранительницей домашнего благополучия [14, 1997, с. 45]. Небожитель, определяющий судьбу людей, не только их охраняет, но дает жизнь, что является главным в обряде для бездетных: «Одон Заяан тэнгри (“Звезда судьбы”) – гений-хранитель всех живых существ, находится над головой каждого и охраняет его. Пятый тэнгри, Заяаши тэнгри, дает жизнь всем существам» [15, с. 79]. Семиотический статус божества раскрывает значение проводимого обряда.
В сюжете мифа «Булагат и Эхирит» при проведении обряда для получения ребенка появляется новый мотив: «После они открыли священную книгу» [7, с. 157]. Текст издан на русском языке, нет оригинального варианта, поэтому данное выражение вызывает некоторые сомнения. Следует предположить, что мотив книги по семантике связан со священной «книгой судьбы» (Заяанай сагаан ном) в бурятских версиях Гэсэриады. Мотив священной книги, называемой еще книгой Майдари (бог грядущего), предсказывающей будущее, относится к буддийской традиции и является более поздним нововведением в развитие сюжета.
В структуре предыдущих вариантов текста дважды проводят обряд, тут также два раза открывают священную книгу, которая предсказывает, где найти ребенка и как открыть колыбель: «Когда они освятили ее горящей стрелой, колыбель звучно отворилась» [7, с. 157]. Образ стрелы достаточно широко изучен в этнографии и фольклористике монгольских народов, в данной работе останавливаемся на функции стрелы как продолжателя рода и деторождения, в свадебных обрядах «подразумевалось, что стрелы олицетворяют души или жизненную силу (сүлдэ) будущих детей молодоженов» [16, с. 98]. Появление новых символов в архитектонике обрядового действа зачастую связано с локальными традициями и временными социальными изменениями.
Если в западно-бурятских вариантах шаманка просто камлает и узнает о ребенке, то в шэнэхэнской версии восточных бурят сюжет разворачивается подробно и красочно: Оргойгоо үмэдэжэ, хэсэеэ сохижо, онго тэнгэреэ дуудажа, галзуу дошхоноор бѳѳлэбэ ха даа. Удангүй онгониин ороно [9, ПМА, 2018] – ‘Надевает свой шаманский шлем, бьет в бубен и, призывая небесных покровителей, безумно камлает. Вскоре входит в измененное состояние сознания’. Шаманский шлем с оленьими рогами получал шаман с высшей степенью посвящения, и это дает нам возможность предположить силу ее сверхъестественных способностей.
Шэнэхэнский вариант мифа интересен эмоциональной окраской в описании образа шаманки, рассказчик употребляет ряд глаголов-синонимов для усиления эмоционального накала: хашхарха ‘кричать, вопить’, хуугайлха ‘кричать’, дэбхэрхэ ‘прыгать’, hобхоржо ‘скакать’. Обряд проводится также с перекодировкой символических имен по традиции восточных бурят: Заяан сагаан юhэн тэнгэрьдэ дун сагаан хуhа үргэжэ, тахилга, даллага абажа, хүбүүе гуйба гэнэ – ‘Девяти белым тэнгри судьбы, преподнеся девять белых берез, проведя жертвоприношение, просит ребенка’ [9, ПМА, 2018]. Как и в западно-бурятской традиции божество судьбы, дарующее детей, остается неизменным, число «девять» связано с локальными особенностями мифологического пантеона божеств. В шаманских обрядах береза чаще символизирует связь между мирами. Мнемонико-сакральные символы в ходе разных обрядов, сохраняя известную свободу, могут менять свою коннотацию.
Заключение
Главной героиней мифа является именно шаманка, имеющая мифологическую власть. Владея сверхъестественными данными, она могла преодолеть проблему бездетности. В разных вариантах мифа героиня выступает в роли предводительницы рода, шаманки хатагатского/атагатского родов, приемной матери двух детей. Из бездетной, гонимой ее образ меняется до прародительницы племен, покровительницы деторождения. Образ шаманки приобретает черты культурного героя, устанавливающего правила проведения обрядов при рождении детей в западно-бурятской традиции. Особенностью в традиции восточных бурят (шэнэхэнский вариант) мифа является ее заслуга в отмене наказания для бездетных женщин.
Установлено, что структура традиционно близких (аларский, боханский и осинский/бильчирский) вариантов мифа и шэнэхэнской версии по главным параметрам не меняется, изначальная сюжетная канва, персонажи: шаманка как мать, бык как отец и дети – первопредки бурятских племен остаются неизменными. Мотив наказания и мотив проведения обряда для получения ребенка присутствует во всех вариантах мифа, кроме краткой селенгинской версии, которая может быть не полным текстом. В инварианте мотива наказания выявлены варианты мотива изгнания, умерщвления через погашение очага, удушения пищей.
В ходе анализа выявлено, что перекодировка, трансформация и уточнение касаются персонажей, мотивов и символов. В композиции анализируемых эпизодов в генеалогическом мифе определена перекодировка мнемонических символов в зависимости от локальных традиций. Мнемонические символы расшифровываются в контексте традиционных легенд и преданий, относящихся к ритуальным событиям. С семиотической точки зрения установлено, что искры от пламени / угольки от огня, кость и стрела в данном случае являются вместилищем душ будущих детей. Определено, что трансформация символов в архитектонике обрядового действа также связана с временными изменениями: весть о ребенке получить от реального человека, у небесных божеств, в священной книге.
About the authors
L. S. Dampilova
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: dampilova_luda@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-0917-5432
Doct. Sci. (Philol.), Head Researcher
Russian Federation, Ulan-UdeReferences
- Sodnompilova, M.M., Nanzatov, B.Z. Narodnaya ginekologiya mongolskikh narodov: perinatalnyi period, rody i lechenie besplodiya [Folk Gynecology of the Mongolian Peoples: Perinatal Period, Childbirth and Infertility Treatment]. Vestnik Buryatskogo nauchnogo tsentra SO RAN [Bulletin of the Buryat Scientific Center SB RAS]. 2015, No. 2(18), pp. 39–54. (In Russ.)
- Silantiev, I.V. Syuzhetologicheskie issledovaniya [Plotological Research]. Moscow: Yazyki slavyanskoi kultury Publ., 2009. 224 p. (In Russ.)
- Potanin, G.N. Ocherki Severo-Zapadnoi Mongolii. Vyp. IV. Materialy etnograficheskie [Essays on Northwestern Mongolia. Issue IV. Ethnographic Materials]. St. Petersburg: Tip. Kirshbauma Publ., 1883. 1026 p. (In Russ.)
- Baldaev, S.P. Rodoslovnye predaniya i legendy buryat [Ancestral Stories and Legends of the Buryats]. Part I. Ulan-Ude: Buryat. kn. izd-vo Publ., 1970. 364 p. (In Russ.)
- Gungarov, V.Sh. Buryaad domoguud [Buryat Legends]. Ulan-Ude: AO Ulasai tipografi Publ., 2024. 208 p. (In Buryat)
- Galdanova, G.R. Dolamaistskie verovaniya buryat [The Pre-Islamic Beliefs of the Buryats]. Novosibirsk: Nauka Publ., 1987. 116 p. (In Russ.)
- Nebesnaya deva lebed: Buryatskie skazki, predaniya i legendy. Sost., zapis I.E. Tugutova, A.I. Tugutova; per. i predisl. A.I. Tugutova; komment. I.E. Tugutova, A.I. Tugutova, L.N. Nurkaevoi [Heavenly Swan Maiden: Buryat Fairy Tales, Stories and Legends. Compl. by I.E. Tugutov, A.I. Tugutov; Translation and Introduction by A.I. Tugutov; komment. by I.E. Tugutov, A.I. Tugutov, L.N. Nurkaeva]. Irkutsk: Vost.-Sib. kn. izd-vo Publ., 1992. 368 p. (In Russ.)
- Lombotsyrenov, D.-Zh. Istoriya selenginskikh mongolo-buryat [The history of the Selenga Mongol Buryats]. Buryatskie letopisi. Ulan-Ude, Kurumkanskoe knizhnoe izd-vo, 1995, 198 p. (In Russ.)
- PMA, 2018 – Zap. Tsybikovoi B.-Kh.B., Dampilovoi L.S. ot Sebeenei Nordoboi Erdeni, 1950 g.r., khori buryat, g. Khulun-Buir, KNR [The Authorsʼ Field Materials. Notes of Tsybikova, B.-Kh.B., Dampilova, L.S. from Sebeenei Nordoboi Erdeni, born 1950, khori buryat, Khulun-Buir, CPR]. 2018. (In Buryat)
- Galdanova, G.R. Zakamenskie buryaty. Istoriko-etnograficheskie ocherki [The Zakamensk Buryats. Historical and Ethnographic Essays]. Novosibirsk: Nauka Publ., 1992. 173 p. (In Russ.)
- PMA, 2010 – Zap. Nikolaevoi N.N., Dampilovoi L.S. ot Bogomolovoi V. I., 1930 g.r., bulagat, III gotolskii rod; s. Khokhorsk, Bokhanskii raion, Irkutskaya oblast [The Authorsʼ Field Materials. Notes of Nikolaeva, N.N., Dampilova, L.S. from Bogomolova V.I., born 1930, bulagat, Khokhorsk, Bokhanskii district, Irkutskaya region]. 2010. (In Buryat)
- Baldaev S. P. Izbrannoe [Selected Works]. Ulan-Ude: Buryat. kn. izd-vo Publ., 1961. 256 p. (In Russ.)
- PMA 2010 – Zap. L.S. Dampilovoi ot Khamgushkeeva I. Kh., 1936 g.r., bulagat, ongoi, mekhanizator, shaman chernogo kuznechnogo roda, s. Obusa Osinskogo raiona Irkutskoi oblasti [The Authorsʼ Field Materials. Notes of Dampilova, L.S. from Khamgushkeeva I.Kh., born 193, bulagat, ongoi, Obusa village, Osinskii district, Irkutskaya region]. 2010. (In Buryat)
- Banzarov, D. Sobranie sochinenii. Izd. 2-e, dop. [Collection Works. The 2nd Ed.]. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN Publ., 1997. 239 p. (In Russ.)
- Natsov, G.-D. Materialy po istorii i kulture buryat [Materials on the History and Culture of the Buryats]. Per. so st.- mong. i prim. G. R. Galdanovoi. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN Publ., 1995, Part 1. 156 p. (In Russ.)
- Obryady v traditsionnoi kulture buryat [Rituals in the Traditional Culture of the Buryats]. D.B. Batoeva, G.R. Galdanova, D.A. Nikolaeva, T.D. Skrynnikova. Moscow: Vost. lit. Publ., 2002. 222 p. (In Russ.)