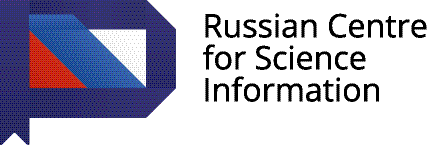Socio-cultural practices of the adaptation of medical intelligentsia during the Civil War
- Autores: Kabytova N.N.1, Mistryugov P.A.1,2
-
Afiliações:
- Samara National Research University
- Medicine and Social Sciences, Samara State Medical University
- Edição: Volume 31, Nº 1 (2025)
- Páginas: 68-79
- Seção: History
- URL: https://medbiosci.ru/2542-0445/article/view/311917
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2025-31-1-68-79
- ID: 311917
Citar
Texto integral
Resumo
The article provides the analysis of the strategies of behavior of representatives of the medical intelligentsia in the extreme conditions of the Civil War, based on unpublished documents from public and private archives; the social and material conditions of their activities have been reconstructed; professional practices, general results of scientific, pedagogical, organizational, managerial and medical work have been analyzed; the principles of personnel policy implementation in higher education have been described; the dynamics of the teaching staff has been shown and the stages of professional socialization in the pre-revolutionary and revolutionary periods have been reconstructed using the example of the activities of prominent representatives of the Medical faculty of Samara State University; the daily routine of teachers and students in the context of the breakdown of regional culture and everyday life has been analyzed. It has been proved that the teaching staff was distinguished by university training, knowledge of European languages and proficiency in modern methods of treatment and diagnosis. During the Civil War, some of the medical intelligentsia continued their work and preserved the traditions of academic training of doctors, combining medical practice and science. The results of such operation were of both fundamental and practical importance, helping to overcome the consequences of the humanitarian catastrophe of the 1920-ies famine in the Samara province.
Texto integral
Введение
Положение медицинской интеллигенции в годы Великой российской революции 1917–1922 гг. воплощало все перипетии глобального переустройства общества. В условиях острого гуманитарного дисбаланса и социально-политической поляризации общества часть представителей профессорско-преподавательского состава, не подвергшихся революционному насилию и государственной политике репрессий, смогли продолжить работу в высшей школе и обеспечить ее функционирование. Они принимали самое активное участие в организации учебного и научного процесса в университетах, создании материальной базы, научных лабораторий и пополнении фондов библиотек. Доктринальные и структурные изменения в университетском образовании в начальный период становления советской государственности, взаимодействуя с конкретными реалиями образовательной ситуации в высшей школе, формировали действительные формы и содержание служебной повседневности, определяли мотивацию и практики поведения. Проблема социокультурных и профессиональных практик поведения медицинской интеллигенции как столичных, так и в особенности региональных университетских центров и советских структур здравоохранения является актуальной. Специфика ситуации в Самарской губернии была связана с различными проявлениями гражданского противостояния (захватом власти КОМУЧем, крестьянскими восстаниями, голодом) и влияла на положение медицинской интеллигенции. Анализ этой сферы дает нам возможность увидеть способы самоорганизации, социальные условия и факторы самореализации, выявить принципы взаимодействия представителей медицинской интеллигенции с властью в экстремальных условиях. Данная проблема представляет большой интерес также в контексте изучения более общей темы – анализа адаптации «бывших» в реалиях советской действительности и поиска ответа на вопрос о том, как складывались их жизнь, служебная повседневность в годы Гражданской войны.
Научно-педагогические коллективы сложившихся центров высшего образования испытывали все последствия острого гуманитарного кризиса. Преподаватели и сотрудники новых университетов, созданных в Поволжье в 20-е гг., сталкивались с еще более серьезными препятствиями при выполнении служебных задач. Одним из новых университетов, созданных в начальный период становления советской государственности, был Самарский государственный университет. Организованный в 1918 г. и переоткрытый советской властью в 1919 г., он начал свою работу, имея в составе один факультет. 1 января 1919 г. открылся медицинский факультет (некоторое время он назывался естественно-медицинским) [Самарский государственный университет 1999, с. 7–13].
На современном этапе историографии поставлены проблемы социокультурных практик выживания населения в военно-революционные годы [Нарский 2001] и социопсихологических аспектов гражданского противостояния [Булдаков 1997; Сухова 2008]. Исследована глобальная проблема взаимодействия власти и общества в Поволжье в начальный период Великой российской революции 1917–1922 гг. [Кабытова 2002]; рассмотрен общий ход Гражданской войны в Самарской губернии [Кабытова, Кабытов 1997]; проанализировано формирование чрезвычайных органов советской власти и их роль в становлении советской государственности [Мистрюгов 2018 а]. В ряде работ затронута проблема городской повседневности (Рогач 2009), социокультурные практики и повседневная жизнь населения в Самарской губернии: крестьянства, «бывших», сотрудников ревтрибуналов [Мистрюгов 2017, 2018 б, 2018 в, 2020]. Анализу истории медицинской интеллигенции в годы Гражданской войны уделено меньшее внимание. В исторической литературе освещены положение и роль интеллигенции в России в революционный период [Федюкин 1972; Интеллигенция и революция 1985]. Отдельные аспекты проблемы ее статуса и деятельности затрагиваются в работах по истории советской государственной политики в области здравоохранения и подведомственных ему учреждений (Ерендеева 2013) [Серебряный, Яремчук 2016; Серебряный, Яремчук 2018], истории университетов и высшего медицинского образования [Чанбарисов 1973; Самарский государственный университет 1999; Лебедева 2000] (Императорский Московский университет 2010). В немногочисленных новейших исследованиях намечается тенденция к анализу региональных научных и образовательных учреждений, их кадрового состава, принципов и тенденций комплектования и функционирования. Работы по своему содержанию различные: статьи, в том числе юбилейные, материалы докладов и историко-публицистические очерки [Стоюхина, Шестерикова 2021; Повереннова 2011; Самарский государственный медицинский университет 2019; Варламенков, Кузьмин, Яремчук 2016; Столяров 2018; Заводюк 2019]. Важным фактором становления университетской интеллигенции в 1917–1920 гг., изучаемым на современном этапе, являются взаимоотношения научных центров страны с интеллигенцией на периферии [Синельникова, Соболев 2023], однако в полной мере данная проблема не исследована.
Источниковой базой в статье являются разные виды документов, преимущественно архивные и опубликованные. В фонде Ведомства народного просвещения комитета членов Всероссийского учредительного собрания (Ф. Р.-3931) Центрального государственного архива Самарской области выявлены делопроизводственные документы, содержащие данные о создании университета, его профессорско-преподавательских кадрах. В фонде Самарского университета (Ф. Р.-28) хранятся документы органов управления Самарским университетом (решения совета, факультета); отчеты о деятельности медицинского факультета; материалы кадрового делопроизводства (штатные ведомости; личные дела профессорско-преподавательского состава, включающие индивидуальные анкеты; сurriculum vitae; переписка с ректоратом, органами советской власти, общественными организациями). Это ценные материалы, свидетельствующие об уровне подготовки преподавателей, занимаемых ими должностях и читаемых курсах, научной деятельности и публикационной активности, административной работе и лечебной практике. В фонде Полномочного представителя РСФСР при всех иностранных организациях помощи голода-ющим поСамарской губернии (Ф. Р.-79) представлены списки студентов и профессоров медицинского факультета, получавших питание. В качестве источников также были использованы опубликованные научные и практические труды врачей-ученых (Курзон 1924; Курзон 1926). Информативным источником личного происхождения являются неопубликованные воспоминания профессора Куйбышевского медицинского института А.М. Аминева (Аминев), который в 1920-х гг. был студентом Уральского и Пермского университетов, из частного архива. Они содержат массу сведений о повседневной жизни студентов-медиков, организации учебного процесса и досуга.
Выявленные документальные материалы позволяют восстановить некоторые особенности студенческой повседневности 20-х гг. и самарского периода жизни ученых-медиков, профессоров первого Самарского государственного университета В.В. Гориневского, А.А. Корнилова, М.Н. Гремячкина, М.И. Аккера, В.М. Курзона, Н.В. Белоголовова, Ю.В. Португалова. Это сформировавшаяся в дореволюционный период значительная часть ярких представителей отечественной медицинской интеллигенции, которые продолжили свою работу после 1917 г. и стали основоположниками многих направлений в советской медицинской науке, образовании и здравоохранении.
Ход исследования
Создание и деятельность медицинского факультета Самарского университета относится к первому периоду развития высшего образования Самарского региона [Кабытов, Леонов, Леонтьева 2019, с. 5] (1914–1927 гг.), который можно назвать самым сложным. Формирование штата медицинского факультета Самарского университета шло постепенно. Первоначально, согласно приказу КОМУЧа по ведомству народного просвещения, принятому 10 августа 1918 г., на службе в университете были утверждены двое медиков: доктор медицины В.В. Гориневский, сверхштатный ординарный профессор кафедры школьной гигиены, и В.В. Гориневская, старший ассистент той же кафедры, а также В.Н. Тимофеева, окончившая Казанский университет, младшая ассистентка кафедры психологии (ЦГАСО. Ф. Р.-3931. Оп. 1. Д. 5. Л. 9–10). Мотивация участия медицинской интеллигенции в создании нового университета и ее отношение к власти КОМУЧа, перспективе будущего устройства страны была разной. 11 августа 1918 г. на первом заседании совета Самарского университета выступали профессора и почетные гости с поздравлениями по случаю открытия университета. От старейшего из научных – врачебных – обществ Самары выступил Е.Л. Кавецкий. В поздравлении он отметил, что «на рубеже гибели величайшего государства, в момент величайшей разрухи и одичания всего народа, возникают новые надежды на возрождение и начинается строительство в области духа и культуры» (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 52. Л. 8). Характерно, что на фоне других, более насыщенных политическими смыслами речей, к примеру, связывающих развитие России с деятельностью КОМУЧа, Е.Л. Кавецкий выделил только идею культурного значения роли университета в экстремальный период существования общества и государства.
После восстановления советской власти в Самаре осенью 1918 г. университет был заново открыт с 1 января 1919 г. и начался новый этап в его истории. В 1920–1921 учебном году на медицинском факультете работало 111 сотрудников, из них было 18 профессоров [Столяров 2018, с. 437], в 1922–1923 учебном году – 82 (из них 14 профессоров) (подсчит. по: [Синельникова, Соболев 2023, с. 55]). К 1926 г. в штате Самарского университета, функционировавшего в составе одного медицинского факультета, было, согласно штатной ведомости, 52 сотрудника (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 314. Л. 200–201). Последним ректором Самарского государственного университета был видный профессор, эпидемиолог Е.Л. Кавецкий.
Университет активно занимался подготовкой преподавательских кадров и студентов. Одним из таких мероприятий во второй половине 1918 г. было чтение лекций на высших курсах Общества экспериментальной педагогики и естествознания, поддержанных администрацией университета. На этих курсах велась подготовка кандидатов, желающих поступать на проектируемые факультеты университета. В октябре 1918 г. при них были открыты естественное и медицинское отделения (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 96. Л. 2). В феврале 1919 г. университет объявил Всероссийский конкурс на замещение должностей кафедр 1–3 курсов (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 96. Л. 3). Такая процедура была установлена согласно декрету СНК от 1 октября 1918 г., предписывающему предоставление права на занимание профессорской кафедры всем лицам, имеющим ученые труды по специальности или научно-педагогической опыт по всероссийскому конкурсу (Декреты Советской власти 1964, с. 215). Функционирование регионального научно-образовательного пространства в экстремальных условиях военно-революционного времени влияло на принципы кадровой политики. Так, в конце 1919 г. руководству факультета стало ясно, что из-за тяжелых условий переезда своевременно получить кандидатов для пополнения кафедр из других городов не получится. В связи с этим были приняты решения по замещению вакантных должностей временными преподавателями из «местных сил», имеющими академическую подготовку. Следует отметить, что это решение принесло положительные результаты и состав факультета стал увеличиваться (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 96. Л. 3). Как отмечают Е.Ф. Синельникова и В.С. Соболев, Поволжье стало одним из приоритетных регионов для внутренней миграции ученых из Петрограда и Москвы в 1917–1922 гг. [Синельникова, Соболев 2023, с. 52]. Таким образом, в создании кадрового состава медицинского факультета свою роль сыграл чрезвычайный фактор Гражданской войны, обусловивший включение в его ряды как столичных, так и самарских врачей, имевших высокую квалификацию и опыт лечебной, учебной и научной работы.
Представители разных социальных, профессиональных групп в годы Гражданской войны находили способы адаптации к быстро меняющимся государственно-политическим режимам и их преобразованиям, глобальным условиям существования и искали источники для выживания. Преподавательский состав медицинского факультета, как и других подразделений университета, находился в крайне сложных обстоятельствах. Главную опасность представляли нарастающий голод в крае и социально-политические противоречия, вызванные Гражданской войной. Служебные автобиографии видных ученых-медиков, первых преподавателей, дают нам возможность проанализировать модель их поведения, увидеть конкретно-ситуативные повседневные практики; в конечном итоге понять, как традиции разных медицинских школ университетского сообщества России, носителями которых были преподаватели медфака Самарского университета, проявлялись в период формирования советской государственности и ее институтов.
Высшее медицинское образование создавали высококвалифицированные специалисты, универсанты, обладавшие академической подготовкой и высокой гуманистической культурой российского врача. На медицинском факультете Самарского государственного университета преподавателями являлись выпускники разных медицинских школ Российской империи конца XIX – начала XX в. и зарубежных высших учебных заведений: А.А. Корнилов (1887) и П.В. Францев (1900) окончили Императорский Московский университет; М.Н. Гремячкин (1909) и Ю.В. Португалов (1899) – Императорский Казанский университет; В.В. Гориневский – Гейдельбергский университет (1885) и Императорскую Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию (1887); Н.В. Белоголовов (1900) – Императорскую Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию; М.И. Аккер (1900) и В.М. Курзон (1898) – Императорский Киевский университет (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 831. 1 об.–2; Д. 780. Л. 1, 5; Д. 785. Л. 1–2 об.; Д. 722. Л. 10; Д. 835. Л. 2 об.; Д. 955. Л. 3 об.; Д. 898. Л. 6; Д. 728. Л. 2 об.). Это были ведущие высшие учебные заведения, в составе которых, кроме Императорской Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, работали медицинские факультеты, центры медицинской науки и образования.
Важным критерием научной квалификации преподавателей были их научные достижения. До 1917 г. степень доктора наук получил В.В. Гориневский (1887). В 1903 г. Н.В. Белоголовов стал доктором медицины, в 1909 г. – приват-доцентом. М.Н. Гремячкин в 1910 г. сдал экзамен на доктора медицины. На возможности и результативность занятия наукой влияла высокая языковая подготовка: А.А. Корнилов владел французским, немецким и английским языками; М.Н. Гремячкин – немецким; М.И. Аккер – английским и итальянским; В.М. Курзон – немецким и английским; П.В. Францев – французским; Н.В. Белоголовов – немецким и английским (немного) языками (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 728. Л. 2 об.; Д. 780. Л. 5 об., Д. 785. Л. 1–2 об.). В совокупности это и обусловило в конечном итоге эффективность идеи создания и деятельности медицинского факультета Самарского университета.
До своего поступления на работу в Самарский университет они проявили не только педагогический талант, но и незаурядные способности как перспективные ученые и организаторы. Важным фактором, способствующим эффективной деятельности преподавателей медицинского факультета в кризисных условиях, был именно большой опыт организационно-управленческой, лечебной, научной и преподавательской работы, полученный ими до 1917 г. Кстати, это отличало преподавательский состав не только медицинского, но и других факультетов. Причем преподаватели были как представителями местного сообщества, так и приехавшими из столичных центров. К местным преподавателям относятся М.И. Аккер и В.М. Курзон, которые теснейшим образом были связаны с самарским земством. М.И. Аккер до 1917 г. служил в губернском земстве, заведовал Пастеровским институтом и преподавал анатомию в средне-медицинской школе (ЦГАСО. Ф.Р.-28. Оп. 1. Д. 722. 10–10 об.).
Богатый опыт был накоплен В.М. Курзоном. Так, до начала работы сверхштатным ординатором Самарской губернской земской больницы он прошел путь врача в частной клинике, работал в земских структурах, занимался лечебно-диагностической работой, изучал новейшие диагностические методы, в том числе в зарубежных научных командировках, совершенствуя свои знания в области различных разделов терапии, диагностики и педиатрии. Одно из мест его работы в начале 1900 г. – частный Химико-бактериологический институт доктора Ф.М. Блюменталя (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 835. Л. 5–5 об.). Данный институт, учрежденный врачом-пульмонологом и бактериологом Ф.М. Блюменталем, воплощал в своей деятельности современные задачи в области химических, бактериологических и микроскопических исследований человека и продуктов хозяйственного и технического употребления, приготовления реактивов и т. д. (Устав 19–?, с. 1–2). Это позволило В.М. Курзону изучать новейшие в европейской медицине методы проведения химико-бактериологических исследований. В начале 1902 г. был избран сверхштатным ординатором Самарской губернской земской больницы. В течение целого ряда лет работал в терапевтических, инфекционных, скарлатинных, дифтерийных бараках, детской амбулатории и приюте подкидышей. С 1910 г. избран заведующим приютом подкидышей Самарского губернского земства. Тем самым он осваивал опыт врачебной и управленческой работы. Во время научной заграничной командировки в Берлине (1910–1911 гг.) он приобрел опыт клинической работы и изучал организацию учреждений по уходу за материнством и младенчеством, главным образом организацию консультаций. В 1904 г. В.М. Курзон был избран штатным преподавателем Самарской земской акушерско-фельдшерской школы. В первые годы читал лекции по широкому кругу тем: фармакологии, гигиене, уходу за больными, а с 1908 г. начал преподавать теоретический курс и клинику детских болезней. Кроме того, он обучал уходу и вскармливанию грудных детей, проводил занятия на курсах по подготовке сестер по уходу за грудными детьми. Продолжал активную педагогическую работу после 1917 г. (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 835. Л. 5–5 об.). Таким образом, В.М. Курзон освоил практически все ипостаси врача, ученого, руководителя.
Интенсивную практику лечебной работы имел П.В. Францев во время службы ординатором детской клиники Московского университета и заведования детской больницей в Иваново-Вознесенске (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 955. Л. 3 об.). Другой путь прошел Н.В. Белоголовов, который в 1904–1907 гг. работал в Риге в военном госпитале. До 1914 г. он был сотрудником Семеновского Александровского госпиталя в Санкт-Петербурге и приват-доцентом в Санкт-Петербургском женском медицинском институте (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 728. Л. 2 об., 12). Следует отметить, что в советское время Н.В. Белоголовов – ученик основателя российской оториноларингологии Н.П. Симановского – стал одним из крупных отечественных оториноларингологов [Бабияк 2014, с. 150]. Таким образом, преподаватели медицинского факультета в дореволюционный период своей жизни сформировались как специалисты, приобрели богатый опыт профессиональной социализации, который стал для них мощной базой в организации местных структур советского высшего образования и здравоохранения.
Профессиональная деятельность преподавательского корпуса проходила в ситуации становления медицинского факультета, острой нехватки необходимого оборудования, книжного фонда учебной и научной литературы. Преодолевая эти организационные и материальные трудности, приглашенные преподаватели решали многосложные задачи. В результате их усилий формировалась профессиональная модель поведения со свойственными ей ценностными и повседневными практиками профессиональной адаптации в условиях советской действительности. Ее элементами были учебная, научная, лечебная, организационно-управленческая работа.
При поступлении на кафедру новые сотрудники считались временными преподавателями и через некоторое время по результатам Всероссийского конкурса избирались на должности профессоров. Так, профессорами Самарского государственного университета были выбраны М.Н. Гремячкин (1920, кафедра госпитальной терапевтической клиники), М.И. Аккер (1920, анатомия), Н.В. Белоголовов (1920, кафедра горловых, ушных и носовых болезней), А.А. Корнилов (1920, профессор кафедры нервных болезней), Ю.В. Португалов (1923, профессор кафедры психиатрии). П.В. Францеву и В.М. Курзону присвоили звание самостоятельных преподавателей в 1921 г. (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 785. Л. 11, 2 об.; Д. 831. Л. 4; Д. 722. Л. 2; Д. 96. Л. 2, 4, 5; Д. 898. Л. 12; Д. 728. Л. 8).
В созданном медицинском факультете базовым направлением была организация учебной работы, которая требовала больших усилий. В целом преподаватели активно занимались учебной деятельностью. На их плечи нередко ложились задачи по созданию базовых условий для организации и проведения занятий. Например, администрация университета несколько раз снаряжала профессора Н.В. Белоголовова и его дочь в их квартиру в Санкт-Петербурге для вывоза инструментария, книг, необходимых для организации работы со студентами (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 728. Л. 5, 10). И это не было исключительным случаем. Университет активно взаимодействовал с центральными и местными властями по вопросу оборудования, книг и т. д. Медицинская профессура читала лекции и проводила практические занятия, обеспечивая необходимый квалификационный уровень преподавания базовых дисциплин. К примеру, профессор кафедры нервных болезней А.А. Корнилов читал соответствующий курс и занимался со студентами практикой, изучал болезни центральной нервной системы (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 831. Л. 4). В 1921 г. занятия по курсу детских болезней – лекции и практику – проводил В.М. Курзон (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 835. Л. 4). П.В. Францев занимался со студентами 4–5-го курсов, организовывал практические занятия на базе городской детской больницы (быв. Аржанова) (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 955. Л. 3 об.). Таким образом, ими закладывался важный принцип клинической подготовки врачей – непосредственного обучения навыкам диагностики и лечения, обучения у постели больного.
В организации научной деятельности руководство и преподаватели медицинского факультета в первые годы существования советской власти следовали традиции высшего медицинского образования, сформировавшейся до 1917 г. Они укореняли во вновь созданном университете активные занятия научно-исследовательской работой, определили широкий круг научных тем и приступили к их разработке. При этом ученые сочетали как разработку фундаментальных проблем медицины, так и отвечали на острые проблемы текущего кризисного состояния здоровья населения. Одной из актуальных проблем было влияние голода и эпидемий на здоровье местного населения. К примеру, профессор кафедры госпитальной терапевтической клиники М.Н. Гремячкин изучал клиническое течение возвратного тифа, в 1919 г. выезжал на малярийный съезд. М.И. Аккер трудился над проблемой влияния голода на анатомо-физиологические характеристики внутренних органов. П.В. Францев разрабатывал проблему трофической малярии (ЦГАСО. Ф.Р.-28. Оп. 1. Д. 722. Л. 10–10 об.; Д. 955. Л. 3 об.). Работы М.В. Курзона были посвящены исследованию проблем детских болезней и практическим рекомендациям по организации помощи роженицам и детям (Курзон 1924; Курзон 1926). В университете он исследовал тему малярии у детей в грудном возрасте (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 835. Л. 2 об.). В.М. Курзон активно занимался научной работой. Об интенсивности его разысканий свидетельствует список докладов в кратком Curriculum vitae, датированном ноябрем 1920 г. Так, на заседаниях Общества врачей им было сделано 10 докладов, посвященных разным проблемам детских болезней (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 835. Л. 7–7 об.). Сохранялась проблематика, связанная с фундаментальными аспектами, например, анатомии и физиологии. Так, Н.В. Белоголовов работал над проблемой слуха в восприятии пространства. А.А. Корнилов исследовал неврологические проблемы.
Деятельность преподавателей медицинского факультета в области практического здравоохранения была еще одним характерным принципом их адаптивной стратегии поведения в профессии. А.А. Корнилов, будучи старейшим и опытным специалистом, был назначен консультантом Самарского губздрава по нервным болезням (ЦГАСО.
Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 831. Л. 4). М.И. Аккер раскрыл свой талант не только на поприще преподавания, но и как администратор. В 1920 г. он руководил Пастеровским отделом в Средне-Волжском областном санитарно-бактериологическом институте [Котельников, Самыкина, Сухачева 2010, с. 1476], деятельность которого имела важнейшее значение для преодоления эпидемий в крае. В.М. Курзон в июне 1920 г. на курсах для врачей по охране материнства и младенчества читал лекции по гигиене и патологии питания детей грудного возраста (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 835. Л. 5–5 об.). Важность преподавания этих дисциплин была вызвана низким уровнем культуры ухода за роженицами и детьми в 20–30-е гг. [Серебряный, Яремчук 2016, с. 93, 97]. В.М. Курзон заведовал Домом матери и ребенка и был одним из создателей Средне-волжского института охраны материнства и младенчества [Серебряный, Яремчук 2018, с. 99, 110]. Большую лечебную работу вне университета вел П.В. Францев: работал старшим врачом детской эпидемической больницы, консультантом акушерско-гинекологической клиники (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 955. Л. 6). С лечебными и административно-управленческими структурами, принадлежащими военному ведомству, взаимодействовал Н.В. Белоголовов. С 1919 г. он служил главным врачом 108 госпиталя, был председателем научной ассоциации, созданной при Заволжском санитарном управлении, консультантом по специальности в нескольких структурах: детской заразной больнице (быв. Аржанова), нервной клинике (Казанская, 3), амбулатории Заволжского санитарного управления (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 728. Л. 4).
На результаты кадровой политики университета влияла тяжелая социально-экономическая обстановка. Сельские и городские жители Самарской губернии испытывали все тяготы голода и эпидемий. Перед студентами, преподавателями и сотрудниками медицинского факультета также остро стояла жилищная проблема. В отчете за три года работы медицинского факультета его декан П.В. Занченко констатировал, что значительная часть профессоров не приехала в Самару из-за отсутствия квартир, пайков и льгот для переезда. Кроме этого сдерживающего фактора часть профессоров не решалась переехать из-за задержки утверждения центром их кандидатур (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 96. Л. 4). Трудности с жильем, проблемы с общежитием для студентов, случаи стеснения профессоров, например выселение М.И. Аккера, расстраивали работу. Центральные и местные власти принимали меры по устранению этих недостатков. Весной 1921 г. положение было довольно серьезным, центр вел разговор о переносе медицинского факультета в другой губернский город в случае неэффективного решения жилищно-бытовых условий. На заседании сессии Самарского губисполкома 20 мая 1921 г. руководство губернией, рассмотрев доклад декана медицинского факультета, благожелательно отнеслось к сохранению факультета. Ряд принятых мер должен был смягчить остроту всех трудностей тяжелого материального положения. Так, губернские руководители решили обеспечить университет необходимыми помещениями, а профессоров и студентов – общежитиями; выдать академический паек по московским нормам и обеспечить топливом, студентов снабдить предметами широкого потребления (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 96. Л. 5).
Частью повседневной жизни сотрудников университета была поддержка от Международной федерации помощи студентам в 1920 гг. Они имели возможность получать питание (ЦГАСО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 107. Л. 14–14 об.). Принятые меры позволили временно снять остроту их плачевного гуманитарного положения. В мае 1923 г. в условиях обострения финансовых трудностей руководство Самарского государственного университета обращалось за поддержкой к голландской миссии помощи голодающим с просьбой оказать поддержку, но получило отказ «из-за некоторых условий нашей работы, связывающих нашу свободу действий… несмотря на наше желание». Аналогичный ответ пришел от отдела помощи голодающим Общества друзей квакеров (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 257. Л. 1, 8).
Медицинская профессура селилась в пределах центральной части города. А.А. Корнилов жил на улице Казанской, № 1, в той части города, которая в конце XIX – начале XX в. именовалась «старосамарской»; М.Н. Гремячкин – на Вознесенской, 58; М.И. Аккер – на Саратовской, 153, кв. 1; В.М. Курзон – на Л. Толстого, 58; П.В. Францев – на Соловьиной, 2; Н.В. Белоголовов – на Саратовской, 157, кв. 1; Ю.В. Португалов – Саратовской, 130, кв. 2 (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 831. Л. 4; Д. 785. Л. 2 об.; Д. 722 Л. 10; Д. 955. Л. 3 об.; Д. 728. Л. 2 об.).
Роль студентов Самарского университета в этих кризисных условиях не сводилась к пассивному участию. Они оказывали всяческую поддержку администрации и сотрудникам. Фактором, осложнившим положение, было прекращение с июля 1922 г. государственного снабжения университета. Созданная студентами комиссия «Неделя университета» призывала изыскать средства для его спасения и сохранения «очага науки» (ЦГАСО. Ф. Р.-28. Оп. 1. Д. 261. Л. 3). В рамках проведенной «недели помощи университету», состоявшейся 16–23 декабря 1922 г., были зафиксированы поступления от разных губернских и уездных структур, частных лиц, в том числе помощь была оказана служащими госуниверситета, например профессором М.Н. Гремячкиным и врачами выпуска 1922 г. (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 189. Л. 350). Это свидетельствовало о корпоративном самосознании и взаимоподдержке универсантов. В мае 1923 г. член правления университета С. Дедущик в отчете о «неделе помощи университету», подводя итоги, связывал активную роль студентов в отстаивании Самарского университета с тем, что для «пролетарской и вообще малоимущей части» студенчества закрытие университета означало бы прекращение их образования. Среди мер, принятых студентами, он называл следующие: студенты урезали свои голодные пайки и создавали дополнительные фонды к имеющимся пайкам (например, от иностранных организаций). На этой основе был построен бюджет университета на текущий учебный год. Обучающиеся проводили «недели помощи университету» (это позволило собрать средства, обеспечивающие деятельность университета на 3 месяца); они взяли на себя расходы по проведению практических занятий, так как университет мог их приостановить из-за невозможности выплаты содержания личному составу; на общественных началах помогали переместить две библиотеки (52 000 томов), лаборатории и кабинеты кафедр ботаники, зоологии, геологии с минералогией из-за сокращения площадей университета (ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 189. Л. 350–351). Эти меры позволили отсрочить упразднение медицинского факультета университета.
Жизнь студентов-медиков 20-х гг. была довольно сложной. На примере анализа автобиографического самоописания жизненного пути студента Уральского и Пермского университетов А.М. Аминева отметим, какие особенности жизни он выделял. А.М. Аминев поступил на 1-й курс в 1921 г. Первой и самой главной проблемой для студентов, особенно тех, кто приехал из отдаленной сельской местности и жил в общежитии, был недостаток питания. Студентам давали паек, который составлял 12 фунтов (4,8 кг) овсяной муки на месяц, которого не хватало. Причем паек можно было получать или в сухом виде, или через столовую в виду двухразового питания, завтрака и обеда. На обед давали кусочек хлеба и тарелку супа, в котором «плавали несколько капустинок и маленький кусочек конского мяса – большого деликатеса» (Аминев, с. 76). Кроме того, студенты болели распространенными в то время инфекциями. Сам А.М. Аминев перенес сыпной тиф (Аминев, с. 77–78). Каникулы проходили в деревне, и это спасало положение голодающих студентов.
Экстремальная повседневность голодного времени проявлялась в обилии трупов, которые использовались для обучения студентов анатомии и навыкам препарирования. А.М. Аминев так вспоминал об этом: «Голод, тифы косили людей сотнями. Неурожай в Поволжье был в тот год совершенно невиданный. Люди бежали от голода в Сибирь. Голодные уезжали с Волги, голодные ехали в поезде. Когда приезжали в Екатеринбург, то многие умирали дорогой. На железнодорожной станции умерших выгружали и сообщали в ‘‘анатомичку’’. К нам их привозили на телеге (осенью), или на санях (зимой), а иногда и на машине ‘‘навалом’’. Однажды я заглянул в сарай, где хранились трупы. Их там без одежды, разных возрастов, как поленница, лежало не менее 35–40» (Аминев, с. 82). Социальные последствия Гражданской войны и политики военного коммунизма были катастрофическими.
Материальный достаток студентов был низким. Одежда была дефицитным товаром. В конце первого года обучения А.М. Аминев получил от родственников старую студенческую фуражку и пальто в подарок. Это была форменная студенческая фуражка с темно-зеленым околышком и еще довольно приличное темно-серое пальто. А.М. Аминев писал: «…все были одеты очень просто, во что попало: участники войны ходили в военном – костюмах и шинелях». Так А.М. Аминев проходил осень второго года обучения. Наступали холода, и ему пришлось проявить самостоятельность. На толкучке он купил по очень низкой цене какой-то весьма поношенный рваный полушубок. Но летом дома ему сшили на зиму из коричневой, сермяжной, домотканой ткани своеобразный стеганый френч. Этот френч с четырьмя наружными нашивными карманами (как писал А.М. Аминев, «а ля Керенский») тогда был своеобразной модой. На голову он, тоже на толкучке, купил поношенную буденовку. Вспоминая об этом, он писал, что был во френче и буденовке похож на демобилизованного воина. Это была зимняя одежда, а осенью и весной ходил в студенческой фуражке и в легком отцовском пальто (Аминев, с. 87–88). Студент А.М. Аминев увлекался спортивными соревнованиями (Аминев, с. 93–94). Несмотря на все тяготы материального кризиса, А.М. Аминев смог его преодолеть и достичь успехов в учебе. Одним из ярких воспоминаний была коллективная поездка студентов в Ленинград и мимолетная встреча с Нобелевским лауреатом И.П. Павловым. Несмотря на все тяготы, студенты-медики учились, занимались наукой, отдыхали, состязались в спортивных достижениях.
Гражданское противостояние 20-х гг. специфическим образом преломлялось в университетском сообществе. В то время только происходило формирование государственной системы политического контроля и идеологической работы. По воспоминаниям А.М. Аминева, студенческая среда тех лет была беспартийной. Среди студентов практически не было детей рабочих и крестьян, что в последующие времена станет обязательной нормой. Советская власть формировала пути социализации молодежи. Одним из официальных каналов приобщения к общественной работе был комсомол. Аминев вступил в комсомол, сделав это не на факультете университета, так как там ячейка еще не была организована, а в своем селе в 1923 г., когда приехал на каникулы. После этого со студентами университета он организовал первую ячейку на факультете. На 3-м курсе Аминев был единственным комсомольцем. Специального преподавания истории РКП(б) и политэкономии тогда не было. Данные вопросы, как свидетельствуют воспоминания, разбирали на кружках, на которые приглашали старых большевиков. Студенчество, судя по воспоминаниям А.М. Аминева, было равнодушным к коммунистическим идеям. В то время началась практика «чистки» студентов и преподавателей из «бывших». Чистка студентов проводилась открыто в актовом зале при полной аудитории, когда каждый студент выходил и рассказывал о себе; президиум и все собравшиеся могли высказаться. Еще одной чертой студенческой повседневности было участие А.М. Аминева как комсомольца в военной подготовке в частях особого назначения РКП(б) (Аминев, с. 95–102). Военизация повседневной жизни была довольно распространенной чертой раннего советского общества.
Заключение
В экстремальных условиях Гражданской войны, смены политических режимов и гуманитарной катастрофы представители медицинской интеллигенции продемонстрировали глубокую приверженность профессии и университету. В период КОМУЧа произошло открытие университета, велась подготовка для начала работы медицинского факультета. Общая разруха скорректировала первоначальные планы по набору сотрудников, так как многие преподаватели отказались от переезда в Самару. После восстановления структур советской власти в Самарской губернии во второй половине 1918 г. – начале 1919 г. продолжался процесс создания медицинского факультета. Мотивация медицинской интеллигенции состояла в формировании университетского высшего образования, и для этого прикладывались все силы и возможности.
Происходил процесс становления высшего медицинского образования в крае. Источники пополнения профессорско-преподавательского состава Самарского государственного университета были разными. Руководство университета и медицинского факультета обеспечило подбор высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. Медицинский факультет стал пополняться врачами, имевшими большой опыт земской и университетской медицины. Таким образом, в региональном научно-образовательном пространстве России в период революционных потрясений часть земской и университетской медицинской интеллигенции показала свою способность к самоорганизации, сохранению традиций университетской корпорации в новых условиях. Тем самым на формирование медицинского факультета оказали прямое влияние традиции университетской и земской медицины, носителями которых были как местные, так и столичные врачи и преподаватели. Опыт дореволюционных врачей оказался востребованным новой властью. Значительная часть ученых приехала из ведущих университетских центров. На основе рассмотренных биографий можно сделать вывод, что в составе медицинского факультета Самарского университета были выпускники Московского, Казанского, Киевского университетов, Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, Гейдельбергского университета. Когорта видных врачей-ученых заложила базу преподавания фундаментальных и клинических дисциплин, проведения научных исследований. Некоторые преподаватели имели опыт военной службы в годы Первой мировой и Гражданской войн в прифронтовых и тыловых госпиталях.
Направления специализации преподавателей, чьи анкетные данные нами проанализированы, были широкими. Они включали фундаментальные и и клинические сферы медицинского знания: анатомию, хирургию, терапию, педиатрию, неврологию, психиатрию, бактериологию. Профессорско-преподавательский состав заложил традиции сочетания теории и практики в подготовке врачей. Организуя образовательный процесс, преподаватели совмещали учебную работу, занятия наукой и врачебную практику. Некоторые из них занимались административно-управленческой деятельностью в учреждениях здравоохранения. Высокой была их языковая подготовка. Большинство знали 2–3 европейских языка. Профессора занимались наукой, апробировали результаты своих исследований и докладывали о результатах лечебной работы на заседаниях общества врачей, выезжали на научные конференции. Кроме научных командировок иногородние преподаватели медицинского факультета вместе с администрацией университета вывозили свои библиотеки, инструментарий в Самарский университет для организации учебной, лечебной и научной работы со студентами. Работа преподавателей как врачей в лечебных учреждениях города способствовала смягчению последствий голода, вызывавшего многочисленные болезни. Ученые медицинского факультета исследовали фундаментальные проблемы влияния голода на организм человека, принимали практические лечебные и организационно-управленческие меры по борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний, организовывали медицинскую помощь роженицам и грудным детям, занимались рядом других вопросов.
Сотрудники медицинского факультета испытывали все тяготы голодного времени. Руководство университета и медицинского факультета ходатайствовало об оказании помощи университету на губернском и центральном уровнях, взаимодействовало с учреждениями города и иностранными организациями. Корпоративная культура университета способствовала возникновению различных форм взаимоподдержки студентов и преподавателей, заинтересованных в общем деле сохранения университета. В сложнейших условиях они смогли организовать учебный процесс, обеспечить занятия наукой и осуществлять лечебную работу. До конца отстаивая сохранение высшего медицинского образования в Самаре, студенты и сотрудники медицинского факультета Самарского университета проявили принципы гражданского мужества, высокого профессионализма и зрелой корпоративной идентичности, несмотря на недолгое время существования Самарского государственного университета.
Sobre autores
N. Kabytova
Samara National Research University
Autor responsável pela correspondência
Email: don.kabytov2012@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-9411-8429
Doctor of Social and Humanitarian Sciences, professor of the Department of Russian History
Rússia, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian FederationP. Mistryugov
Samara National Research University; Medicine and Social Sciences, Samara State Medical University
Email: Pavel892006@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7996-1466
Candidate of Historical Sciences, associate professor of the Department of Russian History; associate professor of the Department of History of Motherland
Rússia, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation; 89, Chapaevskaya Street, Samara, 443099, Russian FederationBibliografia
- Babiyak 2014 – Babiyak V.I. (2014) On the 140th anniversary of N.V. Belogolovov’s birth. Russian Otorhinolaryngology, no. 3 (70), pp. 150–151. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=21801526. EDN: https://elibrary.ru/sjcduh. (In Russ.)
- Buldakov 1997 – Buldakov V.P. (1997) Red distemper: Nature and consequences of revolutionary violence. Moscow, 373 p. Available at: https://vk.com/wall-176345677_7415?ysclid=m7a2xk3chu587641755. (In Russ.)
- Varlamenkov, Kuzmin, Yaremchuk 2016 – Varlamenkov V.N., Kuzmin V.Yu., Yaremchuk O.V. (2016) Scientific-pedagogical and medical the way of professor V.M. Curzon (1874–1934). Bulletin of Semashko National Research Institute of Public Health, issue 2 (thematic), pp. 78–80. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-pedagogicheskiy-i-vrachebnyy-put-professora-v-m-kurzona-1874-1934-gg?ysclid=m7a3iiaz5s220224515. (In Russ.)
- Zavodyuk 2019 – Zavodyuk S.Yu. (2019) Higher medical education in Samara in 1917–1930-ies: problems of formation and search for organizational forms. In: Universities in the socio-cultural space of the Samara region: (on the 100th anniversary of university education in Samara): materials of the round table. Samara, pp. 62–71. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=41848372. EDN: https://elibrary.ru/rrrbio. (In Russ.)
- Intelligentsia and revolution… 1985 – Intelligentsia and revolution. XX century. Collection of articles. Moscow, 334 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=21434905. EDN: https://elibrary.ru/qgdzyu. (In Russ.)
- Kabytov, Leonov, Leontyeva 2019 – Kabytov P.S., Leonov M.M., Leontyeva O.B. (2019) Preface. In: Universities in the socio-cultural space of the Samara region [Electronic resource]: (on the 100th anniversary of university education in Samara): materials of the round table. Samara, pp. 5–8. Available at: https://repo.ssau.ru/bitstream/Universitety-v-sociokulturnom-prostranstve/Predislovie-81518/1/Университеты%20в%20соц.-5-8.pdf. (In Russ.)
- Kabytova 2002 – Kabytova N.N. (2002) Power and society of the Russian province in the revolution of 1917. Samara, 324 p. Available at: https://thelib.net/1801394-vlast-i-obschestvo-rossijskoj-provincii-v-revoljucii-1917-goda.html; https://elibrary.ru/item.asp?id=24734688. EDN: https://elibrary.ru/uvgztn. (In Russ.)
- Kabytova, Kabytov 1997 – Kabytova N.N., Kabytov P.S. (1997) On fire of Civil War. Samara province at the end of 1917–1920. Samara, 91 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=24904661. EDN: https://elibrary.ru/uyzsdt. (In Russ.)
- Kotelnikov, Samykina, Suhacheva 2010 – Kotelnikov G.P., Samykina L.N., Suhacheva I.F. (2010) 80 years of Scientific Research Institute of Hygiene and Ecologies of the Person of the Samara State Medical University. Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, vol. 12, no. 1 (6), pp. 1475–1479. Available at: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2010/2010_1_1475_1479.pdf. (In Russ.)
- Lebedeva 2000 – Lebedeva E.V. (2000) Research activities of Samara State University in 1918–1927. Samara, 73 p. (In Russ.)
- Mistryugov 2017 – Mistryugov P.A. (2017) The destines of the so-called «former people» in Russian provinces in the Civil war years (1918–1920). Voprosy Istorii, no. 12, pp. 61–73. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=30607668. EDN: https://elibrary.ru/ztumdz. (In Russ.)
- Mistryugov 2018 – Mistryugov P.A. (2018) Local emergency structures of the Soviet government during the Civil war. Samara, 299 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=36813086. EDN: https://elibrary.ru/yumbvj. (In Russ.)
- Mistryugov 2018 a – Mistryugov P.A. (2018) The daily service routine of the Samara region revolutionary tribunal officials during the Civil War. Russian History, no. 4, pp. 35–42. DOI: https://doi.org/10.31857/S086956870000130-4. EDN: https://elibrary.ru/ylgdqd. (In Russ.)
- Mistryugov 2018 b – Mistryugov P.A. (2018) State policy of provisional government and Soviet power with regards to former servicemen of Russian public and political police over the period of March 1917 – December 1921 (on the materials of Samara province). Genesis: Historical research, no. 10, pp. 14–31. DOI: http://doi.org/10.25136Z2409-868X.2018.10.26167. (In Russ.)
- Mistryugov 2020 – Mistryugov P.A. (2020) The ordinariness of «extraordinary regime»: spheres and methods of civil confrontation, practices of everyday life / daily practices in 1918–1922. Voprosy Istorii, no. 12–1, pp. 32–43. DOI: https://doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202012Statyi03. EDN: https://elibrary.ru/nuccuh. (In Russ.)
- Narsky – Narsky I.V. (2001) Life in disaster: everyday life of the Ural population in 1917–1922. Moscow, 613 p. Available at: https://djvu.online/file/AXa3QMnaU2FrM?ysclid=m7a6ucqqmi244584772. (In Russ.)
- Poverennova 2011 – Poverennova I.E. (2011) History of the Samara neurological school. Annals of Clinical and Experimental Neurology, vol. 5, no. 3, pp. 62–65. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=17291562. EDN: https://elibrary.ru/ncojcr. (In Russ.)
- Samara State Medical University 2019 – Samara State Medical University: 100 years since its foundation. Samara, 616 p. (In Russ.)
- Samara State University 1999 – Samara State University: 1969–1999. Samara, 252 p. Available at: https://repo.ssau.ru/bitstream/Sborniki/Samarskii-gosudarstvennyi-universitet-19691999-SamGU-Elektronnyi-resurs-77478/1/Самарский%20государственный%20университет%201999.pdf. (In Russ.)
- Serebryany, Yaremchuk 2018 – Serebryany R.S., Yaremchuk O.V. (2018) Activity of the Average and Middle Volga institute of Protection of motherhood and infancy (OMM) in 1929–1945. History of the children's sector. Bulletin of Semashko National Research Institute of Public Health, no. 5, pp. 99–110. DOI: http://doi.org/10.25742/NRIPH.2018.05.011.
- (In Russ.)
- Serebryany, Jaremchuk 2016 – Serebryany R.S., Jaremchuk O.V. (2016) The role of the country consulting rooms in the developing of Soviet system of maternal and child welfare during 20 th – 30 th of the XX century. Bulletin of Semashko National Research Institute of Public Health, no. 6, pp. 92–101. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-selskoy-konsultatsii-v-stanovlenii-sovetskoy-sistemy-ohrany-materinstva-i-mladenchestva-v-20-30-e-gody-20-veka?ysclid=m7acnorwyu110807925. (In Russ.)
- Sinelnikova, Sobolev 2023 – Sinelnikova E.F., Sobolev V.S. (2023) On the way to a new scientific and educational space in the first years of Soviet power. Historical essays. Saint Petersburg, 172 p. Available at: https://ihst.nw.ru/Files/News/202_/2023/Book-Sinelnikova-Sobolev-2023.pdf. (In Russ.)
- Stolyarov 2018 – Stolyarov O.D. (2018) The main milestones of formation and development of the medical faculty of Samara State University in 1918–1923. In: Memory of the Past – 2018. VII historical and archival forum dedicated to the 100th anniversary of the state archival service of Russia (Samara, May 15–17, 2018): collection of articles. Samara, pp. 433–439. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=36660806. EDN: https://elibrary.ru/yrutrz. (In Russ.)
- Stoyukhina, Shesterikova 2021 – Stoyukhina N.Yu., Shesterikova V.V. (2021) Yuliy Veniaminovich Portugalov: psychologist and psychiatrist from Samara. Institute of Psychology Russian Academy of Sciences. Social and Economic Psychology, vol. 6, no. 4 (24), pp. 349–367. DOI: https://doi.org/10.38098/ipran.sep_2021_24_4_15. EDN: https://elibrary.ru/qnlhpf. (In Russ.)
- Sukhova 2008 – Sukhova O.A. (2008) Ten myths of peasant consciousness: essays on the history of social psychology and mentality of Russian peasantry (late XIX – early XX centuries) based on materials from the Middle Volga region. Moscow, 677 p. Available at: https://djvu.online/file/z7zc0P6cDuUfZ?ysclid=m7bg3ix1c826479409. (In Russ.)
- Fedyukin 1972 – Fedyukin S.A. (1972) The Great October and the intelligentsia: From the history of the involvement of the old intelligentsia in the construction of socialism. Moscow, 471 p. (In Russ.)
- Chanbarisov 1973 – Chanbarisov Sh.Kh. (1973) Formation of the Soviet university system (1917–1938). Ufa, 472 p. (In Russ.)
Arquivos suplementares