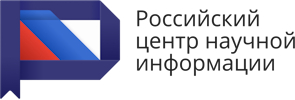Доиндивидуальные истоки семиозиса: Жильбер Симондон о знаке как операторе трансдукции
- Авторы: Саяпин В.О.1
-
Учреждения:
- Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
- Выпуск: № 9 (2025)
- Страницы: 48-71
- Раздел: Статьи
- URL: https://medbiosci.ru/2409-8728/article/view/364112
- EDN: https://elibrary.ru/UHZLYF
- ID: 364112
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст
ВведениеВ традиционных теориях знака – от структуралистской дихотомии «означающее/означаемое» Ф. де Соссюра (1857–1913) до триадической модели «репрезентамен-объект-интерпретант» Ч.С. Пирса (1839–1914) семиозис понимается как отношение репрезентации, где значение возникает либо через референциальную связь с объектом, либо посредством социальных конвенций. При этом семиозис (знакообразование) трактуется как процесс интерпретации уже сложившихся знаковых структур, что имплицитно предполагает их онтологическую стабильность. Философия Ж. Симондона (1924–1989)[1, 2, 3, 4] мыслителя техники и онтологии становления, совершает радикальный разрыв с этой парадигмой, помещая генезис знака в доиндивидуальное поле – метастабильную зону аффективных сил, потенциалов и напряжений, предшествующих оформлению индивидов и объектов. Ключевое влияние здесь оказывает феноменология М. Мерло-Понти (1908–1961): его концепция «плоти мира» как дорефлексивного анонимного измерения опыта перекликается с симондонианским пониманием доиндивидуального как среды спонтанных аффективных напряжений. Если у Мерло-Понти тело выступает «первым символом» мира, синтезирующим смысл до когнитивных операций, то Симондон трансформирует эту идею, утверждая, что знак рождается не из субъекта, а через него. То есть знак здесь является «оператором» трансдукции, разрешающим кризисы метастабильности путем переноса энергии между разнородными порядками реальности (физическими, биологическими, психическими и социальными). Поэтому знак – это не репрезентация, а активный агент, который кристаллизует доиндивидуальные напряжения в новые динамичные структуры. Например, ритуальный танец (знак) возникает не как «обозначение» священного, а как некая разрядка аффективной энергии группы, переводящая ее из метастабильного состояния в символический порядок.
Таким образом, в рамках процессуальной онтологии Симондона семиозис радикально переосмысливается не как применение стабильного кода, а как имманентное событие в непрерывном потоке индивидуации. Каждый акт знакообразования представляет собой уникальный ответ на конкретную конфигурацию метастабильных напряжений, где доиндивидуальное (шум, аффект, диссонанс) выступает не помехой, но необходимым «топливом» и материалом для имманентного смыслогенеза. Знак здесь обретает конститутивную, а не репрезентативную силу: он активно участвует в становлении реальности, разрешая кризисы метастабильности и порождая новые структуры через операцию трансдукции. Эта модель раскрывает скрытую процессуальность знаков даже в условиях цифровой эпохи, демонстрируя, как алгоритмы функционируют как специфические операторы трансдукции, структурирующие потоки данных, разрешая одни диссонансы (например, поисковые запросы) и неизбежно порождая новые (фильтрующие пузыри, этические дилеммы искусственных нейронных сетей). Подобный взгляд делает эксплицитной политику семиозиса, выявляя механизмы признания значимости определенных диссонансов (получающих алгоритмические операторы для разрешения и усиления) и маргинализации иных как «шума». Симондон напоминает, что информация по сути своей есть мера индивидуации, она возникает в процессе трансдукции, а цифровые данные обретают действенность лишь как «топливо» семиозиса в конкретных оперативных контекстах, а не в качестве статичного контента. При этом значение (сигнификация), которое здесь возникает в процессе успешной операции индивидуации или в процессе взаимодействия двух несопоставимых, но реальных измерений, является динамической информационной системой[3,p.22].
От Аристотеля к Симондону: поиск истоков понятия «семиозиса»
Построение генезиса понятия «семиозис» от Аристотеля к Симондону требует важного терминологического уточнения[5]: сам термин «семиозис» (др.-греч. σημείωσις) в его современном значении как процесс знакообразования и интерпретации не использовался Стагиритом (384–322 до н.э.) напрямую. Однако аристотелевский анализ знака в трактатах «Об истолковании»[6,c.91-116] и «Риторика»[7], где различаются знаки природные (σημεῖα) и условные (σύμβολα), заложил фундаментальные онтологические и логические основания для последующей теории знака[8,p.32-45]. Эта концепция эволюционировала через схоластическую семиотику, семиологию Соссюра и репрезентативную семиотику Пирса, кульминацией чего стала радикально имманентная и операциональная концепция «семиозиса» у Симондона. Семиозис в симондонианском понимании окончательно дематериализуется как применение кода и переосмысливается как событие трансдукции в потоке непрерывной индивидуации[4,p.30-32,9,p.41-45]. В этом случае знак (signe) функционирует как оператор, разрешающий метастабильные напряжения доиндивидуального (шум, аффект) и конституирующий значение (сигнификацию) как меру этого процесса. Вот почему современные исследователи утверждают, что именно такой процессуальный семиозис и позволяет Симондону раскрыть скрытую динамику знаков в цифровых гиперобъектах, где алгоритмы выступают новыми операторами трансдукции[10,11,p.134-138].
Эта концепция радикально отличается от классической репрезентативной парадигмы Аристотеля, основанной на онтолого-гносеологической триаде из трактата «Об истолковании» (16a3-8)[6,c.93], где письмена суть символы устных слов, слова – символы аффектов души, а аффекты души – подобия вещей. Данная иерархия устанавливает знак (особенно слово) как вторичный элемент[12,p.32], условно репрезентирующий ментальное состояние («аффект души»), которое само отражает объективную реальность через подобие, выполняя тем самым двойную функцию выражения содержания ума и посредничества между субъектом и миром. Именно это фундаментальное различение, заложенное здесь, и станет краеугольным камнем его последующей семиотики, развитой в «Риторике»[7] и «Первой аналитике»[6,c.117-254]. Он различает знаки по природе (σημεῖα, semeia), где связь между знаком и обозначаемым необходима (дым-огонь) и условные знаки (σύμβολα, symbola), где связь установлена соглашением (слово-вещь). Это различие подчеркивает двойственность семиотического отношения: с одной стороны, существуют объективные внеязыковые индексы (знамения), с другой – произвольные конвенциональные символы языка. Однако и в том, и в другом случае знак понимается как указание на нечто иное, лежащее в основе[8,p.10-11].
В результате, несмотря на введение ключевых понятий (символ, подобие, знак, условность), Аристотель не развивает динамическую теорию семиозиса как процесса. Его модель по существу статична и репрезентативна. Знак (особенно языковой символ) рассматривается как относительно устойчивый элемент в системе отношения «вещь-мысль-слово». Акцент делается на логическом и риторическом использовании знаков (как в силлогизмах с приметами или риторических доказательствах), а не на имманентном процессе их возникновения, изменения или функционирования в порождении смысла. «Аффекты души» как посредники – это скорее статические ментальные репрезентации (подобия вещей), чем динамические процессы переживания или становления значения. Семиозис, таким образом, сводится к акту обозначения готовыми знаками уже сложившихся мысленных содержаний, отражающих мир, а не к конституирующей силе, разрешающей метастабильность, как у Симондона[13,p.28-30,14,p.39-40]. Иными словами, Аристотель не разрабатывал динамическую теорию процесса знакообразования (семиозиса), но заложил логико-онтологические основы для понимания знака как репрезентации.
В отличие от аристотелевской дихотомии (слово-аффект души-вещь), Хрисипп из Сол (281/278 до н. э.) и стоики совершили прорыв, создав первую «трехкомпонентную модель знака»[8,p.70-71,15,p.195-196], основу будущей семиотики. То есть стоики четко разделили три компонента: материальное означающее (звук или надпись), идеальное означаемое (смысл или лектон (λεκτόν)) и сам референт (вещь в мире). Ключевым нововведением стало понятие «лектона» (то, что выражается) – объективного, интерсубъективного смыслового содержания, не сводимого ни к психическому состоянию (как у Аристотеля), ни к физической вещи, а возникающего в акте интерпретации знака. Именно лектон как означаемое обеспечивает стабильность значения независимо от конкретных ментальных актов или физических воплощений знака, закладывая онтологическое основание для семиотических отношений[16,p.30-31,17,p.45-47]. Эта триада (знак-смысл-вещь) и стала прообразом последующих семиотических моделей, вплоть до триады Ч.С. Пирса «репрезентамен-объект-интерпретант».
Кроме того, именно стоикам принадлежит не только структурное определение знака, но и введение самого термина «семиозис» для обозначения динамического процесса обозначения, а именно установления отношения между означающим и означаемым (лектоном). Это было ключевым шагом к пониманию знака не как статичного объекта, а как акта или функции. Они детально анализировали этот процесс в двух ключевых контекстах. В логике[18,p.63-65,15,p.201-204] их интересовала истинность высказываний как сложных лектонов, где семиозис позволял различать истинные и ложные пропозиции через соответствие означаемого (лектона) положению дел в мире. Параллельно, в контексте гадательной практики (мантики)[15,p.339-343] стоики (особенно Хрисипп) разработали теорию знаков-индексов, основанных на причинно-следственных связях (например, рубцы – знак прошлой раны), где семиозис понимался как процесс вывода от видимого знака к скрытому состоянию дел, санкционированный Божественным Логосом. В результате стоики не только дали первую строгую модель знака и процессуальный термин «семиозис», но и продемонстрировали его универсальную применимость от формальной логики до интерпретации мира как системы божественных знамений. Отсюда следует: хотя стоики и концептуализировали семиозис как процесс, их модель была статичной в онтологическом плане: лектон как означаемое выступал готовой смысловой формой подлежащей актуализации в акте обозначения, но не порождаемой им имманентно[16,p.30-31]. В связи с этим контраст с теорией Симондона здесь фундаментален. Если у стоиков семиозис репрезентирует предсуществующую реальность (физическую или Божественную), то у Симондона знак как оператор трансдукции конституирует реальность, разрешая имманентные кризисы метастабильности[4,p.28-31]. Лектон стоиков – это стабильный результат процесса, тогда как симондонианский знак имманентен процессу индивидуации и исчезает с его завершением. В цифровую эпоху этот контраст обретает особую остроту: стоическая модель объясняет работу алгоритмов как декодирование кодов (лектонов данных). Но лишь симондонианский подход раскрывает их роль как живых операторов трансдукции, переструктурирующих «доиндивидуальные» потоки информации в акте семиозиса.
В дальнейшем теологический фундамент семиозиса: знак как инструмент божественной коммуникации в трактате «О христианском учении»[19] конституировал богослов и философ Августин Аврелий (354–430 н.э.). При этом он не только систематизировал семиотику в теологическом контексте, но и определил знак (signum) как вещь, которая, помимо внешнего облика, воспринимаемого чувствами, заставляет познавать нечто иное[19,p.101,20,p.60]. Иными словами, это определение сместило акцент с физической субстанции знака на его интенциональную функцию как посредника в познании. В этой связи Августин разработал влиятельную классификацию знаков. Он не только разделил знаки на естественные (дым как знак огня) и условные (слова, жесты, институциональные символы), но и подчеркивал, что последние делают язык ключевым семиотическим инструментом. В результате эта дихотомия заложила основу для позднейших семиотических теорий произвольности знака.
Центральным вкладом Августина стала разработка герменевтической семиотики как метода интерпретации сакральных текстов, где он утверждал, что условные знаки Писания, особенно многозначные или темные, требуют интерпретации, направленной на постижение Божественной воли как высшего референта. Семиозис у Августина предстает триадическим процессом: знак → ментальная репрезентация (сознание интерпретатора) → трансцендентная истина (Бог). Причем интерпретатор активен в декодировании[19,p.103-125,21,p.8]; многозначность библейских знаков (например, змей как символ зла или мудрости) разрешается через контекст, доктринальную традицию и принцип «любви к Богу и ближнему». Эта модель, заложившая основы христианской герменевтики и семиотики и предвосхитившая дискуссии о роли интерпретанта[20,p.75], трактует семиозис как инструмент теологического познания и экзегезы. Однако, несмотря на углубление понимания семиозиса как коммуникативного акта, модель Августина остается телеологической и статичной: знак – инструмент передачи предустановленных смыслов от Божественного автора к верующему, где условный знак предполагает фиксированную интенцию и стабильную конвенцию, а герменевтика направлена на реконструкцию изначального значения (Божьего замысла), а не порождение нового. Фундаментальное отличие от Симондона здесь очевидно. Если у Августина семиозис подчинен трансцендентной референции (Бог как гарант смысла), то у Симондона знак имманентен метастабильному процессу индивидуации, возникая как оператор трансдукции для разрешения имманентных кризисов. Соответственно, если августиновский интерпретатор дешифрует скрытое значение, то симондонианский индивид (человек, коллектив, техника) соучаствует в конституировании реальности через знак-оператор[22,p.72].
Ключевой этап в генезисе концепции «семиозиса» связан со схоластической мыслью XII–XIV веков, где семиотические вопросы стали важными в логико-онтологических дебатах, особенно в спорах об универсалиях. Философы типа Иоанна Дунса Скота (1266–1308) и Уильяма Оккама (1285–1347) совершили радикальный сдвиг, углубив анализ природы знака и его интенциональности. Оккам, в частности, разработал строгое различение между знаком ментальным, понимаемым как естественный знак вещи в уме, и знаком условным, вербальным, существующим лишь по человеческому установлению[23,p.32,24,p.104-107]. Этот дуализм позволил схоластам исследовать знак не просто как указатель, но как элемент мышления и суждения. Теория суппозиций[25,p.215-234], детально разработанная в логических трактатах, анализировала, как термины в высказываниях приобретают конкретные референциальные значения (значения «стоят за») в зависимости от пропозиционального контекста. Тем самым схоласты существенно уточнили механизмы функционирования знака в познании (ментальные знаки как инструменты мышления) и коммуникации (вербальные знаки как конвенциональные носители), заложив основы для анализа знаковых процессов как таковых[12,p.51-73].
Вопреки распространенным упрощениям, схоластическая теория знака действительно раскрывает процессуальный аспект означивания: семиозис понимается здесь не как статичное отношение означающего к означаемому, а как контекстуальный акт использования знака в рамках пропозициональных структур (суппозиций), направленный на референцию или логические операции, где активная роль интерпретатора (логика, теолога) оказывается конститутивной. Однако, в отличие от схоластического подхода, который оставался сосредоточен на репрезентативной функции знака и его роли в статичной онтологии универсалий или индивидов, концепция семиозиса у Симондона осуществляет радикальную процессуализацию. Если для Оккама ментальный знак естественно репрезентирует единичную вещь, а вербальный знак условно ее обозначает[23,p.40-42], то Симондон полностью отказывается от модели знака-репрезентанта, заменяя ее знаком как имманентным оператором трансдукции, разрешающим метастабильность в процессе индивидуации.
Философ Джон Локк (1632–1704) совершил концептуальный прорыв, впервые эксплицитно определив семиотику как самостоятельную дисциплину. В заключительной книге «Опыта о человеческом разумении» (1690)[26] он вводит термин «семиотика» («σημειωτική»), провозглашая «учение о знаках» третьей фундаментальной ветвью науки наряду с физикой (учением о природе) и практической этикой (учением о действии). Локк концептуализирует семиотику как инструмент критики познания[27,p.720], исследующий «природу знаков, которыми ум пользуется для понимания вещей или для передачи своего знания другим». Эта дисциплинарная номинация хотя и не получила у Локка детальной разработки, однако закрепила знак как эпистемологическую проблему, сместив акцент от схоластических споров об универсалиях к анализу функционирования знаковых систем в познавательной деятельности. Отсюда следует, что Локк заложил основание для современной семиотики, постулируя, что все человеческое познание опосредовано знаками, а сама мысль имеет семиотическую природу.
Кроме того, ключевым для теории «знака» у Локка является его инструментально-репрезентативная функция. Локк определяет знак как чувственно воспринимаемую вещь, которая замещает или представляет другую вещь[27,p.405], подчеркивая его медиальную роль в познании. Знаки (преимущественно слова) трактуются как произвольные метки идей в индивидуальном сознании («знаки внутренних концептов»), обеспечивающие коммуникацию посредством ассоциации идентичных ментальных содержаний у разных субъектов[28,p.180-184]. Однако модель у Локка страдает фундаментальным дуализмом: знак репрезентирует идею (ментальное содержание), которая, в свою очередь, репрезентирует внешний объект, создавая разрыв между семиосферой и онтологической реальностью. Этот репрезентационизм сводит знак к пассивному посреднику, игнорируя его конститутивную роль в структурации опыта. Критически важным ограничением является и атомизм у модели Локка: знаки функционируют как изолированные носители предзаданных идей, а не как элементы динамического процесса означивания – подход, который будет радикально пересмотрен лишь в XX веке Симондоном.
Философ, логик, основоположник прагматизма и современной семиотики Чарльз Сандерс Пирс осуществил радикальный разрыв с репрезентативной парадигмой Локка, заменив дуалистическую модель знака (знак и объект/идея) триадической структурой, фундаментальной для семиозиса («репрезентамен-объект-интерпретант»). Согласно логике Пирса, знак функционирует только во взаимодействии трех нередуцируемых элементов: 1) самого знака как материального носителя; 2) объекта, на который он указывает; 3) интерпретанты – смысла, порождаемого знаком в сознании интерпретатора. Как считает Пирс: «Знак обращается к кому-то, то есть создает в сознании этого человека эквивалентный знак или, возможно, более развитый знак. Знак, который он создает, я называю интерпретантой первого знака»[29,c.260]. Именно интерпретанта, а не прямое отношение к объекту, является ключом к значению: она представляет собой «перевод» знака в другой знак или концепт в ментальном или практическом поле. При этом Пирс различает виды интерпретант (непосредственная, динамическая, конечная), подчеркивая сложность процесса интерпретации. Кроме того, эта триада («репрезентамен-объект-интерпретант») не статична: интерпретанта сама становится новым знаком (репрезентаменом)[29,c.259-261], порождающим последующую интерпретанту, тем самым запуская неограниченный семиозис, бесконечную цепь означивания. В результате Пирс сместил акцент с изолированного знака (репрезентамена) на процессуальную динамику порождения смысла[30,p.38].
Важной частью в пирсовской модели является и типология знаков, основанная на способе связи между репрезентаменом и объектом и определяющая логику семиозиса. Это, во-первых, знак икона, чье значение основано на сходстве (диаграмма, портрет, метафора). Во-вторых, индекс: знак, связанный с объектом фактической смежностью или причинностью (дым как знак огня, указательный жест, симптом болезни). Наконец, символ: знак, чья связь с объектом установлена условным правилом или законом (языковые слова, математические символы, социальные коды). Эта классификация не просто описывает знаки, но раскрывает механизмы семиозиса[31,p.43-48]: иконический знак фокусируется на качестве чувственного опыта, индексный – на реакции на существование объекта, символический – на обобщенной привычке интерпретации. Поэтому в реальном семиозисе знаки редко существуют в чистом виде, а комбинируются (например, дорожный знак «поворот» – символ и индекс), что усложняет процесс порождения интерпретант[32,p.92]. В результате Пирс трансформировал семиотику из учения о знаках (как у Локка) в универсальную теорию процессуальности, где семиозис предстает как имманентное свойство реальности. Как утверждает Пирс: «Мысль, таким образом, есть знак, развивающийся в других знаках. <...> Вселенная пронизана знаками, если она не состоит исключительно из знаков»[29,c.260]. Интерпретанта здесь не психологический феномен, а объективная сила в цепи означивания, трансформирующая возможность в существование и закономерность. Вот почему типология Пирса (икона, индекс, символ) не просто классифицирует знаки, а вскрывает саму онтологию семиозиса, где реальность конституируется через динамику означивания. Однако, в отличие от Пирса, чей неограниченный семиозис, хотя и процессуален, исходит из относительно стабильного знака (репрезентамена) и фокусируется на логике репрезентации и интерпретации, Симондон радикально преодолевает саму репрезентативную модель. Его теория раскрывает мир как бесконечную ткань интерпретаций, где мышление – лишь звено в универсальном порождении смыслов, а знак возникает не как данность, а как временная кристаллизация доиндивидуального потока.
Фердинанд де Соссюр (1857–1913) в «Курсе общей лингвистики» (1916)[33, 34] предложил революционную диадическую модель языкового знака, противопоставленную триадической схеме Пирса. Согласно Соссюру, знак в его семиологии есть неразрывное единство означающего (акустического или графического образа) и означаемого (концепта или понятия), подобное двум сторонам листа бумаги[33,p.16]. В связи с этим лингвистический знак характеризуется двумя фундаментальными особенностями. Во-первых, между звуковым образом (акустическим компонентом) и ментальным концептом (смысловым содержанием) отсутствует какая-либо природная или логическая взаимосвязь, а их соединение носит исключительно конвенциональный характер. Во-вторых, материальная реализация знака обладает линейной природой. Она развертывается последовательно во временном измерении, что отличает языковые знаки от пространственных форм выражения. Кроме того, эта модель радикально порывала с референциальной традицией (знак → вещь), смещая фокус на внутреннюю структуру языка. Соссюр провозгласил семиологию наукой о знаках в социальной жизни, утверждая, что лингвистика – лишь ее часть[33,p.16]. Однако, в отличие от Пирса, он ограничил семиотическое исследование системными отношениями (langue), оставляя индивидуальное употребление (parole) на периферии. Его концепция означаемого (не объекта, а понятия) подчеркивала автономию знаковой системы от внеязыковой реальности, что стало краеугольным камнем структурализма[35,p.18].
В результате ключевой тезис Соссюра – это произвольность языкового знака. Связь в его науке (семиологии), изучающей жизнь знаков в рамках жизни общества, всегда между означающим и означаемым не мотивирована, а установлена конвенцией[33,p.67]. Это отличает его модель от пирсовской иконы (сходство) и индекса (причинность), приближая к символам, но с акцентом на чистую условность. Однако Соссюр идет дальше: значение знака определяется не его внутренними свойствами, а дифференциальными отношениями в системе. Например, слово «дерево» значимо не само по себе, а лишь в отличие от «куста» или «леса»[33,p.118]. Такой подход исключает изолированное рассмотрение знаков, требуя анализа их места в структуре. Эта идея предвосхитила структуралистские методы (Леви-Стросс, Барт), но также подверглась критике за статичность. Если Пирс акцентировал бесконечную интерпретацию, Соссюр редуцировал семиозис к синхронным оппозициям[36,p.44]. Его модель не учитывала, как parole (речевая практика) трансформирует langue (систему), что позже стало основой постструктуралистской критики. Хотя Соссюр редко использовал термин «семиозис», его теория подразумевает ограниченную версию означивания, где знаки функционируют внутри замкнутой системы, а не в процессе бесконечной интерпретации.
Однако, в отличие от Пирса, у которого интерпретанта порождает новые знаки, у Соссюра значение жестко фиксировано системой[37,p.28]. Это различие проистекает из его синхронического подхода: язык изучается как стабильная структура в конкретный момент, а не как исторически изменчивый процесс[33,p.81]. Тем не менее его идеи оказали огромное влияние на структурализм (Леви-Стросс, Якобсон), принявшего тезис о примате системы. Кроме того, постструктуралистская мысль (Деррида и Барт) осуществила радикальную переоценку наследия Соссюра. Хотя эти авторы отвергали статичность структурной модели языка, они творчески развили ключевой принцип дифференциальности. Деррида, в частности, трансформировал понимание Соссюром различий как элементов стабильной системы в концепцию «дифферанса» – непрерывного процесса дифференциации и отсрочки смысла[38,p.13]. Барт же продемонстрировал, как дифференциальные механизмы работают не только в языке, но и в культурных кодах, причем смыслы постоянно пересматриваются в новых контекстах[39,p.146].
Следовательно, постструктурализм сохранил важнейшее достижение Соссюра – идею о том, что значение рождается из различий. Однако переосмыслил ее в процессуальном ключе, показав нестабильность и подвижность семиотических систем. Социосемиотический подход, разработанный С. Холлом и У. Эко, существенно расширил структуралистскую модель Соссюра, распространив ее на анализ культурных систем означивания. Холл в своей модели «кодирования/декодирования» [40,p.136] показал, как медийные сообщения функционируют как полисемичные конструкции, чьи значения формируются через дифференциальные культурные коды и интерпретативные рамки. Эко в своей теории «неограниченной семиозиса»[12,p.71] применил структуралистские принципы к анализу культурных текстов, учитывая их идеологические измерения и контекстуальную изменчивость. Это теоретическое расширение преобразовало лингвистическую парадигму Соссюра в динамический аналитический инструмент для исследования того, как значение социально производится, оспаривается и натурализуется через различные семиотические практики.
Таким образом, если Пирс разработал динамическую теорию семиозиса, а Соссюр заложил основы структурной семиотики (хотя и в статической парадигме, требовавшей последующей процессуализации), то принципиально новый поворот в понимании семиотических процессов осуществил Якоб фон Икскюль (1864–1944). Немецко-русский биолог и философ предложил радикально биологизированную концепцию «семиозиса», введя в научный оборот термин «Umwelt» для обозначения видоспецифичной семиотической среды, конституируемой перцептуальными и операциональными возможностями организма[41,p.42].
В модели Икскюля, изложенной в работах «Теоретическая биология» (1920)[42] и «Учение о значении» (1940)[43], семиозис есть не антропоцентрический процесс, а универсальный функциональный круг, связывающий организм и «Umwelt» через знаки. Икскюль различает знаки-носители, воспринимаемые рецепторами организма, и знаки-эффекторы, вызывающие ответное действие, образующие замкнутый цикл восприятия-действия[41,p.48-52,44,p.102]. Этот процесс конституирует саму реальность организма. Пчела, например, воспринимает не «объективный» цветок, но лишь цветовой знак как «признак-метка» и форму ландшафта как «оперативный-признак» направляющий ее полет[42,p.129]. Семиозис здесь имманентен жизни. Знаки не репрезентируют внешний мир, но создают «Umwelt» как сеть функциональных значений, где каждая биологическая ниша есть уникальный семиотический универсум. При этом ключевое отличие семиозиса Икскюля от классических моделей – это его неявная операторная природа. Если у схоластов или Локка знак предполагает интерпретатора-субъекта, то у Икскюля знаки функционируют как биологические операторы, автоматически связывающие рецепторы и эффекторы организма в дорефлексивном процессе[45,p.78-81].
В результате семиозис у Икскюля предстает как докогнитивный энактивный цикл, где значение возникает не в «сознании», а в самом действии: паук, реагируя на вибрацию паутины, не «интерпретирует» ее как знак добычи, но немедленно активирует двигательную программу[41,p.53]. Эта модель предвосхищает симондонианскую процессуальность. Подобно тому, как у Симондона знак-оператор разрешает метастабильные напряжения, у Икскюля знаки трансдуцируют физические стимулы в биологически значимые действия[46], конституируя реальность через функциональные отношения. Однако, в отличие от Симондона, фокусирующегося на доиндивидуальном, Икскюль подчеркивает видовую замкнутость семиозиса: его операторы действуют в пределах видового кода, что ограничивает межвидовую трансдукцию.
Если фон Икскюль радикализировал семиозис как видоспецифичный функциональный круг, где и оперативные признаки формируют замкнутую среду организма[41,p.48], то Морис Мерло-Понти осуществил феноменологическое преодоление этой биологической замкнутости. Заимствуя у Икскюля концепт «Umwelt», но переосмысливая его через онтологию «плоти мира», Мерло-Понти трансформирует семиозис в интеркорпоральный процесс. Тело как «первый символ» не просто реагирует на видовые стимулы, но активно синтезирует смыслы через дорефлексивное «сплетение» с миром[47,p.154]. Здесь икскюлевские бинарности, признаки-метки и оперативные признаки растворяются в едином поле перцептивного напряжения, где значение рождается не из предзаданных кодов, а из взаимной «вовлеченности» тела и среды. В итоге, сохраняя идею имманентного семиозиса, Мерло-Понти заменяет видовой релятивизм Икскюля универсальной диалектикой воспринимающего и воспринимаемого[48,p.92].
Итак, феноменология М. Мерло-Понти радикализирует понимание семиотических процессов через концепт «плоти мира», трактуемой как анонимное дорефлексивное измерение бытия, предшествующее субъект-объектной дихотомии. В работе «Видимое и невидимое» (1964)[49] он описывает плоть как «ткань бытия», где перцептивные и аффективные напряжения спонтанно кристаллизуются в первоначальные смыслы до их концептуализации[50,p.139]. Эта онтология[51,p.87] напрямую коррелирует с симондонианским «доиндивидуальным» – средой метастабильных аффективных потенциалов, где знак возникает не как репрезентация, а как «складка» самой материи опыта. Здесь семиозис коренится в докогнитивной стихии взаимопроникновения тела и мира. Ключевым для модели Мерло-Понти является статус тела как «первого символа» мира. В «Феноменологии восприятия» (1945)[52] тело трактуется не как объект, а как имманентный оператор смыслогенеза: оно синтезирует значения через кинестетические, тактильные и визуальные схемы до рефлексивного сознания. Этот «дологический синтез» предвосхищает симондонианскую трансдукцию: подобно тому, как у Симондона знак разрешает метастабильные напряжения, у Мерло-Понти тело трансдуцирует хаос ощущений в организованные перцептивные поля через ритмы, жесты и аффективные отклики. Телесный семиозис здесь не репрезентация, а способ бытия в мире, где значение рождается как «ответ плоти на плоть»[53].
Мерло-Понти деконструирует классические семиотические модели, заменяя знак как репрезентамен перцептивным событием означивания. Его анализ «дикого смысла» (дологического значения, возникающего в перцептивных синтезах) в незавершенных работах показывает: значение имманентно самому акту восприятия. Например, акустико-цветовая синестезия, которая позволяет воспринимать цвета, связанные с определенными звуками, или амодальное восприятие пространства демонстрируют, как сенсорные поля взаимно «интерпретируют» друг друга без посредничества знаков[50,p.218]. Этот процессуальный подход не только отвергает дихотомию Соссюра означающее/означаемое, но и преодолевает дуализм Локка знака и идеи. Кроме того, этот подход сближается с пирсовским неограниченным семиозисом через категорию «интеркорпореальности», а именно через взаимопроникновение телесных и мировых ритмов как основы семиозиса[54,p.247]. Вот почему плоть мира выступает «абсолютным значащим», где семиозис есть не когнитивная операция, а дорефлексивный симбиоз тела и среды.
Таким образом, историко-философская реконструкция генезиса понятия «семиозиса» демонстрирует его трансформацию от аристотелевской логики знака как инструмента познания до радикально процессуальной концепции Симондона, где семиозис становится оператором трансдукции в поле доиндивидуальных напряжений. Этот путь раскрывает фундаментальный эпистемологический сдвиг. Если классические теории (Аристотель, схоласты, Локк) рассматривали знак как стабильный медиатор между миром и сознанием, то феноменологическая (Мерло-Понти) и постструктуралистская традиции (через переосмысление Икскюля) подготовили почву для понимания семиозиса как имманентного процесса смыслогенеза, где материальность знака и его конститутивная сила выходят на первый план. Современная семиотика, наследуя эти разработки, исследует семиозис уже не как применение кодов, а как событие встречи организма со средой, будь то биологический, цифровой или социальный контекст[55,p.112].
Трансдуктивный семиозис: от доиндивидуального к индивидуации в теории Симондона
Жильбер Симондон, французский философ, чьи новаторские работы в области философии техники и теории индивидуации предвосхитили современные дискуссии о технологической субъективности, оставался маргинальной фигурой в эпоху доминирования структурализма и постструктурализма, несмотря на защиту в 1958 году двух фундаментальных диссертаций. В этих трудах он разработал теорию «индивидуации», согласно которой субъект конституируется как эффект, а не как источник процесса становления. Лишь после 2010 года произошло методологическое «повторное открытие» Симондона в англо- и франкоязычной философии, во многом благодаря актуальности его онтологии для анализа цифровых технологий. Длительное забвение объясняется принципиальной несовместимостью его процессуальной онтологии с репрезентативистскими установками современников. Иными словами, забвение Симондона в эпоху расцвета структурализма и постструктурализма коренилась в фундаментальном методологическом конфликте. В то время как Клод Леви-Стросс анализировал мифы как замкнутые кодовые системы[56], Симондон трактовал их как поля доиндивидуальных напряжений, где семиозис возникает как операция трансдукции, разрешающая метастабильность[4,p.286]. Его процессуальный вопрос – «как миф становится?» – остался чужд структуралистской эпистемологии, фокусировавшейся на синхронных структурах. Даже постструктуралисты, критиковавшие статичность структур (Деррида, Фуко), проигнорировали его онтологию. Единственным исключением стал Делез, адаптировавший категории «доиндивидуального» и «трансдукции» в «Различии и повторении» (1968), но радикально переосмысливший их в рамках шизоанализа, отвергнув симондонианский технооптимизм[57,p.307].
Вместе с тем возрождение интереса к Симондону после 2010 года обусловлено кризисом лингвистического поворота и запросом на некорреляционистские онтологии. Три фактора обеспечили его современный культовый статус. Во-первых, концепт конкретизации технических объектов стал ключом к анализу гибридных систем – от нейроинтерфейсов до блокчейна[11,p.72]. Работы Стиглера, связавшего симондонианскую индивидуацию с цифровой фармакологией, реабилитировали его технооптимизм в эпоху антропоцена. Во-вторых, спекулятивные реалисты (Мейясу, Харман) нашли в его процессуальности альтернативу посткантианской традиции[58,p.82], а теории акторов-сетей (Латур) унаследовали идею симметрии человека и техники. Наконец, модель коэволюции природы и техники предвосхитила проблемы экологических катастроф. Как отмечает Стиглер: «Симондон был философом кибернетических организмов, когда другие играли в знаки»[59,p.15]. Его онтология, некогда отвергнутая за «натурализм», ныне признана двигателем философии будущего[57,p.307].
Необходимо подчеркнуть, что онтологический фундамент проекта Симондона восходит к онтогенетическим исследованиям Мерло-Понти, испытавшего влияние фон Икскюля. Симондон разрабатывает универсальную модель онтогенеза, где операция трансдукции служит аксиоматическим ядром, образуя параллель с космогоническими построениями Пирса. Развивая тезис своего научного руководителя Кангильема о конституировании сознания «из воплощенного поведения», Симондон выстраивает эпистемологию, методологически совместимую с естественными науками и структурно изоморфную его онтогенетической схеме. Ядром этой системы является теория «индивидуации», представленная в основной диссертации Симондона (1958). Как отмечает Саймон Миллс, данный проект направлен на выявление универсального принципа становления сущего[60,p.224]. Другими словами, его очень оригинальный подход к этому очень старому вопросу философии является попыткой создания космогонии[61] и, таким образом, должен быть применим практически ко всем возможным областям.
Симондон радикально оспаривает традиционные подходы к проблеме индивидуации, демонстрируя их зависимость от предустановленных сущих. Субстанциалистский атомизм (начиная с Демокрита) некритически принимает существование индивидуированных атомов, сводя становление к их комбинаторике, тогда как аристотелевская «гилеморфическая схема»[4,p.34] постулирует уже индивидуированный принцип (структуру), организующий пассивную материю. Обе модели, как отмечает Симондон, совершают эпистемологическую ошибку: помещают результат процесса (индивидуированное бытие) в его начало, тем самым отрицая подлинный генезис[2,p.26]. В противовес этому он предлагает процессуальную онтологию, исходящую из доиндивидуального поля – неструктурированного бытия («онтос» в потенциальности)[4,p.38], насыщенного метастабильными напряжениями. Метастабильность здесь есть ключевое свойство доиндивидуального: состояние сверхнапряженного равновесия, где малейшее взаимодействие между разрозненными порядками величины инициирует фазовый переход. В этом разрешение метастабильных напряжений осуществляется через трансдукцию операцию, одновременно эпистемологическую и онтологическую. Этот процесс не требует предзаданных оснований. Он сам генерирует структурирующие принципы через локализацию напряжений («запускающее событие»), создавая начальные структуры, которые становятся матрицей для последующей организации смежных областей[3,p.18]. Здесь трансдукция не только имеет аксиоматический статус как универсальный метод онтогенеза[4,p.45], но и проявляется на всех уровнях реальности (физическом, витальном, психическом, коллективном и даже техническом). Вот почему это объясняет единство многого. Структуры возникают не извне, а имманентно, через свое саморазрешение. Таким образом, трансдукция заменяет статичные принципы индивидуации динамикой самоорганизующейся метастабильности, предлагая нередукционистскую космогонию. Наиболее показательным примером реализации этого подхода в физическом регистре выступает процесс кристаллизации в переохлажденной жидкости, служащий у Симондона фундаментальной моделью физической индивидуации.
Итак, метастабильное состояние физической системы представляет собой доиндивидуальную реальность – среду, насыщенную неразрешенными напряжениями, где введение «зародыша структуры» инициирует трансдукцию: цепную актуализацию имманентного потенциала через пространственно-временное структурирование[4,p.45]. Этот процесс демонстрирует ключевые свойства трансдукции: аксиоматичность, имманентность информации и потенциальность. Другими словами, во-первых, зародыш не содержит информации о конечной структуре, а выступает оператором, запускающим самоорганизацию системы[4,p.71]. Во-вторых, «информирование» метастабильной среды есть не передача внешнего кода, а активация внутренних дифференциалов (в отличие от модели коммуникации у К. Шеннона)[2,p.35]. Наконец, метастабильная область содержит виртуальный репертуар структур[3,p.24], актуализируемых в зависимости от типа зародыша. Отсюда следует, что относительная устойчивость физической фазы индивидуации осуществляется через «внутренний резонанс». А именно через установление соответствия между разными порядками величины (молекулярным и макроскопическим), что формирует топологию и хронологию индивида[4,p.213]. При этом активность сосредоточена на границе раздела. Растущий фронт кристалла («живая» зона трансдукции) противопоставлен кристаллизованной массе, которая, по выражению Симондона, есть «мертвый остаток прошлых операций»[2,p.35]. В результате индивид существует лишь как процесс разрешения напряжений. Здесь настоящее (активная граница кристаллизации), прошлое (стабилизированная структура), будущее (метастабильная область, подлежащая трансформации).
Витальная фаза индивидуации, в отличие от физической фазы, характеризуется принципиальной незавершенностью процесса. Она не исчерпывает доиндивидуальный потенциал, а сохраняет остаток метастабильности как условие дальнейшего становления. Как подчеркивает Симондон, индивидуация всегда относительна, поскольку определенный уровень потенциала сохраняется и дальнейшие индивидуации все еще возможны[4,p.38]. Эта доиндивидуальная природа является источником будущих метастабильных состояний. Живое сущее существует в парадоксальном режиме: оно одновременно «больше единства», поскольку несет в себе неразрешенные напряжения, позволяющие ему включаться в более широкие проблемные поля[3,p.12]. Динамика жизни поддерживается через постоянную генерацию новых различий и трансдуктивное разрешение устаревающих структур. При этом ключевым механизмом поддержания витальной метастабильности выступает топологическая организация живых систем, основанная на асимметрично поляризованных мембранах. Эти структуры не только создают «медиальные внутренние среды», разделяя и связывая внутреннее и внешнее (ассоциированную среду), но и обеспечивают избирательную проницаемость, регулирующую обмен. Кроме того, задают топологический ориентир для направленных процессов[2,p.35]. Например, на клеточном уровне эту функцию выполняет плазматическая мембрана. У сложных организмов возникает иерархия таких структур. Например, пищеварительная система как «интериоризированная внешняя среда», а нервная система – как оператор коммуникации между порядками величин. Эти системы, генерируемые и поддерживаемые самой индивидуацией, позволяют жизни сохранять неравновесное состояние – условие ее процессуальности.
Вместе с тем витальная фаза индивидуации характеризуется усиленным внутренним резонансом между медиальными структурами разного порядка (клеточными, тканевыми, организменными), создающим непревзойденную по сравнению с физическими индивидами корреляцию топологии и хронологии. Этот резонанс возможен благодаря фундаментальному условию жизни: наличию асимметрично поляризованных мембран макромолекулярного уровня, образующих нижний онтологический порог витальности[4,p.225]. Сущие субмолекулярного порядка относятся к дофизической сфере, неспособной поддерживать витальную метастабильность. Ключевым следствием мембранной организации является способность к агентности. Живой индивид регулирует избирательную проницаемость границ, сохраняя внутренний резонанс вопреки диссонансам ассоциированной среды[3,p.63]. На клеточном уровне аффективность проявляется как элементарная реакция на «несоответствие» в доиндивидуальном поле, порождающая аффективное «чувство-сигнал» (sentiment)[4,p.230]. Этот сигнал инициирует аффект – сдвиг внутреннего резонанса, восстанавливающий гомеостатическое напряжение системы. У сложных организмов данная схема эволюционирует: «ощущение → восприятие», «аффект→эмоция», формируя основу для психической фазы индивидуации как высшего модуса витальности. В этом случае «чувство-сигнал» (sentiment) у Симондона – это допсихическое ощущение диссонанса между живым организмом и ассоциированной средой, возникающее на уровне витальной фазы индивидуации. Этот концепт радикально отличается от обыденного понимания «чувства» и возникает этот сигнал при нарушении внутреннего мембранного резонанса[2,p.205]. Например, изменение осмотического давления для клетки. Это не психологическое состояние, а физиологическое событие, «свидетельство метастабильности»[2,p.197].
Таким образом, «чувство-сигнал» (sentiment) (или для витальных индивидов – это сигнал нарушения мембранного резонанса) у Симондона является не субъективным переживанием, а докогнитивной материальной реакцией организма на угрозу целостности, лежащей в основе всех высших форм чувственности. Другими словами, фиксирует несоответствие между индивидом и ассоциированной средой (индивид-средой)[3,p.11]. Его функция в витальном рекурсивном цикле выглядит следующим образом: метастабильный дисбаланс → «чувство-сигнал» (sentiment) → аффект (операция) → восстановление резонанса[2,p.199]. В этом случае «чувство-сигнал» (sentiment) – фундаментальный оператор витальной фазы индивидуации. Он запускает аффект – операцию восстановления метастабильного равновесия. Более того, «чувство-сигнал» (sentiment) у Симондона – это не чувство, не эмоция и не ощущение, а он есть телесный маркер (сигнал) необходимости трансдукции, или, по-другому, докогнитивное событие на границе «тело-среда».
Психический модус индивидуации, согласно логике Симондона, возникает как необходимый ответ на кризис витального уровня, когда собственные аффективные реакции организма оказываются неадекватны для разрешения его дисгармонии со средой и даже усугубляют ее. Эта тупиковая ситуация вынуждает сущее перейти от пассивного переживания к активному вмешательству в свою проблему, стать субъектом, развивая для этого более сложные внутренние психические структуры[3,p.9]. Однако ключевая характеристика психической фазы индивидуации – ее принципиальная несамодостаточность на уровне единичного сущего. Изолированный психический индивид, неспособный разрешить свою проблему, всегда обречен на состояние «тревоги» как бесплодного саморефлексивного замыкания. Поэтому он вынужден апеллировать к своему сохраняющемуся «доиндивидуальному потенциалу». Этот потенциал реализуется через вступление в отношения с другими психическими индивидами. В результате сама природа психической фазы индивидуации изначально требует коллективного измерения для своего осуществления, представляя собой зарождающуюся трансиндивидуальность.
Согласно Симондону, процесс психической фазы индивидуации всегда инициируется аффективными напряжениями доиндивидуального поля[3,p.15], представляющими собой метастабильные диссонансы в системе «индивид» и «индивид-среда». Первичным модусом схватывания этих напряжений является аффективное чувствование (sentir)[3,p.28], понимаемое как непосредственная дорефлексивная апперцепция диссонанса, или, по-другому, имманентная способность к аффективному отклику, а не дискретный акт или этап. Конкретным проявлением этого чувствования становятся «чувства-сигналы» (sentiment) – материальные события (например, телесная тревога), требующие трансдукции[2,p.199]. Именно напряжение, порожденное этими сигналами, особенно на границе между витальным уровнем и сохраняющимся доиндивидуальным потенциалом, запускает возникновение рефлексивного сознания (conscience) как операции по разрешению проблемы. При этом переходы между описанными состояниями (от напряжения к чувству-сигналу, от сигнала к сознанию) осуществляются не автоматически, а посредством операций трансдукции. Трансдукция здесь – это процесс разрешения кризиса через структурирование, при котором энергия напряжения переводится в новую организацию. В контексте психической фазы индивидуации трансдукция проявляется как стабилизация опыта: кристаллизация психических схем и устойчивых паттернов, разрешающих исходный диссонанс. Дальнейшее развитие приводит к формированию интеллекта (intellect), который Симондон определяет не как конечную стадию, а как способность работать с коллективными метастабильностями, то есть разрешать проблемы, выходящие за пределы индивидуального опыта и требующие обращения к трансиндивидуальному измерению[3,p.157].
Важно подчеркнуть, что представленная динамика (от аффективных напряжений через трансдукцию к интеллекту) не является линейной прогрессией. Во-первых, аффективное чувствование (sentir) – это не начальный этап, а имманентная способность, присутствующая на всех уровнях психической жизни[2,p.218]. Во-вторых, деятельность интеллекта, направленная на разрешение сверхиндивидуальных проблем в трансиндивидуальном поле, неизбежно порождает новые контингентные метастабильные диссонансы[62, 63] и аффективные напряжения. Это создает рекурсивные петли обратной связи[64], где операции интеллекта резонируют на условия аффективного чувствования (sentir) и новые «чувства-сигналы» (sentiment). В итоге психическая фаза индивидуации у Симондона предстает как непрерывный циклический и нелинейный процесс, движимый трансдуктивными операциями по разрешению постоянно возникающих и возобновляющихся напряжений в метастабильной системе «индивид-коллектив-среда». Интеллект выступает не конечной точкой развития, а ключевым инструментом работы с коллективной сложностностью[65,c.72,66,c.16,67,68], которая сама по себе является источником новых вызовов.
Итак, в онтологии непрерывной индивидуации Симондона знак (signe) претерпевает фундаментальное переосмысление. Он не является пассивным репрезентаменом (как у Пирса) предсуществующей реальности или условным элементом стабильной системы, как в классических моделях, восходящих к схоластической дихотомии. Вместо этого знак понимается как имманентный оператор трансдукции, возникающий и действующий внутри самого процесса разрешения метастабильных напряжений доиндивидуального поля. Его исток лежит в аффективных состояниях, шуме и потенциалах этого поля, а его функция – не отражение, а активное разрешение кризиса через структурирование энергии напряжения и конституирование новой реальности[9,p.41-45]. В итоге «конвенциональность» знака у Симондона растворяется в его оперативной эффективности по порождению новых структур и отношений в ходе индивидуации. Вот почему семиозис в рамках симондонианской философии кардинально отличается от моделей, фокусирующихся на корректном приписывании значения в суждениях (теория суппозиций) или бесконечной цепи интерпретант. Семиозис здесь – это само событие становления значения (сигнификация). Значение понимается не как статичная сущность или предзаданный референт, а как динамическая информационная система, возникающая как результат успешной операции трансдукции, инициированной знаком-оператором. Это процессуальное событие всегда разворачивается в имманентной плоскости индивидуации. В этом случае доиндивидуальное напряжение (аффект, шум) актуализирует знак как действующую силу, запускающую операцию трансдукции, которая разрешает кризис и приводит к возникновению новой индивидуальной структуры (значения). Семиозис, таким образом, есть аспект самой индивидуации – временный, ситуативный, материально воплощенный акт трансформации.
Следовательно, Симондон осуществляет фундаментальный переворот в понимании знака, смещая его исток в само метастабильное поле доиндивидуального задолго до формирования готовых знаковых систем, структурных отношений и даже стабильных индивидов. Эта концепция не просто подчеркивает процессуальность семиозиса, а радикализирует его онтологический статус: знак теперь мыслится не как репрезентация или элемент структуры, а как имманентный оператор становления в сердцевине непрерывной индивидуации. Такой разрыв с репрезентативистской парадигмой (включая ее структурные вариации) открывает значительный эвристический потенциал, позволяя анализировать семиозис как первичную динамику бытия, а не как вторичное отражение предзаданных сущностей. При этом семиозис позволяет, например, анализировать «застывшие» цифровые знаки не как фиксированные сущности, а как элементы динамических процессов, где алгоритмы функционируют как современные операторы трансдукции[11,p.134-138], разрешающие новые типы метастабильностей в техносоциальной реальности в сети Интернет. Отсюда следует, что такая модель знака как имманентного оператора трансдукции предлагает фундаментально процессуальную онтологию семиозиса, где значение рождается из напряжения и действия в самом акте преодоления кризиса индивидуации.
Можно отметить, что ключевое различие между семиозисом и сигнификацией у Симондона лежит в их фундаментальном онтологическом статусе. Семиозис есть имманентная оперативная трансдуктивная активность самой реальности в процессе ее индивидуации. Он не просто использует знаки, а он есть процесс, в котором знаки-операторы кристаллизуются из доиндивидуальных напряжений (метастабильных диссонансов) и действуют как катализаторы трансдукции[4,p.245-260]. Их функция – не представление предсуществующего смысла, а генерация новой информации, понимаемой Симондоном как мера разрешенной метастабильности, как сама структура, возникающая в процессе индивидуации. Сигнификация же, напротив, представляет собой вторичную стабилизированную ретроспективу. Она возникает после успешного акта семиозиса (трансдукции) когда новая индивидуальная структура (психическая схема, техническая функция, социальная норма) уже сформирована. Знак теперь фиксируется в рамках этой структуры как элемент репрезентативной системы («означающее» для «означаемого»), теряя память о своей оперативной проблемно-разрешающей генеалогии. Сигнификация, таким образом, есть результат «забывания» динамического процесса в пользу относительно статичного отношения.
Тем не менее различие между семиозисом и сигнификацией у Симондона не является абсолютным и застывшим. Оно отражает динамический цикл индивидуации. Вновь возникшая через семиозис метастабильная структура (и ее сигнификативная система) сама становится частью более широкого метастабильного поля, а именно новой «доиндивидуальной» реальности для последующих процессов. Столкновение с новыми диссонансами (изменение среды, конфликт, неисправность, кризис) обнажает недостаточность относительно устойчивых сигнификаций структуры. Это провоцирует новый виток семиозиса: ранее фиксированные знаки (или их элементы) мобилизуются как операторы трансдукции для разрешения проблемы, утрачивая репрезентативную жесткость и возвращая оперативную гибкость и имманентность процессу. Этот рекурсивный цикл «метастабильность → кризис → трансдукция → новая метастабильность» демонстрирует, что сигнификация – это лишь временная фаза относительного покоя в непрерывном потоке семиозиса как имманентной оперативности бытия. Знак постоянно «мерцает» между статусом оператора трансдукции (в семиозисе) и элементом репрезентативной системы (в сигнификации).
Можно отметить, что прямую и развернутую критику именно понимания знака как оператора трансдукции у исследователей Симондона найти сложно, так как он не разрабатывал детальную семиотическую теорию. Однако его концепция знака, вытекающая из общей онтологии индивидуации и трансдукции, подвергалась косвенной критике. Эта критика содержала потенциальные точки напряжения с другими философскими направлениями, особенно с теми, где знак, язык и символические системы играют центральную роль. Во-первых, например, Деррида показал, что значение знака никогда не присутствует полноценно, а постоянно откладывается (difference) в бесконечной игре отсылок к другим знакам. Знак не просто «оперирует» здесь и сейчас. Он укоренен в сети отсутствий и следов. В связи с этим симондонианский операциональный знак рискует недооценить эту радикальную отсроченность и нестабильность значения, его зависимость от контекста, который сам по себе никогда не фиксирован. Во-вторых, хотя Симондон и избегает классической репрезентативной модели (знак равен образу вещи), его функционалистский взгляд может не учитывать властные структуры и идеологии, встроенные в саму ткань языка и знаковых систем (что критиковали Фуко, Барт). Знак-оператор может казаться слишком «нейтральным» инструментом, лишенным исторического и политического измерения конструирования смысла. В-третьих, если для постструктуралистов (особенно после «смерти автора» Барта) значение рождается в самом тексте/дискурсе, а не в интенции автора или имманентном процессе «оперирования». Поэтому для Симондона акцент на знаке как элементе индивидуации (пусть и коллективной) может недооценивать самостоятельную продуктивность языковой и дискурсивной системы. Наконец, если Рикер настаивал на неустранимости интерпретации (герменевтики) и знак не просто «оперирует», а он требует истолкования в контексте культурных традиций, личного опыта и нарративных структур. Смысл не дан имманентно в операции, а конституируется в акте понимания, который всегда историчен, диалогичен и опосредован символами. В этом случае симондонианский операциональный знак рискует обойти эту сложную рефлексивную и историческую природу смыслообразования.
При этом важно понимать, что Симондон предлагает уникальный онтологический взгляд на знак как на активную силу в становлении реальности. Его концепция сосредоточена не на символических системах или интерпретации (как семиотика и герменевтика), а на имманентных процессах. Критика может указывать на то, что его модель недостаточна для объяснения всех аспектов функционирования знака в человеческом мире, особенно связанных с языком, культурой, властью и историей. Однако его концепция «знака» молчаливо игнорирует эти измерения, ставшие центральными для других философских традиций в середине XX века. При этом, не смотря на это, процессуальное понимание семиозиса у Симондона обладает мощным эвристическим потенциалом для анализа современных техносоциальных систем. Цифровые знаки и алгоритмы, часто воспринимаемые как предельно жесткие и репрезентативные системы (чистая сигнификация) могут быть переосмыслены через его онтологию. Алгоритм, подобно симондонианскому знаку-оператору, функционирует как имманентный механизм трансдукции внутри метастабильных цифровых социальных сред. Он возникает как ответ на специфические «проблемы» или диссонансы (оптимизация, управление, поиск, коммуникация) в доиндивидуальном поле данных и взаимодействий. Его действие направлено на разрешение этих напряжений путем структурирования информационных потоков и порождения новых паттернов (новой «информации» в симондонианском смысле). Хотя результат работы алгоритма часто предстает как фиксированная сигнификация (рекомендация, классификация, оценка), сам процесс его исполнения – это семиозис: динамическая ситуативная операция по трансдукции метастабильностей. Технические сбои, адаптации алгоритмов, их непредвиденные последствия – все это точки, где оперативная природа семиозиса прорывается сквозь оболочку стабильной сигнификации, подтверждая актуальность симондонианского различения для понимания динамики цифровой эпохи. Технические знаки также «мерцают» между оперативной силой и репрезентативной функцией.
Заключение
В заключение статьи можно привести наглядный пример того, как Симондон отстаивал радикально иную онтологию и теорию семиозиса, противопоставляя их господствовавшим феноменологическим и герменевтическим подходам (в частности, подходу П. Рикера). Так, 27 февраля 1960 года Жильбер Симондон, тогда молодой профессор из Пуатье, выступил с лекцией в авторитетном «Французском философском обществе»[69] – важном форуме парижской интеллектуальной жизни. Его доклад «Потенциалы» («Форма, информация и возможности») представлял собой сжатое изложение его философского проекта, направленного на поиск новых оснований (аксиоматизации) для социальных наук. Аудитория, включавшая таких видных фигур, как Ж. Валя, Ж. Ипполита, П. Рикера, Г. Марселя и президента общества Г. Бергера, ожидала выступления в эпоху, когда феноменология и экзистенциализм еще доминировали, а структурализм лишь зарождался. Однако последующая дискуссия выявила глубокий разрыв. Симондон оказался в защищающейся позиции, которая в феноменологически ориентированной среде воспринималась как едва ли не еретическая. Краткость и резкость его реплик в ходе обмена мнениями (особенно показательных диалогов с Рикером и Ипполитом, а также в ответ на критику Бергера о проблеме сознания) высветили то, что в его основных трудах часто оставалось имплицитным: радикально иные взгляды на природу значения, языка и, самое главное – субъекта. Этот эпизод стал яркой демонстрацией принципиального расхождения его процессуально-онтологического подхода с господствовавшими тогда субъектно-центрированными феноменологическими парадигмами.
В состоявшейся полемике Рикер с самого начала указывает на фундаментальную проблему в подходе Симондона к аксиоматизации социальных наук: тот пытается вывести универсум дискурса из сферы Природы. Однако, по мнению Рикера, сама идея Природы как изначально взаимосвязанной с человеком иллюзорна, а сама Природа уже включена в дискурс. Поэтому попытка Симондона построить дискурс на основе того, что дискурсом же и охвачено, неизбежно ведет к логическим противоречиям (паралогизмам). Рикер видит в этом вопросе проявление «герменевтического круга», где смысл (или «докатегорическое значение») рождается только в границах дискурсивного универсума. С этой позиции Симондон оказывается жертвой «риска объективизма», полагая сознание частью общего поля, а значения говорящего – лишь элементами совокупности вещей. Ответ Симондона был категоричным отвержением самой предпосылки Рикера: он решительно отрицал, что Природа является частью дискурса, называя это необоснованным постулатом. Хотя он, по-видимому, понимал, что Рикер описывает его философию как «докритическую» (или чуждую лингвистическому повороту XX века), Симондон не принял эту характеристику. Вместо этого он обвинил Рикера в «непереводящей концепции значения». Рикер, по его мнению, исходит из невозможности объяснить возникновение значения вне человеческого дискурса. Симондон утверждал, что сведение значения к дискурсу (подразумевающему Слово и его законы) замыкает смысл в горизонте человеческого опыта и сохраняет позицию трансцендентального субъекта. Его ключевой вывод подчеркивал множественность против абсолюта: «Нет единого Слова [La Parole], но есть множество слов [la parole]; значение существует, но не как Абсолютное Слово»[69,p.44]. Этим он отрицал сведение значения к лингвистическому дискурсу как единственному источнику.
Таким образом, обвинение Симондоном Рикера в «непереводящей концепции значения» было не просто частным возражением, а декларацией независимости смысла от диктата человеческого дискурса и трансцендентального субъекта. Отвергая сведение значения к горизонту языка (La Parole как Абсолют), Симондон утверждал его имманентную множественность (la parole). Смысл не нисходит из единого источника Слова и не замыкается в герменевтическом круге, но прорастает повсюду, в самой ткани бытия, в его доиндивидуальных напряжениях и потенциалах. Именно эта онтологическая укорененность смысла до и вне антропологической сферы лежит в основе его проекта аксиоматизации наук. При этом Симондон радикально смещает акцент: знак и значение – не продукты готового сознания или замкнутой языковой системы, а операторы, возникающие из и для самой динамики реальности, из ее предперсональных состояний и процессов индивидуации. Знак здесь – не репрезентация, а «трансдуктор», активный посредник в становлении, черпающий свою силу и смысл из доиндивидуального поля потенциалов.
Ключевой вывод Симондона: «Нет единого Слова, но есть множество слов; значение существует, но не как Абсолютное Слово» – звучит как манифест против господствующих парадигм его времени. Это отрицание Абсолюта (будь то Бог, трансцендентальное сознание или тотальный дискурс) открывает путь к его процессуально-онтологической концепции семиозиса. Значение не создается субъектом в языке, а оно имманентно процессам реальности и актуализируется через знак, понимаемый как оператор трансдукции. Это прямо указывает на эту революционную перспективу: семиозис (порождение и функционирование знаков) коренится не в интенциональности сознания или структурах языка, а в доперсональных, дорефлективных слоях бытия, в его потенциалах и энергиях, которые знак призван трансдуцировать: переносить, преобразовывать, разрешать. Именно поэтому знак становится не отражением уже данного смысла, а активным со-творцом реальности в ее непрерывном становлении, размыкая герменевтический круг и помещая производство смысла в самое «сердце» онтологического процесса, задолго до его артикуляции в человеческом слове. Это и есть подлинный масштаб симондонианского разрыва: семиозис как событие бытия, а не субъекта.
Об авторах
Владислав Олегович Саяпин
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Email: vlad2015@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6588-9192
доцент; кафедра истории и философии;
Список литературы
Simondon G. Du mode d'existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1958. 266 p. Simondon G. L'individu et sa genèse physico-biologique. Paris: Presses universitaires de France, 1964. 304 p. Simondon G. L'individuation psychique et collective. Paris: Aubier, 1989. 293 p. Simondon G. L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Grenoble: Millon, 2005. 571 p. Eco U. Kant and the platypus essays on language and cognition. New York: Harcourt Brace, 2000. 464 p. Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. 687 с. Аристотель. Риторика; Поэтика. М.: Лабиринт, 2005. 253 с. Manetti G. Theories of the Sign in Classical Antiquity. Indiana University Press, 1993. 196 p. Debaise D. Nature as Event: The Lure of the Possible. Durham: Duke University Press, 2017. 112 p. Combes M. Gilbert Simondon and the Philosophy of the Transindividual. Cambridge, MA: MIT Press, 2013. 119 p. Stiegler B. The Neganthropocene. London: Open Humanities Press, 2018. 349 p. Eco U. A Theory of Semiotics. Indiana University Press, 1976. 354 p. Deely J. Four Ages of Understanding: the first postmodern survey of philosophy from ancient times to the turn of the twenty-first century. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 2001. 1019 p. Nöth W. Handbook of Semiotics. Indiana University Press, 1990. 576 p. Long A.A., Sedley D.N. The Hellenistic Philosophers, Vol. 1. Cambridge University Press, 1987. 512 p. Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language. Indiana University Press, 1984. 242 p. Nuchelmans G. Theories of the Proposition: Ancient and medieval conceptions of the bearers of truth and falsity. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1973. 309 p. Diogenes L. Lives of Eminent Philosophers, Vol. II. Harvard University Press, 1931. 720 p. Augustine. De Doctrina Christiana (Oxford Early Christian Studies). Oxford University Press, 1995. 320 p. Markus R.A. St. Augustine on Signs // Phronesis. 1957. Vol. 2(1). P. 60-83. Burnyeat M.F. Wittgenstein and Augustine De Magistro // Proceedings of the Aristotelian Society. 1987. Vol. 61 (1). P. 1-24. Bontems V. Gilbert Simondon's Genetic "Mecanology" and the Understanding of Laws of Technical Evolution // Techné: Research in Philosophy and Technology. 2015. Vol. 19(1). P. 70-88. Panaccio C. Ockham on Concepts. Ashgate, 2004. 197 p. Spade P.V. The Cambridge Companion to Ockham. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 420 p. Kretzmann N., Kenny A., Pinborg J. The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 1035 p. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1985. 560 с. Locke J. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Clarendon Press, 1975. 867 p. Nuchelmans G. Judgment and Proposition: From Descartes to Kant. Amsterdam: North-Holland, 1983. 295 p. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000. 412 с. De Lauretis T. Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1984. 220 p. Liszka J.J. A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce. Bloomington: Indiana University Press, 1996. 168 p. Stjernfelt F. Natural Propositions: The Actuality of Peirce's Doctrine of Dicisigns. Boston: Docent Press, 2014. 340 p. Saussure F. de. Course in General Linguistics. London: Duckworth, 1983. 236 p. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 695 с. Harris R. Reading Saussure: A Critical Commentary on the Cours de linguistique générale. London: Duckworth, 1987. 248 p. Derrida J. Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976. 354 p. Culler J. Ferdinand de Saussure. Rev. ed. Ithaca: Cornell University Press, 1986. 157 p. Derrida J. Margins of Philosophy. University of Chicago Press, 1982. 330 p. Barthes R. Image-Music-Text. Hill and Wang, 1977. 220 p. Hall S. Encoding/decoding // Culture, Media, Language. Routledge, 1980. P. 128-138. Uexküll J. von. A foray into the worlds of animals and humans: with A theory of meaning. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. 272 p. Uexküll J. Theoretical biology. London, New York: K. Paul, Trench, Trubner & co. ltd., Harcourt, Brace & company, inc., 1926. 362 p. Uexküll J. Bedeutungslehre. Leipzig: J.A. Barth, 1940. 62 p. Kull K. Jakob von Uexküll: An Introduction // Sign Systems Studies. 2020. Vol. 48 (1). P. 98-107. Brentari C. Jakob von Uexküll: The Discovery of the Umwelt between Biosemiotics and Theoretical Biology. Dordrecht: Springer, 2015. 258 p. Deely J. Umwelt // Semiotica. 2001. Vol. 134 (1/4). Pp. 125-135. Dillon M.C. Merleau-Ponty's Ontology. Northwestern University Press, 1997. 306 p. Toadvine T. Merleau-Ponty's Philosophy of Nature. Evanston: Northwestern University Press, 2009. 174 p. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Мн.: Логвинов, 2006. 400 с. Merleau-Ponty M. The Visible and the Invisible. Evanston: Northwestern University Press, 1968. 282 p. Barbaras R. The Being of the Phenomenon: Merleau-Ponty's Ontology. Bloomington: Indiana University Press, 2004. 360 p. Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945. 531 p. Morris D. The Enigma of Reversibility and the Genesis of Sense in Merleau-Ponty // Continental Philosophy Review. 2010. Vol. 43(2). Pp. 141-165. Gallagher S. How the Body Shapes the Mind. Oxford: Oxford University Press, 2005. 284 p. Hansen M.B.N. Feed-Forward. Chicago University Press, 2015. 320 p. Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1958. 452 p. Deleuze G. Difference and Repetition. New York: Columbia University Press, 1994. 350 p. Meillassoux Q. After finitude: an essay on the necessity of contingency. Bloomsbury, 2009. 160 p. Stiegler B. Symbolic Misery, Vol. 2: The Catastrophe of the Sensible. Polity, 2015. 224 p. Mills S. Gilbert Simondon: causality, ontogenesis & technology. University of the West of England, 2014. 323 p. Toscano A. The Theatre of Production: Philosophy and Individuation between Kant and Deleuze. Hardcover: Palgrave, 2006. 256 p. Хуэй Ю. Рекурсивность и контингентность. М.: V A C Press, 2020. 400 с. Саяпин В.О. Контингентность и метастабильность как концепты самоорганизации современного социума // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. Воронеж, 2024. № 2. С. 47-53. EDN: XRPMKZ. Саяпин В.О. Рекурсия как способ самоорганизации современного социума // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. Воронеж, 2023. № 3 (49). С. 62-67. EDN: SRUPMZ. Аршинов В.И., Свирский Я.И. Сложностный мир и его наблюдатель. Ч. 1-я // Философия науки и техники. 2015. № 2. С. 70-84. EDN: VCVPHD. Ивахненко Е.Н. Хрупкий мир через оптики простоты и сложности (Ч. 2) // Образовательная политика. 2020. № 4 (84). С. 16-27. Керимов Т.Х., Красавин И.В. Сложность – общая, ограниченная и организованная: проблема, методология и основные понятия // Вестник Гуманитарного университета. 2024. Т. 12. № 2. С. 108-119. doi: 10.35853/vestnik.gu.2024.12-2.06 EDN: WRRJCX. Саяпин В.О. Техносоциальная сложностность как проблема индивидуации: взгляд Жильбера Симондона // Философская мысль. 2025. № 7. С. 85-107. Bardin A. Epistemology and Political Philosophy in Gilbert Simondon: Individuation, Technics, Social Systems. Springer, 2015. 215 p.
Дополнительные файлы