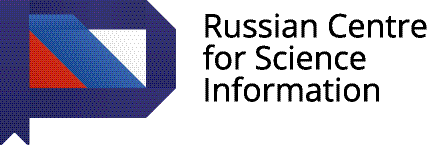The Problem of the God-Man in Medieval Eastern Philosophy
- Authors: Emel'yanov A.S.1
-
Affiliations:
- Issue: No 9 (2025)
- Pages: 92-105
- Section: Articles
- URL: https://medbiosci.ru/2409-8728/article/view/364114
- EDN: https://elibrary.ru/VRJQBM
- ID: 364114
Cite item
Full Text
Abstract
Full Text
Введение
Термин «Богочеловек по одной версии восходит к Клименту Александрийскому, по другой к Оригену. Стоит отметить, что термин Богочеловек, как и обожение без сомнения является развитием античных тем метаморфоза и апофеоза человека, высказанных еще Овидием, Сенекой и Апулеем. В более отдаленной перспективе обожение развивало также и ряд более древних античных мотивов. Например, орфической практики очищения и исцеления себя. Так или иначе, многие античные практики вроде герметизма и мистериальных культов, рисующих перед нами программу обожения человека и превращения человека в бога, во многом подготовили теоретическое пространство средневековой мысли и сделали тему теозиса одним из краеугольных камней всей христианской философии [1].
Первые (пусть и достаточно разрозненные) обращения христианских богословов к теме обожения мы можем обнаружить уже в III–IV веках у Августина Аврелия и Василия Великого. Еще раннее Ириней Лионский в тексте «Против язычников» (Adversus haereses) пишет, что «когда Слово Божье стало человеком, оно уподобило себе человека и человека Самому Себе [т.е. Богу] (quando homoVerbum Dei factum est, semitepsum homini, et hominem sibimetipsi assimilans)» [2, 9, 16]. В этом знаменитом пассаже Ириней обращает внимание на две (на наш взгляд) важные вещи, которые станут неотъемлемой характеристикой темы обожения человека в последующей традиции. Причем как на Востоке, так и на Западе.
Во-первых, это очеловечивание Слова (Verbum) как основополагающий момент складывающейся средневековой морфологии человека, где именно «Слово» является фундаментальным ракурсом развертывания средневековой онтологической возможности быть и существовать [3]. Человеческой практики возможности быть и существовать как человек в Боге и через Бога.
Во-вторых, как мы в этом можем убедиться, в христианстве Бог умирает для того, чтобы стать человеком. Это парадоксальное с точки зрения античного мировосприятия событие фактически переиначивает и трансформирует всю систему каузальных и онтологических связей в мире. Делает древнейшую практику обожения человека не только целью человеческой истории, но и логическим следствием, в котором даже Творец всего сущего – Бог, уподобляется самому человеку!
Первые разработанные теоретические конструкции обожения человека возникают на Востоке и относятся, как правило, к деятельности каппадакийской и александрийской школ. На Западе, вплоть до Ансельма Кентемберийского и Фомы Аквинского, тема обожения человека, если и присутствовала в трудах богословов то, как правило, не представляла собой самостоятельного учения, являясь переложением и трансляцией текстов восточных отцов церкви. Несмотря на это, даже после Ансельма и Аквината тема обожения на Западе не станет ведущей теологической темой. По крайней мере, она значительно уступала по вниманию другим, вызывавшим больший пиетет темам: проблеме универсалий, теодицее, доказательстве бытия Бога и многими другими. В этом смысле восточная традиция христианского богословия была «законодателем мод» и источником давшим пишу для глубочайших теологических споров. Рассмотрению генезиса этой теологической концепции и будет посвящено настоящее исследование.
Степень разработанности темы
Говоря о современном положении дел в философии относительно истории генезиса концепции Богочеловека в ранней средневековой восточной философии, стоит отметить, что эта проблема продолжает волновать исследователей. В частности, в статье А. Стрезовой [4] на примере византийской традиции (Иоана Дамаскина, Теодора Студита) исследуется роль гипостазного союза божественной и человеческой природы Христа, выраженной в ранней восточной иконографии. В работах К. Кларка [6], а также С. Корба [5] дается подробный анализ концепции теозиса у Максима Исповедника. Интересными и оригинальными исследованиями по данной проблематике представляются на наш взгляд работы В. Баранова [7] и О. Чистяковой [8], в которых затрагиваются антропологические аспекты проблемы Богочеловека, а также связь между образом Божиим, природой и ипостасностью. Однако в настоящее время в философской литературе отсутствуют работы, которые бы комплексно исследовали вопрос генезиса проблемы Богочеловека в ранней восточной средневековой философии. Последнее обстоятельство обосновывает актуальность настоящего исследования и работ по данному профилю.
Методология исследования
Методология данного исследования основана на комплексном теологическом и философском анализе текстов богословов восточно-христианской традиции средневековой философии, а также на сравнительном анализе концепций вочеловечивания Афанасия Великого, Максима Исповедника, Григория Богослова.
Основная часть
Афанасиевская модель вочеловечивания
Как уже было сказано выше, первые разработанные концепции обожения человека относятся к деятельности александрийской и каппадокийской школ. Так Афанасий Великий в своем трактате «Слово о воплощении Слова» (Oratio de Incarnatione Verbi) затрагивает сходную с Иринеем Лионским тему обожения, однако рассматривает ее более шире и основательно [10, 30]. Здесь в контексте концепции воплощения, которая по-видимому была навеяна Аполликарием Лаодикийским, мы встречаемся с выражением «вочеловечивание Слова» (ἐνανθρωπησεως τοῠ Λόγον) [10, 2, 1. 97.]. Стоит отметить, что лингвистическая и содержательная разница между используемым Иринеем Лионским «уподоблением (assimilans) Слова» и используемым Афанасием «вочеловечиванием (ἐνανθρωπησεως) Слова» огромна. Она заключается в том, что ἐνανθρωπησεως представляет собой уже более одухотворенный процесс. Если assimilans подразумевает технический характер уподобления (в смысле равенства), то ἐνανθρωπησεως не подразумевает равнозначного акта соединения или ассимиляцию человека и Бога, а скорее намекает на некоторое «вхождение» или «одухотворение» первого вторым. Несмотря на то, что Ириней и Афанасий практически являлись современниками уже в этой разнице, которая обнаруживается не только в языковом антогонизме, но и в теологической традиции, мы можем заметить достаточно серьезное глубинное расхождение между двумя Церквями (западной и восточной), которое с веками будет лишь нарастать.
В трактате «Слово о воплощении Слова» у Афанасия в отношении теозиса мы встречаем в целом традиционный подход, который будет воссоздан у Августина и Тертулиана. Согласно этому подходу грехопадение рассматривается им как главная причина пришествия Спасителя, т.е. вочеловечивания Слова. Грехопадение, по мысли богослова, является причиной «тления» и «растления» настоящего человека. Именно этот процесс (по всей видимости, восходящий к неоплатонизму) удаляет человека от совершенства и благости Бога и тем самым приближает его к естественному состоянию, т.е. к состоянию ничто или смерти как отличительной черте человечности как таковой. А именно: «если, некогда по природе быв ничто, призваны в бытие явлением и человеколюбием Слова; то следовало, чтобы в людях, по истощении в них понятия о Боге и по уклонении к не-сущему (ибо злое есть не сущее, а доброе, есть сущее, как произошедшее от сущего Бога) источились продолжающее навсегда бытие» [10, 2, 4, 104.].
«Прекращение» или «источение бытия» (κενωθῆναι καὶ τοῠεἶναι), о котором говорит Афанасий Великий здесь, прежде всего, указывает на радикализацию человечности, которая в своем сущностном онтологическом порядке есть ограниченное рамками человеческой жизни исчезновение и конец. По сути, конец человека, как и конец человечности, здесь являются априорными условиями существования вообще какой-либо возможности быть человеком. По мнению Афанасия, смерть человека – неотвратимый и сущностный порядок самого бытия человека, который участвует в событии забвения Бога. Однако в акте воплощения перед нами предстает буквально обратный процесс: не «истощение», а накопление. Истощая свою человечность, как качество, Слово Бога, вызванное из недр ничто и забвения, обретает тело и накапливает благодать, источая ее на апостолов и всех христиан. В этих онтологических качелях, где одно источается, а другое накапливается и «капитализируется», умирает и воскресает, ничтожится и бытийствует – раскрывается логика и сущностное предназначение обожения человека.
В связи с упомянутым выше фрагментом, следует сделать два важных уточнения. Во-первых, в Слово Бога, Афанасий вкладывает нисколько дух самого Бога (хотя согласно тринитарной формуле закрепленной, как известно еще на втором Вселенском Соборе его присутствие и наличие здесь необходимо) сколько определенное знание о Боге (или Премудрость Божью). Именно поэтому, «вочеловечившееся Слово» указывает на определенную гносеологию Бога, без которой само воплощение оказывается невозможным. Знание о Боге в качестве Слова, источником которого является сам Богом, одинаково отличается как от рационального познания западной традиции, от гностической Софии, так и от мистического акта постижения Творца. Сам Афанасий дополнительно не раскрывает сущностный характер этого знания о Боге, который оказывается выражен в Слове о Нем, добавляя лишь то, что при приобщении человеческого ума к Богу, процесс «тления человечности человека» может быть замедлен (останавливается полностью он лишь в состоянии слияния человека с Богом, т.е. в Богочеловеке).
Вторым элементом конструкции Афанасия является его понимание смысла и назначения Пришествия Христа. По мнению богослова, прелюдией к Пришествию, которое и нарушило привычный миропорядок постепенного «тления человека» после Грехопадения является то, что полное и окончательное уничтожение своих творений (в том числе и человека) не соотносится с Благодатью Бога и его замыслом, который не мог допустить этого [10, 2, 6, 105, 106]. Отсюда задача спасения человечества, по мнению Афанасия Великого, состоит в том, чтобы: «людей обратившихся в тление снова возвратить в нетление, и оживотворить их от смерти, присвоением Себе тела и благодати воскресения, уничтожая тем самым в них Смерть (ἀνθρώπους πάλιν εὶς τὴν ἀφθαρσίαν ὲπιστρέψη, καί ζωοποιήση τούτους ὰπό τοῠ θανάτου, τῇ τοῠ σώματος ἰδιοποιήσει καί. τῇ τῆς· ἀναστάσεως χάριτι τόν θάνατον άπ' αὐτῶν ώς καλάμην ἀπὸ πυρὸς ὲξαφανίζων)» [10, 2, 6, 105, 106.].
Иными словами, тление может прекратиться только смертью самого человека. Однако так как Слово умереть не может, то оно (верой и знанием) облекается в тело для того, чтобы явить человечеству момент искупления, в котором завершается процесс тления и происходит «восстание жизни» против тварности. Именно процесс «вочеловечивания Слова» осуществляет победу над смертью и «восстание жизни» против смерти (ἐνανθρωπήσεως τοῠ Θεοῠ Λόγου ἡ τοῠ θανάτου χατάλυσις γέγονε, καὶ ἡ τῆς ζωῆς ἀνάστασις) [10, 2, 6, 105, 106]. В этом фрагменте мы обнаруживаем достаточно нетривиальную трактовку понятия жизни, содержание которой оказывается более широким, чем понятие «человеческая жизнь». В этой интерпретации Афанасием жизни, которая превосходит жизнь природную и тварную есть нечто схожее с трактовкой «живого» Аристотелем данной им в трактатах «История животных» и «О душе». Однако даже Аристотель считал «гибель живого» и его смерть – неотвратимым онтологическим порядком сущего. Гибель и смерть – судьба живого. У Афанасия воля Бога стоит над всякой судьбой сущего и над его привычным порядком. Причем так, что в воле Бога осуществить восстание и победу жизни над смертью. Но эта победа, не победа живого над живым, не победа человека победившего смертью (т.е. сохранившего жизнь) того, кто от нее пострадал (т.е. умер). Афанасий подчеркивает, что победу одерживает Слово, а не тело. Победу одерживает познание Бога, которое есть вечная память о нем. Афанасий пишет, что если бы не познавали мы Слово Божье, то «были бы тогда подобны бессловестным, познающим лишь земное, если б ничего не познавали. А потому, для того и создал их Бог, ибо хотел чтоб они познавали Его (Οὐδὲν γὰρ οὐδὲ ἀλόγων διαφέρειν ξμελλον, εἰ πλέον οὐδὲν τῶν περιγείων ἐπεγίνωσχον. Τί δὲ καὶ ὁ Θεὸς ἐποίει τούτους, ἁφ’ ὦν οὐκ ἠθέλησε γινώσκσθαι)» [10, 2, 11. 116].
Таким образом, познание Бога является основополагающим моментом в акте слияния человека и Бога, обожения и, следовательно, спасения самого человека. С целью возвращения к познанию Слова Божьего и понятия Бога (которое, по мнению Афанасия, первые люди знали, но утратили после своего Грехопадения), Сам Бог посылает людям пророков и различные знамения, и когда и они не справляются, отправляет им Себя. Коль скоро природа и сущность человека оказывается испорченной, Христос приходит к людям с той целью, чтобы все люди обновились (ἀνακαινισθῶσιν). Этот, без сомнения орфический акт «исправления и очищения себя» невозможен без того примера жизни, которой стала жизнь Христа. Во многом именно благодаря этому (т.е. идее, преследующей цель «обновить человека») «Слово Божье приходит именно как человек» (ὡς ᾄνθρωπος ἐπιδημεῖ) [10, 2, 14. 121]. Именно поэтому, продолжает Афанасий, «Слово сделало Себя видимым» став человеком и, будучи произнесенным «человеком для человека» стало видимым, прежде всего, самому человеку. Только Слово вочеловечившееся, только Слово, облекшееся в плоть и обретшее свой «телос», позволит «убедить в своей истине» других. Именно поэтому Иисус ни сразу был явлен в качестве искупления за грехи человечества, но поначалу именно как телесное существо он привлек к себе других людей, творил знамения и чудеса (т.е. показал образец для самосовершенствования и исправления себя людям) и уже своим характером телесной жизни убедил их в том, что в «Нем уже не человек, но Слово Бога (ά μηκέτι ἄνθρωπον, ἀλλὰ Θεὸν Λόγον αὐτὸν ἐγνώριζον)» [10, 2, 16. 124].
Приход в мир «уже не человека, но Слова Бога» раскрывают для нас сущностный смысл Пришествия и Второго Пришествия как истории, делая возможным интерпретацию человека как собственно исторического существа. Само событие истории человека, как отрезка между этими двумя точками, рисует перед нами историю как процесс конца человека и наступления Царства Божьего. Именно поэтому христологическая идея истории, которая опирается на высказанный выше нарратив понимания вочеловечевшего Слова, изображает перед нами историю как линейный процесс воскрешения и умирания, начала и конца, глубинных и причинно-следственных смыслов, которые за ними скрываются и из которых соткан мир. Отсюда, «открытие врат Рая», который осуществил Христос для Афанасия (как и для всей последующей традиции) является событием более необходимым не для самого Слова, как Господа, а для самих людей [10, 2, 25. 140].
Модель Максима Исповедника
Историческую проблематику, которая проистекает из концепции обожения и Богочеловечества развивает Максим Исповедник. В трактате «Главы о Богословии и домостроительстве воплощения Сына Божьего» (Περὶ θεολοίας καὶ τῆς ἐνσάρκον οὶκονομίας τοῦ ϒlοῦ Θεοῦ) мы встречаемся с похожим христологическим мотивом в описании пришествия Спасителя, который связывается с историческим процессом. А именно: «конец не имеет вообще ничего общего с серединой, так как он не будет тогда уже концом. Середина не есть то, что [следует] за началом и имеет перед собой конец. Если же все века, времена и места, вместе со всем, что мыслится одновременно с ними, суть после Бога, который есть безначальное Начало, и имеет Его перед собой, как бесконечный Конец, то они ничем не отличаются от середины. Бог есть конец спасаемых, и никто от середины не будет уже созерцаться в них, оказавшихся в этом наипредельнейшем Конце» (Finis nihil prorsus cim medio habet simile, alioqui finis non esset. Sunt autem medium, quaecunque secundum principium retro finem sunt. Si quidem igitur cuneta saecula et tempora et loca, cum omnibus quae una cum eis intelliguntur, illisque comparantur, sunt secundum Deum, qui principium sit principia expers, remptissimeque ad eo, ut ad infinito fine, sequuntur; plane a medio nihil differunt: cumque adeo Deus finis electorum sit nukka medii ratio eis comes intelligentur, qui supremo fini similes exsiterint) [16, I, 69.].
Однако в том же тексте, во второй сотнице, мы можем встретить достаточно смелые (по крайней мере, по сравнению со всей предшествующей традицией) определение назначения и смысла обожения человека. Если Ириней Лионский и Афанасий Великий, это лишь подразумевали, а Кирилл Александрийский искусно заувалировал в форме «ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως» (неслиянно и нераздельно) [15, 72, 483], то уже Максим Исповедник заявляет открыто, что «Если Бог Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал Человеком и Сыном Человеческим, чтобы соделатьЧеловеков богами и Сынами Божьими» (Εὶ διἀ τοῦτο γέγονεν υἰος ἀνθρώπου καὶ ἂνθρωπος ὀ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ϒίὸς Θεὸς Λόγος Ἰνα ποήογ, θεοὺς καὶ υίοὺς θεοΰ τοὺς ἀνθρώπους) [16, II, 25]. В ряде других мест Максим Исповедник не раз повторит этот тезис, подчеркивая, что единственной надеждой на спасение человека в мире является обожение, которое делает человека богом [19, 60]. И ровно так, как Сам Бог сделался человеком, ровно также, и сам человек может сделаться богом, коль скоро Сам Христос своей праведной жизнью показал человеку такой пример, и (это самое важное) такую возможность [17, 257].
Сходный аспект обожения человека, правда, уже более осторожно, мы можем разглядеть в контексте «нравственной и христианской любви» Иоанна Златоуста. Однако Иоанн Златоуст [13, 37; 14, 448], а затем уже и Диадох [17, 91] скажут, что человек лишь «отчасти может уподобиться Богу», подразумевая земную жизнь Христа, но никак не акт полного уподобления ему и тем более становление Богом.
Модель Григория Богослова
Несколько трансформированную выше мысль мы обнаруживаем и в рамках каппадакийской школы. В частности, у Григория Богослова, у которого, пожалуй, эта тема получает наиболее содержательное развитие в тексте «Слово на Рождество Христово». Здесь мы сталкиваемся с темами «нового человека» и понимания нравственной, христианской жизни, как испытания себя (Orat. I). Однако апофатизм в познании Бога через процесс обожения и слияния человека с Богом у него идет гораздо дальше, чем у Иринея, Василия или Афанасия [12, Orat.XXVIII, Ε’. 32]. Григорий Богослов отмечает, что есть большая разница между тем, чтобы верить в существование Бога и собственно знать, что такое Бог [12, Orat. XXVIII]. Так как всякое положительное о Боге является ограничением Самого Бога, он избегает и (стремится к этому) какого-либо ограничения Бога в виде понятий, дефиниций и характеристик.
Несмотря на то, что человек не способен, по мнению Григория Богослова, познать Бога в нем самом всегда присутствует априорная способность и устремление для этого. Человек не может познать Бога окончательно, но человек может его познавать, бесконечно приближаясь к нему. Эта устремленность описывается им в метафизическом ключе, как «устремляющая взор сила». Конечно, из-за этой силы разумная, но несовершенная человеческая природа испытывает мучения и постоянно пускается на поиски, «чтоб или обратить взор на некоторую видимость и сделать это богом (καὶ τούτων τι ποιῆσαι Θεὸν, κακῶς εἰδυῐα), либо, исходя из видимого не потерять самого Бога» [12, Orat. XXVIII]. Именно поэтому как пишет Григорий, многие люди на заре своей истории начали поклоняться Солнцу, Луне, различным камням и другим вещам. Тем самым акт фетишизации укоренен в человеке. А в качестве объектов фетиша могут использоваться любые предметы. Исходя из текста неясно, в чем состоит отличие между фетишем и собственно верой. По мнению Григория Богослова, это отличие обнаруживается самим человеком на интуитивном уровне и не заслуживает отдельного исследования.
Несмотря на то, что познание Бога невозможно именно оно, по мнению богослова, представляет собой акт теозиса. В этом месте Григорий также не поясняет, каким образом человек как существо неспособное в силу своей несовершенной природы познает более совершенное, чем он существо, как познается то, что не познаваемо. Так или иначе, Григорий, опуская на его взгляд малозначительные моменты, приходит к тому, что человек посредством божественного откровения сможет отыскать Бога и увидеть его в полном свете. «Когда это богоподобное и божественное, то есть наш ум и наше слово, соединится сосродным себе, когда образ взойдет к Первообразу, к Которому теперь стремится (ἐπειδὰν τὸ θεοειδὲς τοῦτο καὶ θεῐον, λέγω δὲ τὸν ἡμέτερον νοῦν τε καὶ λόγον, τῷ οἰκείψ προσμίξη, καὶ ἡ εἰκὼν ἀνέλθη πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, οἶ νῦν έχει τὴν έφεσιν)» [12, Orat. XXVIII, ΙΖ].
Стоит отметить, что последнее через несколько веков поставит под сомнение Григорий Палама. Дело в том, что в отношении рационального познания Бога восточные отцы Церкви (в противовес западным) традиционно занимали сдержанную или нейтральную позицию. Однако в IV веке на примере того же Григория Богослова мы обнаруживаем совершенно иную ситуацию. Ситуацию, где акт обожения тесно связывается последним с гносеологической процедурой [19].
Со временем эта особенность растворится в мистическом содержании работ восточных богословов. Так уже в XIV веке, во многом благодаря Григорию Паламе, мы увидим, что познание природы естества человека как предела разумного и божественного характера его устройства отвергается как непосредственное свидетельство обожения. Особенно ярко эта позиция будет изображена им в его споре с Варлаамом Калабрийским в первой части трактата «Триады в защиту священнобезмолствующих», где в противовес рациональному познанию Бога Варлаама Григорий Палама предложит мистический путь, «светоностность» божественной благости и знаменитый «фаворский свет», который позже станет важным фундаментом для развития исихазма [17, III, 8, 15, 25–28; 33–35].
В трактате Григория Паламы «О божественной и обоживающей причастности» мы получаем ряд ответов на то, почему в восточной традиции так происходит. Здесь Палама, несмотря на то, что традиции исихазма и обожения возникают задолго до него, вносит несколько ограничений в понимание этих процессов. Прежде всего, человек не становится Богом в акте обожения в отличие от Христа, который становится человеком. Во-вторых, более явно заостряется тема взаимного движения Бога и человека по направлению к друг другу. Их взаимные энергии и устремления (божественной энергии, направленной к человеку, и человеческой энергии, направленной к Богу) учреждают синергию. Именно в синергии человек и Бог соединяются. Однако соединение человека и Бога – это уже не «вочеловечивание» Афанасия Великого, Максима Исповедника или Григория Богослова. Человек не перестает быть человеком. Бог не перестает быть богом. Человек и Бог не меняются местами. Соединяются лишь их божественные благодати.
Однако, вернемся к Григорию Богослову и его пониманию обожения, как познанию Бога. Григорий говорит, что до Христа еще никто не оказывался способен соединиться с Богом: ни Ной, который был богоугодным, ни Авраам, который не видел Бога, но описал его как человека, ни Иаков, ни Илия, ни даже Петр – не видели естества Бога, а потому не знали его. Именно поэтому, проект обожения Григория Богослова в меньшей степени конкретен и определен. Сам проект здесь рассматривается скорее не как проект, который осуществляется благодаря чему-то, но как проект, который осуществляется вопреки обычному и нормальному ходу вещей. И хотя обожение является актом позволяющим человеку обрести Спасение (т.е. актом необходимым, прежде всего, самому человеку, чем Богу), от самого человека здесь ничего (или практически ничего) не зависит. Исходя из этого, по мнению Григория, нет и не может существовать какого-то учения или методологии достижения состояния теозиса. Проект обожения для человека невозможен.
И хотя, как пишет Григорий, мы не знаем, что есть Бог во плоти, однако Спаситель, ставший после Пришествия человеком, молится за людей и ради людей, их спасения будет молиться до тех пор «пока не стану я богом, подобно тому, как Он вочеловечился» (έως ἀν ἐμὲ ποιήση Θεὸν τῆ δυνάμει τής ἐνανθρωπήσεως) [12, Orat. XXX, 43]. В последнем пассаже все более очевидным становится то, что Воплощение человеческого Христа не просто создает для человека определенную возможность для того, чтобы стать Богом, но создает Бога, как главную и основную цель его устремлений на пути к Спасению. Из обнаруживаемой генетической связи между вочеловечиванием и обожением сам человек оказывается сопричастным божественной Славе, место которой занимает слава человеческая [20].
Выводы
Историко-философский анализ различных моделей обожения человека (теозиса) в восточной христианской патристике позволяет сделать следующие основные выводы:
Во-первых, центральным элементом в размышлениях восточных богословов выступает идея «вочеловечивания Слова», которая у Афанасия Великого осмысляется не как механическое уподобление, а как онтологическое и гносеологическое событие, направленное на восстановление испорченной человеческой природы через божественную благодать и знание о Боге.
Во-вторых, модель теозиса Максима Исповедника приобретает форму прямого утверждения возможности становления человека богом, как отклика на акт воплощения Слова.
В-третьих, Григорий Богослов расширяет модель Максима Исповедника, вводя в нее апофатическую гносеологию и описывая обожение как процесс бесконечного стремления ума к Богу.
В-четвертых, уже позднее Григорий Палама завершает этот ряд, утверждая мистико-энергетическую модель синергии, при которой человек приобщается к Богу не по сущности, а по энергии.
В целом, данное исследование наглядно демонстрирует, как раннехристианская мысль трансформировала античные и иудейские представления о природе человека, придав понятию теозиса не только сотериологическое, но и историко-антропологическое измерение.
Заключение
Богословское содержание афанасиевской концепции, а также иных моделей воплощения (Максима Исповедника, Григория Богослова), тесно связано с христианской идеей спасения как победы жизни над смертью, а также ролью исторического события пришествия Христа в контексте духовного возрождения человека. Исследование показывает, что воплощение выступает здесь не только как проявление божественной любви, но и как гносеологический акт, раскрывающий путь к участию человека в божественной жизни через познание и слияние с Богом. В отличие от западных традиций, на Востоке акцент делается на победу жизни над смертью посредством духовного знания.
Дальнейшее исследование проблемы теозиса и его генезиса представляет собой перспективное направление в рамках как богословия, так и философской антропологии. Особый интерес здесь вызывает сравнительный анализ восточной и западной моделей обожения, а также их влияние на формирование культурно-исторических и гносеологических парадигм. Значимыми остаются исследования взаимосвязи между познанием Бога и духовным преображением человека, особенно в контексте апофатической традиции и мистической теологии. Теозис может быть также переосмыслен в свете современных философских и междисциплинарных подходов, включая феноменологию, герменевтику и постгуманистическую проблематику. Всё это открывает возможности для комплексного осмысления обожения как фундаментального принципа христианской антропологии и сотериологии.
About the authors
Andrei Sergeevich Emel'yanov
Email: andrei.e1992@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1455-3437
References
Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.; СПб.: Степной ветер; Коло, 2005. EDN: QWKWMR. Ириней Лионский. Contra Haer. // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1857. Т. 7b. Адо П. Философия как способ жить. М.: Социум, 2010. Strezova A. Hypostatic Union and Pictorial Representation of Christ in Iconophile Apologia. Philotheos, 2009, Vol. 9. Pp. 152-172. Doi: https://doi.org/10.5840/philotheos2009911 Clarke K. M. A Patristic Synthesis of the Word Enfleshed: The Christology of Maximus the Confessor. Religions, 2025, 16(5), 591. Doi: https://doi.org/10.3390/rel16050591 Korb S. Whole God and whole man: Deification as incarnation in Maximus the Confessor. Scottish Journal of Theology, 2022, 4(75). Pp. 308-318. doi: 10.1017/s003693062200059x EDN: TJSVEQ Chistyakova O. Eastern Church Fathers on Being Human-Dichotomy in Essence and Wholeness in Deification. Religions, 2021, 12(8), 575. Doi: https://doi.org/10.3390/rel12080575 EDN: BCMFXE Baranov V. The Theological Ontology of Leontius of Byzantium and the Circumscribability Argument in the Iconophile Polemics. Schole. Философское антиковедение и классическая традиция, 2022, 2(16). C. 462-481. doi: 10.25205/1995-4328-2022-16-2-462-481 EDN: WAJQBG Флоровский Г. II. Афанасий Александрийский // Восточные отцы IV века. Из чтений в Православном богословском институте в Париже. Париж: YMCA-Press, 1931. Афанасий Великий. Oratio de Incarnatione // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1857. Т. 25a. Григорий Богослов. Oratio // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1857. Т. 36. Иоанн Златоуст. Sermones panegyrici in Solemnitates // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1862. Т. 50. Иоанн Златоуст. Interpretatio in Isaiam prophetam // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1862. Т. 56. Кирилл Александрийский. Commentarius in Lucam // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1864. Т. 72. Максим Исповедник. Quaestiones ad Thalassium de Scriptura sacra // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1865. Т. 90. Максим Исповедник. Opuscula theologica et polemica ad Marinum col // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1865. Т. 91. Григорий Палама. Ilomiliae quadraginta trex ex editione Hieroso // Patrologiae cursus completus. Ser. Graecae / J. P. Migne, ed. П. 1865. Т. 151. Col. 2. Петров В. В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века. М.: ИФРАН, 2007. 200 с. EDN: SUPFNN. Соколов В. В. Средневековая философия. М.: Высшая школа, 1979. Chapman H. Iconoslam and Later Prehistory. London: Routledge, 2018.
Supplementary files